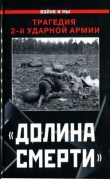Текст книги "Спасение Ударной армии"
Автор книги: Перец Маркиш
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
– Я знаю эту песню, – сказал Саша, немного подождав. – Красивая.
– Романс, – уточнил каменщик. – А вы вчерашнего хоронили, с базара?
– Ну да, – сказал Саша. – Я там тоже работаю.
– У нас тут поспокойней, – кивнул каменщик. – Бомбы не рвут, гранаты не кидают. Тихо. Во всяком случае, пока что…
– А почему здесь нет травы? – спросил Саша Ривкин.
Кладбищенский каменщик, распевающий романсы, должен был знать ответ на этот вопрос.
– Всему свое место, – пожал плечами каменщик, – так я вам скажу. – Траве – в лесу… Но я вообще-то по этой части не специалист, я раньше другим делом занимался.
– Вы певец? – снова спросил Саша.
– С чего это вы взяли! – досадливо отмахнулся каменщик. – Я мемориальные доски рубил в Ростове, вот что я делал. – И добавил, уже без досады: – Вы ведь тоже не всю жизнь петрушкой торговали, а?
– Не всю, не всю… – сказал Саша. Ему не хотелось рассказывать ростовскому скульптору про город Электроугли. – А вон, за оградой, деревья растут – там что? Парк?
– Какой там парк! – сказал каменщик. – Просто хоронят за забором не по обряду – русских, например, или хоть китайца зароют. Мимо земли никого не пронесут… Есть и евреи чистокровные.
– Чистокровные? – переспросил Саша Ривкин.
– Ну да, – сказал каменщик. – По завещанию, или если родственники решили. Некоторые хотят с эпитафией, а другие памятник ставят. Можно сходить посмотреть.
Идти было недалеко. Под сытыми, сильными деревьями и разросшимися кустами бугенвилий могилы, расположенные вразбивку, не вплотную друг к другу, имели живописный привольный вид. Некоторые были украшены цветами, в изголовьях других стояли апельсиновые деревья с оранжевыми мячиками плодов в круглых кронах. Надгробие над могилой художника имело форму палитры, пианиста – черно-белых клавиш. Надписи на камнях были сделаны на разных языках, Саша Ривкин внимательно читал прощальные напутствия умершим и со значением подобранные цитаты из классиков литературы. Встречались фамилии русские, еврейские, английские. На одном из надгробий Саша прочитал: “Ривкин Вениамин Моисеевич. 1915-1986”. Рядом с могилой была врыта в землю приземистая лавочка, сбитая из старых железнодорожных шпал.
Саша сел на лавочку. На душе у него сделалось покойно и светло, словно бы он пришел в гости к родственнику, помнящему семейные узы, но никому не досаждающему назойливыми телефонными звонками и просьбами. Доброму родственнику, редкие встречи с которым приятны и теплы. Может, этот Вениамин Моисеевич, действительно из его, Саши Ривкина, рода? Как хорошо вот так нежданно-негаданно ощутить близость родной души… Прямоугольник могилы был сплошь засажен цветами – красными, желтыми и голубыми. По левую руку от надгробия место было свободно, там зеленела на земле молодая травка. Сгорбившись на шпале, Саша переводил взгляд с могилы на эту свободную землю. Ощущение родства с неведомым Вениамином усиливалось в нем, поднималось, как столбик ртути в термометре, он испытывал благодарность к этому человеку за то, что тот пришел сюда и здесь остался. И полоска пустующей зеленой земли, прилепившейся к обводу могилы, уже не была ему чужой, а стала родной и необходимой, словно бы он в конце концов узнал ее в лицо и привязался к ней душою.
Домик кладбищенской конторы стоял у ворот, среди деревьев. На письменном столе управляющего светился экран компьютера. Управляющий поглядел без вопроса на вошедшего Сашу Ривкина – нечего тут спрашивать, люди приходят сюда по одному-единственному делу и сами все рассказывают.
– Тут у вас лежит Ривкин Вениамин Моисеевич, – сказал Саша. – И я…
– Минуточку, минуточку… – сказал управляющий и защелкал клавишами. – Третий участок, шестая единица.
– Слева свободное место есть, – сказал Саша.
Управляющий снова уставился на экран.
– Да, – сказал управляющий. – Свободное.
– А можно его получить? – со страхом ожидая отказа, спросил Саша.
– Можно купить, – сказал управляющий. – Вы родственник?
– Родственник, – сказал Саша.
– Тогда вам полагается скидка, – сказал управляющий. – Можно, если хотите, платить по частям.
– Вот у меня есть справка, – сказал Саша и протянул управляющему бумажку, полученную в банке. – Тут все, что мне дали по “корзине абсорбции”. Этого хватит?
– Еще останется, – заглянув в бумажку, сказал управляющий. – Будем оформлять?
– Да, конечно, – поспешно сказал Саша Ривкин. – Но вы скажите, пожалуйста – можно там будет посадить что-нибудь? Ну цветы, например?
– Ваша земля, – сказал управляющий, – что хотите, то и сажайте. Хоть арбуз. Только марихуану нельзя, это запрещено. Полиция проверяет.
– Ну что вы… – сказал Саша Ривкин. – Насчет этого не беспокойтесь.
– Тогда давайте заполнять, – сказал управляющий и достал из сейфа форменный бланк с красивой виньеткой из цветов и листьев.
Часом позже Саша вернулся по знакомой дорожке к шестой могиле третьего участка. В его кармане лежал документ с гербовой печатью, удостоверяющий, что он, Александр Ривкин, приобрел в полную собственность на вечные времена земельную единицу номер семь третьего участка кладбища “Зеленый мир”. Саша освобожденно опустился на лавочку и так сидел. Кругом никого не было видно. Посвистывали и перекликались птицы в густой листве.
– Теперь я землевладелец, – сказал Саша Вениамину Моисеевичу и улыбнулся счастливой улыбкой. – Помещик Ривкин.
На своей седьмой грядке Саша Ривкин посадил три куста картошки, помидоры, баклажаны и укроп. Он часто приезжает сюда, окучивает, выдергивает сорняки, проверяет, достаточно ли воды. А потом, сидя на шпале, глядит на свой огород.
Может, он и сейчас там сидит.
Спасение Ударной армии
Глухой ночью змея укусила солдатку Розенцвейг за гениталию. Казалось бы: ну что тут такого? Война все спишет…
Ночь была приятная, немного ветреная. Ветер дул и дудел, звезды красиво сверкали над Синайским полуостровом. Солдатка Розенцвейг вышла из палатки на волю, стала там оправляться, и ее тяпнула змея.
– Сразу видно, что она не из Галиции, – узнав о происшествии, заметил сержант Мишка Гербер, хустский уроженец. – Галичанские бабы писают стоя. Если б она тоже писала стоя, никакая змея ее бы не достала. – Мишка Гербер считал себя истинным галичанином, и это обстоятельство как бы приподнимало его над синайской песчаной равниной.
А со змеей было все не так просто. Командир батальона подполковник Дуду Бар-Муха, по кличке Тембель [1]
[Закрыть], еще третьего дня обошел солдатские палатки и все объяснил: “Вы, ребята, даже не сомневайтесь. Я сам из Марокко, я знаю: тут змей никаких нет и быть не может. Я это вам прямо говорю. Скорпионы – да, это дело другое. Но где их нет, скорпионов! Тут надо под ноги глядеть, не зевать”.
Солдатка Розенцвейг тоже, надо думать, не зевала, а вон что вышло. Мало того. Назавтра вечером, уже после истории с солдаткой, в нашей палатке обнаружился змеенок. Солдаты, числом восемь, включая Мишку Гербера, валялись на двухъярусных койках. Откуда ни возьмись появился змеенок, чиркнул по земляному полу. Солдаты, живенько подобрав ноги, заорали на своих койках, а змеенок от этого ора и почему-то хохота юркнул в ближайший красный ботинок, валявшийся около койки. Не сговариваясь, солдаты выдернули из-под своих тощих матрасиков автоматы М-16 и открыли ураганный огонь очередями по десантному ботинку. Это правильно, что автоматы кладут под матрас, чтоб всегда были под рукой.
На шум прибежал Тембель, имевший нехорошее обыкновение шататься по лагерю в темноте и выуживать солдат, вышедших подышать воздухом без каски на голове. Такие любители свежего воздуха могли, с подачи Тембеля, угодить под трибунал и схлопотать денежный штраф или двое суток губы. Приятного мало.
– Вы чего? – заглядывая в палатку, но не входя, спросил Тембель.
– Змея! – укоризненным хором объяснили мы со своих коек. В этой укоризне заключалось и то, что змея ужалила солдатку Розенцвейг, и то, что уверения подполковника – тут, мол, этих тварей не сыщешь и днем с огнем – оказались пустым звуком.
Тембель ковырнул носком разнесенный в клочья ботинок.
– Исключительный случай, – постановил Тембель. – А вы уже испугались. Израильские солдаты боятся какой-то вшивой змеи! Учебный фильм все видали?
Нечего было и гадать, какой именно фильм имел в виду Тембель. Он имел в виду потрясающую трофейную ленту, на которой египетские десантники, пробегая верблюжьей парадной рысью мимо трибуны с начальством, выдергивали из-за пазухи живых змей и сжирали их на бегу, начиная с головы. Глядя на эту мрачную трапезу, нельзя было не взгрустнуть о том, что господь Бог послал нам таких жутких соседей.
Войска соседей стояли тут же, за Суэцким каналом. Посреди канала нелепо торчал из воды притопленный кубинский сухогруз. Гражданских вообще нигде не было видно, они куда-то ушли или попрятались, как сквозь землю провалились. По белым улицам пустых прибрежных городов бродили только кошки да ослы. Собаки не появлялись: арабы не любят собак, считают их нечистыми. Кто-то нам рассказывал, что если араб случайно прикоснется к собаке, то он потом не может совершать намаз. У каждого свои заморочки.
Соглашение о прекращении огня было уже подписано на 101-м километре от Каира, в пустынной степи справа от шоссейной дороги. Там разбили огромную палатку, настоящий шатер, как в древние времена, когда в ходу были кожаные рубли и деревянные полтинники, а солдаты скакали с пиками на лошадях, а не ездили в танках и самоходках. Вечерело, египтяне выставили шеренгу с одной стороны шатра – почистились, построились и ровно стояли, несмотря на поражение. А наши раскидались кучками по всей степи до горизонта вокруг костерков, на которых варили кофе – грязные, заросшие, только-только из боя. Вся степь была в этих костерках, как будто тут конники Чингисхана спешились на ночь и варят свою кашу…
Подписывать соглашение прилетел начальник военной разведки генерал Аарон Ярив. Он по-молодому выпрыгнул из вертолета, поглядел на вытянувшихся по стойке “смирно” почищенных египтян, усмехнулся и прошел в шатер. В шатре он недолго пробыл – обсуждать было нечего, а подготовленные документы лежали на столе.
Война к тому времени уже почти закончилась: Арик Шарон, форсировав Суэцкий канал, проутюжил своими танками его африканский берег, нашпигованный зенитными ракетами. Теперь нашим самолетам ничего не мешало атаковать стратегические объекты в глубине Египта. На Синае слышалась еще кое-где стрельба: то пытались пробиться к своим, на запад, отбившиеся от разбитых и разметанных частей группки египетских солдат. Пленных не брали, у сдававшихся тысячами египтян отбирали оружие и ботинки и отпускали: идите домой! И это было умно: пленных надо кормить и охранять, а без оружия и босиком в пустыне много не навоюешь.
Самую большую головную боль причиняла нашему начальству Ударная египетская армия. Прижатая к каналу с синайской стороны, поредевшая, обескровленная и обезвоженная, она все же представляла собою боевую единицу. Что с ней делать, не знал никто. Одни предлагали распустить ее по домам, другие – сжечь напалмом; а время шло, и поползли уже разговоры, что израильтяне специально, с дальним прицелом, ничего не делают и что в Ударной вот-вот начнется повальный мор. Нам, в наших палатках, плевать было на то, что случится с Ударной армией в сорока километрах от нас. Мы уже полтора месяца не получали увольнительных, и поездка домой на сорок восемь часов стала для нас нежной мечтой, которую даже не стоило представлять вживе, чтоб не спугнуть.
Однако же и на Синае, вблизи священной горы, на отрогах которой не остыли еще следы пророка Моисея со скрижалями в руках, всякая вещь имеет свой конец. Дождались и мы: нас отпускают на пятницу и субботу, за нами придет транспортный “Геркулес” по прозвищу “Гиппопотам”, или, сокращенно, “Гиппо”. Сорок минут полета – и мы дома. Ура!
Уже с утра мы то и дело поглядывали на небо: не летит ли транспортник. “Гиппо” должен был приземлиться в четыре, и нам объявили, чтоб мы были готовы. Да мы и так были готовы: оружие при нас, электробритва, кое-какая трофейная на память мелочевка с того берега канала, из Африки. Какая мелочевка? Ну какая… Брикетик мыла “Земляничное” саратовской, что ли, фабрики, или солдатская штормовка, тоже советская. Мы под Порт-Саидом военный склад вскрыли, а там одни штормовки эти и мыло, больше ничего нет. Ну все же трофеи! И уже на выходе внимание обратили: на двери бумажка висит, на ней написано “Заминировано”. Ну, думаем, пронесло… Оказывается, это наши ребята из полевой контрразведки бумажку прилепили, чтоб не лазили кому не положено. А чего там лазить, кому это мыло нужно? Может, сами египтяне склад успели грабануть, оставили одно барахло.
А то, что было там еще кое-что, это точно. Сапоги, например. Настоящие русские сапоги! Низкие такие кирзачи, на две ладони ниже колена. Гербер Мишка под пустыми полками нашел пару. Отличные, между прочим, сапоги, их носить – не переносить, года на два хватит, а наши ботинки рассчитаны только на шесть месяцев. Полгода – расчетный срок. Если полгода прошло, а солдат топает себе дальше, ничего с ним не случилось, – ему новые ботинки выдадут. А если случилось, то тогда и новые ботинки ни к чему. И в этом, если вдуматься, ничего такого нет особенного. Зачем мертвому солдату новые ботинки? Средний срок жизни солдата по статистике – полгода, и если ботинки всем подряд шить, предположим, на год, то это дороже обойдется налогоплательщику. А чего ради? Чтоб совесть спокойная была у госконтролера? Так ведь это для нас шьют, для солдат, а у нас и так совесть – броня; так что все в порядке.
Да это нас и не волнует, сказано же: каждой вещи свой срок. Если бы Господь Бог хотел сделать нас бессрочными, он дал бы нам алмазные зубы – а у нас скребки какие-то во рту, от них одни неприятности, не говоря уже о том, что никаких денег на ремонт не напасешься. Пока в армии, чинят за счет казны, а после демобилизации делай, что хочешь.
Я люблю армию. Не из-за зубов, конечно, я ее люблю. У нас в армии все, строго говоря, равны – как в бане: там тоже кипяток на всех один. А что наш Тембель придурок, так это ничего не меняет: дурак – он и в Африке дурак, и это в прямом смысле. Вон она, Африка, за каналом, и, если Тембель перейдет на ту сторону по понтонному мосту, он умней от этого не станет.
Да, в армии все равны, хотя один приказывает, а другой как бы беспрекословно подчиняется. Для того чтобы в армии тебе было легко и хорошо, надо валять дурака и в этом состоянии все время пребывать. Вот и я валяю дурака, и объясняюсь по-дурацки, и прекрасно себя чувствую. А если начнешь рассуждать о философии войны и насилия, о крови и проверенных военных хитростях, когда надо обмануть человека, заманить его в западню и убить из-за угла, это – беда.
По существу, солдаты – те же испорченные дети, армия – детский сад. Тут и ходят строем, и поют всякую муру по принудиловке. Дети должны слушаться. Пой – и всё, хотя у тебя нет к этому никакой склонности. И наказание тебе светит, если что не так, и старшие поймают. Только в детстве нас тянуло отодрать у мухи крылышки, у кузнечика – голову, а то и кошку стукнуть ни за что ни про что палкой с гвоздем. А в армии главная задача – укокошить врага на законном основании.
Все мы с блуждающей улыбкой на поблекших щеках мечтаем вернуться в детство хоть ненадолго. Вот и возвращаемся в армии. “Р-рота! За– певай!” Топ-топ, топ-топ. Взрослым людям неестественно ходить гуськом под музыку, уставившись в затылок друг другу. На гражданке так пойдешь – подумают, что психи сбежали из сумасшедшего дома. А детям можно, и многие даже думают, что это трогательно и красиво.
К посадочной полосе мы потянулись врассыпную и без песен. Увольнительную получили шестнадцать солдат – две палатки. Подходя, мы уже по-деловому смотрели то на часы, то на небо: ну где же “Гиппо”, чего ж не летит, черт его возьми! До Тель-Авива час лета, а оттуда многим из нас еще предстояло добираться до дому два-три часа. Стоя у края полосы, мы нетерпеливо переступали с ноги на ногу, как будто самолет уже приземлился, и мы сейчас толпой бросимся садиться.
Наконец с небес прилетел далекий рев моторов, и мы сразу расслабились: вон он, вон он! Хотелось погрузиться как можно скорее и подняться в воздух.
И тут явился Тембель.
– Ну как, ребята, готовы?– подозрительно сладко спросил Тембель. – Молодцы! – И продолжал уже неприятным голосом: – Тут у Ударной армии проблемы, смертность у них подскочила, теперь весь район провоняют… Надо им помочь, кровь сдать. Спасти то есть. На добровольных, конечно, началах.
Новость била наповал.
– Как это? – спросили солдаты вразнобой. – Кому?
– Им, – не стал вдаваться в подробности Тембель. – Ударной. Спасти, я сказал.
– Да нет! – немного оклемавшись, выступил вперед Мишка Гербер. – Кому сдавать-то?
– Не понимаешь? – нехорошо прищурился Тембель. – Нам! Добровольно!
– Вот это да! – сказал Мишка Гербер и поглядел на нас злыми глазами. – Вот это по-нашему! Пусть гражданские сдают, мы-то тут при чем? Кровь!
“Геркулес” тем временем зашел на посадку, сел и поехал по неровной земле. Оставалось подняться в самолет, пристроиться на железных седачках, укрепленных вдоль бортов, и улететь домой.
– Не хочешь – не сдавай, – сказал Тембель. – Я ж говорю: дело добровольное. Но кто не сдаст, домой не поедет. – Крутанувшись на каблуках, он размашисто зашагал к штабному бараку. И мы, понурив головы, угрюмо поплелись за нашим командиром Дуду Бар-Мухой.
– Главное, чтоб самолет без нас не ушел, – пробормотал Мишка Гербер. – Ну что ты будешь делать!
– А то ты не знаешь, – подбодрил я Мишку Гербера. – Пол-литра сдал – и свободен. И еще чашку кофе дадут с бутербродом.
– На черта мне этот бутерброд? – сказал Мишка Гербер и в сердцах махнул рукой. – Я, как увижу кровь, сразу сознание теряю.
Это было что-то новенькое: Мишка Гербер прошел всю войну в боевых частях, и быть такого не могло, чтоб он крови не видал.
– Какую кровь-то? – спросил я, стараясь разобраться в услышанном. – Чужую или свою?
– Всё равно какую, – сказал Мишка Гербер. – Теряю – и все. Это вроде такой болезни. И внутри все едет.
– А если не смотреть? – предложил я обман. – У тебя берут – а ты в это время отвернись.
– Не поможет, – кисло поморщился Мишка Гербер. – Ты отворачиваешься, а тебя все равно тянет смотреть. Так тянет, что не утерпишь. Я-то уж знаю.
Палатка, оборудованная под полевой лазарет, стояла сразу за штабным бараком. Раскладные походные койки были готовы принять доноров в свои парусиновые ладони. На дощатом ящике, на голубом подносе, покрытом марлей от мух, тесно лежали бутерброды с сыром. Все было готово. Фельдшер, покуривая, ждал.
Не снимая обуви, мы молча улеглись. Фельдшер быстро переходил от койки к койке, наклонялся и делал свое дело. Я глядел, как наша кровь шибко бежала в пластмассовые прозрачные мешочки.
Когда очередь дошла до Миши Гербера, он как-то затравленно огляделся и, поймав мой взгляд, подмигнул мне. Я слышал, как он скрипнул зубами, протягивая фельдшеру выпростанную из рукава гимнастерки руку. Головы он так и не отвернул и зачарованно следил за тем, как длинная игла шприца глубоко вошла в его вену. Потом кровь показалась в трубочке и уверенно поползла по ней вверх, к мешку, а тело Миши вдруг выгнулось, а потом обмякло, и голова откинулась на подушечный валик.
– Э! – окликнул я фельдшера. – Он сознание потерял!
– Ничего, – переходя ко мне, сказал фельдшер. – Это бывает. Пройдет.
“Гиппо” ревел всеми своими четырьмя моторами, в грузовом отсеке стоял ровный грохот. До посадки оставалось еще минут двадцать. Мы плечо в плечо, сидели вдоль борта, а у наших ног, на железном полу, лежал на носилках Мишка Гербер. Он еще не пришел в себя, фельдшер вкатал ему что-то успокоительное, и он теперь спал. Дикий шум, как видно, не тревожил его.
Ударная армия была спасена.
•
[1]
[Закрыть] Т е м б е л ь (иврит) – простецкая крестьянская шляпа. В переносном смысле – «придурок».