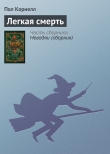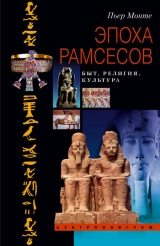
Текст книги "Эпоха Рамсесов. Быт, религия, культура"
Автор книги: Пьер Монте
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
6. Лен
Лен вырастал толстым и высоким. Собирали его, как правило, во время цветения. На цветных изображениях полевых работ в гробницах Ипуи и Петосириса мы видим стебли льна с маленькими голубыми цветочками, которые высоко вздымаются среди васильков.
Чтобы вырвать лен из земли, его захватывали обеими руками довольно высоко, стараясь не повредить волокнистый стебель. Затем с корневищ стряхивали землю и укладывали стебли в ряд, ровняя от корней. Затем собирали стебли в снопики так, чтобы цветы торчали с обеих сторон, и связывали посередине жгутом, также свернутым из стеблей. Египтяне знали, что качество и прочность льна повышаются, если собирать его слегка недозрелым. Один из древних текстов подтверждает это: в нем рекомендуется собирать лен в пору цветения. Однако часть урожая следовал о сохранять до полной зрелости, чтобы получить семена для следующего посева, а также для лечебных целей.
Работники уносили снопики льна на плечах, дети водружали их себе на головы. Те, кому посчастливилось иметь ослов, наполняли льном переметные корзины и приказывали погонщикам следить, чтобы ни один снопик не выпал по дороге. На месте их уже ожидает человек, который чешет лен на наклонной доске. Один из носильщиков кричит ему: «Поторопись, старик, и не болтай слишком много, ибо люди с полей идут быстро!» На что тот невозмутимо отвечает: «Принеси мне хоть одиннадцать сотен и девять снопов, я вычешу их все». Служанка Реджедет, которая, похоже, была одержима каким-то демоном невезения, выбрала как раз такой момент, чтобы сообщить брату тайну своей госпожи. Брат заставил ее жестоко поплатиться за то, что она отрывает его от работы, благо в руках у него как раз был снопик льна – самое подходящие орудие, когда необходимо хорошенько отхлестать кого-нибудь за нескромность.
7. Вредители
Мы уже убедились, что урожай в Египте подвергался угрозе со стороны целого сонма врагов. Когда ячмень созревал, а лен покрывался цветами, грозы и град обрушивались на страну, грозя «побить во всех землях египетских все, что было в поле, а равно человека и зверя». Это было седьмое из бедствий, которые Бог иудеев наслал на Египет, но сердце фараона не дрогнуло, потому что кукуруза и пшеница созревали поздно и потому избежали ущерба. Тогда восточный ветер принес тучи саранчи, которая уничтожила все, что еще уцелело, так что «не осталось ни зеленого листка на дереве, ни травинки в поле во всей земле египетской».

Ловля птиц ( Лепсий.Иллюстрированный журнал, II)
Перед лицом таких врагов крестьянин мог только просить заступничества у богов, и прежде всего взывать к богу саранчи. Однако с некоторыми нежеланными гостями, посещавшими его сады весной и осенью, – иволгами ( гену) и сизоворонками ( сурут), птицами с блестящим опереньем из отряда вороньих, – он мог бороться и сам, причем довольно успешно. Эти птицы были весьма полезны, поскольку истребляли многих вредных насекомых, однако они наносили большой вред садам. Художники часто изображают, как они кружатся над фруктовыми деревьями и пожирают их плоды. Охотники ловили их в большие сети, растянутые высоко над деревьями с помощью высоких кольев. Сеть не мешала птицам добраться до плодов, но, когда птиц собиралось много, дети тихонько подбирались к дереву и выдергивали колья. Сеть падала, накрывая дерево вместе с птицами. Охотники залезали под сетку, собирали птиц, словно спелые фрукты, и сажали в клетки. Кроме сетей, египтяне пользовались ловушками с пружиной, известными с глубокой древности.
В сезон миграций огромные стаи перепелок прилетали в Египет. Утомленные долгим перелетом, они были настолько истощены, что порой падали на землю. Разумеется, египтяне предпочитали ловить здоровых птиц. Рельеф, хранящийся в Берлинском музее, показывает нам шестерых охотников с сетью с мелкими ячейками, натянутой на деревянную раму. Особого внимания заслуживает их наряд: они обуты в сандалии, чтобы ходить по жнивью, и подпоясаны белыми платками. Когда большие стаи перепелок появлялись над сжатым полем, ловчие неожиданно выскакивали из укрытия и начинали размахивать своими белыми платками, вызывая среди птиц ужасную панику: испуганные, птицы начинали метаться и в конце концов попадали в сети, запутывались лапками в мелких ячейках, мешали друг другу и не могли высвободиться. Четверо ловчих осторожно поднимали раму с сетью, а двое вытаскивали из нее пойманных перепелок. В крестьянских семьях очень любили перепелиное мясо, да и боги ими не брезговали. Так, за время царствования Рамсеса III в жертву Амону были принесены 21 700 перепелок, то есть почти шестая часть общего числа птиц, пожертвованных великому богу.
8. Животноводство
В самые древние времена египтянам приходилось опытным путем выяснять, каких животных можно приручить и одомашнить, а каких нельзя. Многие попытки оканчивались неудачей. На охоте товарищем человека стала собака. Бык и осел оказались полезны для перевозки тяжестей. Бедуины высоко ценили овечью шерсть, но египтяне считали, что она не подходит ни для живых, ни для мертвых; овцам они предпочитали коз. Кроме этих животных, которых удалось быстро одомашнить, как и свинью, египтяне ловили на охоте и пытались приучить к жизни в неволе газелей, оленей, сернобыков, антилоп, аддаксов (вид антилоп, напоминающих сернобыка), козерогов и даже внушавших им отвращение гиен. Уже в эпоху Среднего Царства правитель нома Орикс содержал в своих загонах несколько прекрасных животных, в честь которых был назван этот ном (сернобыков, или ориксов). Ко времени Нового царства, однако, египтяне отказались от подобных опытов. Один из учителей выговаривает нерадивому школяру в таких выражениях: «Ты хуже антилопы, что живет в пустыне и ни на миг не остановится на месте. Она никогда не станет пахать, ни вытаптывать зерно на току». Теперь египетские скотоводы имели дело лишь с самыми полезными для человека животными; это были лошадь, бык и осел, коза, овца, свинья, гусь и утка. Верблюд был известен только жителям восточной части Дельты. Домашние куры появились намного позднее. Не следует думать, что на других животных не обращали никакого внимания: в храмах, где они почитались символами разных богов, за ними заботливо ухаживали и даже испытывали к ним определенную привязанность – однако сейчас мы ведем речь лишь о разведении животных для сельскохозяйственных целей.
Лошадей в Египте начали использовать незадолго до эпохи Рамсесидов и, несмотря на то что азиаты нередко присылали их царю в виде дани, они не получили широкого распространения. У Хеви была конюшня, стоявшая отдельно от хлева для быков и загона для ослов; но Хеви был как-никак царским сыном и наместником Куша и занимал одно из первых мест в государстве: он был один из немногих привилегированных, кто выезжал на своей колеснице, направляясь во дворец, на прогулку или на осмотр своих владений. Владельцы лошадей не решались ездить на них верхом – нам известны всего два-три египетских изображения всадников. Здесь кочевники превосходили египтян в отваге, и, если в разгар боя колесница оказывалась поврежденной, они выпрягали из нее лошадей, вскакивали на них верхом и уносились прочь. На лугах лошадей пасли отдельно от остальных животных.
Хлев для быков обычно находился неподалеку от хозяйского дома, в пределах одной ограды с хлебным амбаром и нередко даже примыкал к нему. Там же ночевали и слуги, которые стерегли быков и выводили их по утрам. В маленьких глинобитных хижинах, черных внутри и снаружи, они хранили еду и готовили себе нехитрый ужин. На одной из росписей мы видим, как слуги, тяжело нагруженные, бредут впереди стада или подгоняют отставших. Чтобы облегчить ношу, они распределяли ее на две равные части и, разложив в кувшины, корзины или узлы, несли на коромыслах. Если у них была только одна емкость – узел, кувшин и т. д., – они несли его на палке, перекинутой через плечо. Так делал Бата, но ведь он был настоящим силачом! Женщины на него заглядывались. А большинство пастухов – несчастные бедняки, заморенные работой: лысые, больные, с редкой бороденкой, с большим животом, а иногда такие тощие, что страшно смотреть! В одной из гробниц Меира беспощадный художник изобразил их в таком виде без прикрас.
Жизнь пастухов нельзя было назвать монотонной. Если пастух любил своих животных, он постоянно с ними разговаривал и, зная места, где растет лучшая трава, водил туда своих любимцев. Животные отвечали ему преданностью и тем, что быстро росли, нагуливали жир, приносили большой приплод. А при случае сами оказывали пастуху добрую услугу. Для пастуха всегда бывал нелегким переход через болота; там, где люди и взрослые животные проходили без труда, теленок мог утонуть. Поэтому пастух взваливал его себе на спину, сжимал покрепче его ноги и отважно входил в воду. Корова-мать следовала за ним с жалобным мычанием, испуганно тараща глаза, за нею устремлялись и остальные коровы. Мудрые старые быки в сопровождении других пастухов шли спокойно, соблюдая порядок. Если место было глубокое, а рядом заросли тростника и папируса, следовало опасаться крокодилов. Но пастухи тогда знали, какое слово следует сказать, чтобы крокодил тотчас превратился в безобидное растение или ослеп. Полагаю, эти магические слова не были позабыты и в эпоху Рамсесидов, однако документы на этот счет молчат. В гробнице в Эль-Берше сохранился текст песни одного пастуха, который исходил много земель: «Вы топтали пески всех пустынь, а теперь вы топчете травы. Вы едите густые травы, теперь, наконец-то, вы сыты, и вот благодать нисходит на вас». Пастух из поместья Петосириса дает своим коровам поэтические имена: Золотая, Сверкающая, Прекрасная, как если бы они олицетворяли богиню Хат-хор, которой принадлежат все эти эпитеты.
Случки, рождения телят, бои быков и постоянные переходы были теми основными моментами, когда пастух мог показать свои знания и самоотверженность. Если он не справлялся со своим делом, тем хуже для него. Если крокодил схватит теленка, если вор угонит быка, если болезни опустошат стадо, никакие объяснения не принимались. Виновных били палками.
Одним из наиболее эффективных средств против угона скота было клеймение, к которому прибегали главным образом во владениях Амона и других великих богов, а также в царских владениях. Коров и телят сгоняли на край луга и поочередно ловили с помощью аркана. Им связывали ноги и опрокидывали на землю, словно собираясь прирезать, затем раскаляли железное клеймо над переносной печкой и прикладывали его к правой лопатке животного. Писцы, разумеется, присутствовали при этой операции со всеми своими принадлежностями, и пастухи целовали землю перед этими представителями власти, чтобы выразить им свое почтение.

Тощий пастух и откормленный скот (Скальные гробницы Мейра, II)
В другой сценке мы видим коз, разбредшихся по рощице, деревья которой предназначены на вырубку, и они в мгновение ока объедают всю зелень. Они торопятся не зря, потому что дровосек уже наносит первые удары топором по стволу одного из деревьев. Однако этим коз не остановишь! Легкомысленные козлята резвятся вокруг. Козлы тоже не теряют времени даром. Но вот пастух с посохом, похожим на фиванский скипетр, начинает собирать свое стадо. На плече у него коромысло, на один конец которого он подвесил большой мешок, а на другой в качестве противовеса – козленка. В руке он держит флейту, но, увы, на берегах Нила нет ни Феокрита, ни Вергилия, которые могли бы сложить песнь о любви пастухов и пастушек.
Птиц разводили на птичьих дворах, практически не изменивших свой вид со времен Раннего царства. В центре, как правило, возвышалась стела и несколько статуй богини Ренутет. В одном углу мы видим навес, где сложены кувшины, мешки и весы для взвешивания зерна, в другом – участок, отделенный сеткой, с небольшим водоемом посередине. Гуси и утки плавают в нем или, переваливаясь, бродят по берегу, ожидая, когда птичник придет кормить их.
9. Обитатели болот
Значительная часть Нильской долины была занята болотами. Каждый год река возвращалась в свои берега, и каждый год на возделанных полях оставались большие лужи, вода в которых не высыхала вплоть до сезона шему.Поверхность таких болот была устлана ковром водяных лилий, а берега окаймлены зарослями тростника и папируса. Порой папирус рос так густо, что не пропускал ни одного лучика солнца, и был таким высоким, что птицы, строившие гнезда в его зонтиках, чувствовали себя в полной безопасности.
Обитатели болот издавна были излюбленной темой для египетских художников. На росписях они демонстрируют чудеса ловкости, словно крылатые акробаты, носясь над своими гнездами. Куропатка высиживает яйца. Неподалеку ушастая сова ожидает наступления ночи. Естественные враги птиц – генетта, мангуста и дикий кот – ловко лазают по деревьям и легко добираются до птичьего гнезда. Отец и мать отчаянно сражаются с грабителем, в то время как их птенцы призывают на помощь, хлопая своими еще голыми крылышками. Гибкие рыбы скользят между стеблями тростника. Мы видим среди них кефаль, сома, мор-мира, жирного нильского окуня, хромиса (чуть поменьше размером), а также фахака, которого, по выражению Масперо, природа могла создать разве что в час добродушного веселья. А вот батенсода плывет брюхом вверх: из-за ее пристрастия к столь оригинальной позе спина у нее побелела, а брюхо стало темным. Самка гиппопотама отыскала укромное место, чтобы родить детеныша, но рядом притаился коварный крокодил, который только и ждет, чтобы утащить новорожденного, прежде чем вернется самец. Тогда разгорится беспощадная борьба, из которой крокодилу не выйти победителем. Гиппопотам схватит его своими огромными челюстями. Напрасно тогда будет крокодил пытаться ухватить его за ногу: он теряет равновесие и гиппопотам перекусывает его пополам.
Чем дальше на север, тем обширнее болота и гуще заросли папируса. Египетское название Дельты – мехет –означает в то же время болото, окруженное папирусом.

Сбор и очистка папируса ( Дейвис.Гробница Пуэмра в Фивах)
Египетский язык, столь богатый синонимами для обозначения природных явлений, имел специальные слова для обозначения разных болот: болото, поросшее водяными лилиями, – ша,болото с зарослями тростника – сехет,болото с водоплавающей птицей – иун,лужи воды, оставшиеся после разлива, – пеху.Все эти болота были истинным раем для охотника и рыболова. Почти все египтяне и даже дети, которым предстояло стать писцами, при малейшей возможности отправлялись на болота поохотиться или порыбачить, а женщины и девочки восхищались их удалью и радовались, если удачливый охотник приносил им в подарок живую птицу. Подростки легко осваивали гарпун и палку для метания. Если для большинства это было приятным развлечением, то жители Нижнего Египта жили за счет болот.
Во-первых, болота давали им все необходимое для жилья и изготовления орудий. Египтяне срезали папирус, вязали из стеблей большие снопы и, согнувшись под тяжестью ноши, медленно, спотыкаясь, брели с ними в деревню. Здесь они раскладывали их на земле и выбирали стебли, пригодные для строительства жилища, – вместо домов из кирпича-сырца здесь строили папирусные хижины, обмазанные илом или глиной. Стены в них были тонкими, обмазка часто осыпалась, но замазать трещины и щели заново было несложно.
Из волокон папируса плели веревки различной толщины, циновки, сети, кресла и клетки для птиц, которые охотно покупали жители засушливых районов. Веревками из стеблей папируса связывали изящные, практичные лодки, незаменимые для охоты и рыбалки. Прежде чем отправиться за добычей, новое суденышко следовало испытать.
Надев на головы венки из полевых цветов и гирлянды из водяных лилий на шеи, несколько человек влезали в свои лодки, которыми правили с помощью длинных, раздвоенных на конце шестов. Соревнование – а это было именно соревнование – начиналось с обмена порой весьма забористыми ругательствами, которые довольно быстро переходили в угрозы и удары. Со стороны казалось, что вот-вот начнется страшная потасовка, однако на самом деле противники старались только столкнуть друг друга в воду или опрокинуть лодку противника. Игра заканчивалась, когда на воде оставался только один участник, и тогда победители и побежденные снова становились закадычными друзьями и вместе возвращались в деревню.
Когда рыбаки собирались отправиться в дальнее плавание, они пользовались одномачтовыми деревянными судами. Между специальными опорами натягивали веревки, на которых развешивали рыбу для сушки. Порой на мачту садилась хищная птица.
Существовало несколько способов рыбной ловли. Одинокий рыбак устраивался со своими припасами в маленькой лодочке, находил спокойное место и забрасывал в воду леску. Когда на крючок попадалась крупная рыба, он осторожно втягивал ее в лодку и убивал ударом дубинки. В неглубоких болотах египтяне расставляли ловушки, имеющие форму бутылки, или более сложные ловушки, состоящие из двух отделений. Привлеченная наживкой зубатка легко проталкивалась через узкое горлышко ловушки, сделанное из тростника, но выбраться обратно уже не могла. Вскоре ловушка заполнялась рыбой. Удачливый рыбак опасался только завистливого соседа, который мог выследить его и явиться к ловушке первым. Ловля с помощью сачка требовала выдержки и твердой руки. Рыбак останавливал челнок в рыбном месте, погружал снасть и ждал. Когда рыба сама заходила в сачок, его нужно было быстро поднять, не делая, однако, резких движений, иначе рыба могла выскользнуть. Ловля неводом требовала участия дюжины человек, по крайней мере двух лодок и невода – огромной прямоугольной сети с поплавками на верхнем краю и каменными грузилами – на нижнем. Невод опускали в воду, загоняли в него рыбу, а затем сеть начинали потихоньку подтягивать к берегу. Наступал самый ответственный момент, потому что такие ловкие и сильные рыбы, как однозубы, легко перепрыгивали через невод, и рыбакам приходилось хватать их на лету.
Для охоты на нильских окуней – таких больших, что хвост волочился по земле, когда два рыбака несли эту рыбину, подвешенную к шесту, – лучше всего подходил гарпун. Гарпуны применяли и для охоты на гиппопотамов, но, поскольку обычный гарпун сломался бы, словно тростинка, в теле этого чудовища, для охоты на них пользовались массивными гарпунами с металлическим наконечником, прикрепленным к деревянному древку и к длинной веревке с несколькими поплавками. Когда гарпун попадал в цель, древко могло сломаться, но наконечник все равно оставался в теле гиппопотама, который старался уйти от преследователей, подбиравших поплавки, подхватывавших веревку и подтягивавших ее, чтобы подобраться поближе к жертве. Гиппопотам поворачивал к охотникам свою огромную голову и показывал гигантские клыки, которыми легко мог бы разнести лодку в щепы. Но на него сыпались все новые удары гарпунов, и вскоре животное погибало от потери крови.
Охота с палкой для метания была скорее развлечением для богачей, чем настоящим промыслом. Мы видим, как Ипуи занимает место в роскошной лодке в форме гигантской утки (большинство охотников, впрочем, довольствовались обычными серповидными челнами из папируса). В качестве приманки для диких гусей с собой часто брали нильского гуся. Охотник брал свое орудие – палку с набалдашником в виде змеиной головы на одном конце – и с силой бросал его в свою жертву. Бумеранг и сбитая дичь падают на землю к его ногам. Товарищи охотника или его жена и дети быстро подбирают и то и другое. Восхищенный маленький мальчик кричит: «Отец, я поймал иволгу!» Кстати, дикий кот, прячущийся в зарослях, за это время успел поймать уже трех птиц.
С помощью сети охотник мог поймать сразу много птиц. Однако для этого ему требовались помощники. Даже родственники царя и самые высокие вельможи не стеснялись участвовать в такой охоте в качестве руководителей или даже простых наблюдателей. Для этого нужно было сначала найти прямоугольный или овальный водоем довольно большого размера. По обе его стороны растягивали прямоугольные сети, которые, если их соединить, закрыли бы всю его поверхность. Главное – быстро и неожиданно накинуть обе сети, чтобы сразу все птицы, находящиеся в этот момент на поверхности воды, оказались в ловушке. Для этого в землю вбивали четыре шеста – по два с каждой стороны водоема. К ним привязывали две сети-ловушки, два внешних угла которых соединялись веревками с толстым колом, вбитым поодаль точно по центру водоема, а два других – с главной веревкой длиной более десяти метров, с помощью которой захлопывалась эта ловушка. Когда все было подготовлено, сигнальщик прятался неподалеку в зарослях, часто стоя по колено в воде, или прятался за плетеным щитом с отверстиями для наблюдения. Дрсесированных птиц выпускали погулять на берег водоема, и вскоре уже вокруг них опускались стаи диких уток, а трое или четверо охотников держали спусковую веревку. Они прятались довольно далеко от водоема, чтобы не спугнуть чутких птиц, готовых взмыть в воздух при малейшем шуме. Сигнальщик поднимал руку или взмахивал платком. По его знаку охотники резко отклонялись назад и дергали за веревку. Две сети падали одновременно на стаю птиц. Напрасно они отчаянно бились, пытаясь выбраться из сети. Не давая им опомниться, охотники, которые от резкого рывка сами валились на землю, быстро поднимались и подбегали с клетками. Наполнив их, они ломали остальным птицам крылья или вырывали перья на крыльях, чтобы не упустить их по пути в деревню.
Для любого вида охоты необходимы были терпение, ловкость, а иногда и определенное мужество, однако и от них было бы немного толка, если охотникам не покровительствовала богиня, которую они называли Сехет – «луг». Ее изображали в виде крестьянки в тесном платье и с распущенными волосами, спадающими на плечи. Даже сеть была принадлежностью сына Сехет, бога, чье имя переводилось как «сеть». Однако рыбаки поклонялись не ему, а его матери, которой принадлежали все рыбы и птицы и которая готова была щедро делиться ими со своими союзниками и друзьями – охотниками и рыбаками.