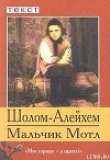Текст книги "Озерный мальчик (часть сб.)"
Автор книги: Павел Вежинов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
11
Валентин перешел во второй класс с посредственными отметками, но это не встревожило Лору: до получения аттестата было еще далеко. Но будь она наблюдательней, она заметила бы, что сын становится все более молчаливым и замкнутым. Ел он мало, да и то приходилось его заставлять, почти никуда не выходил. Читал. Она так привыкла видеть его склоненным над книгой, что уже не обращала на это внимания.
Иногда у нее появлялась неясная надежда. Вдруг он будет великим человеком? Она знала из биографий великих людей, что все они отличались исключительной любовью к книгам. А в школе никто, даже Эйнштейн, не были отличниками.
Зимой Валентин довольно тяжело заболел гриппом. Войдя как-то утром в его комнату, мать заметила, что худенькое его лицо раскраснелось, щеки прямо-таки пылают. Она приложила руку к его лбу – он горел.
– Да ты болен! – сказала она.
– Болен? – Мальчик с надеждой взглянул на нее. – Не знаю, может, и болен.
Он действительно был болен и пролежал в постели около двух недель. Больной он был тихий, не капризничал, мать даже не заметила, как пролетели эти дни. Он лежал неподвижно в узкой своей кровати, лицо его словно светилось в полумраке комнаты. Мать мерила ему температуру, давала сироп. Порой сердце ее сжималось от любви и жалости. Кожа его стала такой прозрачной, что сквозь нее, казалось, проступала розоватость плоти. Она жалела его – такого маленького, тихого и беспомощного. Ей и в голову не приходило, что он счастлив.
А он был счастлив, как никогда в жизни. Он был свободен. Никто его не мучил, не заставлял что-то делать, не навязывал своей воли. Не надо было ходить в школу с ее противными переменами. Не было ребят, которые орали над самым его ухом, били тяжелыми портфелями по голове, подставляли подножку и смеялись, когда он падал, совали мусор ему в карманы и опять гоготали, гоготали. Не было зловещей тишины класса и жесткого голоса, учительницы, словно бурав сверлившего ему уши.
Не было самой учительницы. Просто невероятно. Он не видел ее расплывшейся фигуры. Не слышал ее шагов, ее голоса. Никаких ее надоедливых вопросов: «Валентин, где твоя домашняя тетрадь? Валентин, почему ты не слушаешь? Ты что, нарочно? Отвечай! Это ты нарочно, чтобы поиграть у меня на нервах? Валентин, почему ты не слушаешь?» В голосе ее звучали злые, обиженные и вместе с тем беспомощные, плаксивые ноты. Иногда она с отчаянием смотрела на него, ей хотелось убежать из этой проклятой школы куда-нибудь далеко-далеко. Опротивел ей этот бледный хилый мальчишка, который, уходя в себя, ускользал из-под ее власти.
Ото всего он освободился, даже от мелких забот и неприятностей. От молока, от жирной пищи, от умывания по утрам холодной водой, от необходимости чистить ботинки, от хождения в булочную за хлебом – и еще от многого. Даже от книг он избавился – от хороших, от самых прекрасных, от самых чудесных книг. Как бы ни были они хороши, они сковывали его. Самыми хорошими, самыми раскованными были те книги, которые сочинял он сам – в любое время дня и ночи, когда ему вздумается. А лучшими, самыми необыкновенными были те из них, которые он сочинял, когда поднималась температура. Самыми взволнованными и радостными.
Из всех людей на свете он радовался только матери, когда она входила в его комнату, как всегда, куда-то спешащая, занятая своими мыслями. Она клала прохладную руку ему на лоб, переодевала его, вспотевшего, давала лекарства. Даже ночью заставляла пить лекарства, вырывая его на мгновенье из теплых мягких объятий постели и снов, совала ему в рот большую розовую таблетку, которую он с трудом проглатывал, запивая тепловатой водой, а потом снова опускался на дно счастливого забытья. Просыпался он рано, с тихим приятным предчувствием, что его ждет долгий день свободы, когда он будет наедине со своими мечтами, с новыми своими, не думанными еще мыслями, которые сами собой рождаются в нем, как время рождает жизнь. Погода стояла облачная – он любил облачную погоду, ненавидел солнце, которое резало ему глаза и мешало думать. Часто падал мягкий пушистый снежок, ветер дул редко, наверно, уже пахло весной и влагой. Иногда в щелку двери просовывалось румяное от холода лицо отца, он ласково смотрел на него: «Ну как ты там, мой мальчик?» Но не заходил, и хорошо, что не заходил…
Наконец Валентин выздоровел, и теперь снова надо было ходить в школу. После отдыха он все же немного приободрился. Да и в последние дни у него словно бы появилось слабое желание увидеть свой класс. Человек быстро привыкает к счастью и свободе и готов при первом же испытании пожертвовать ими. Не из любви к испытаниям, а чтобы иметь фон, на котором счастье и свобода выглядели бы еще заманчивее. Нельзя класть счастье на счастье, как слой теста на слой теста в слоеном пироге.
Не успел он прийти в класс, как случилась беда – он получил первую в своей жизни двойку. По математике, конечно, ведь он пропустил много уроков. От неожиданности он не заметил, как слезы сами собой полились у него из глаз. Но мать не восприняла новость так трагически– этого следовало ожидать.
– Подумаешь! – сказала она. – Первая и, наверно, не последняя…
Ничего не оставалось, как сесть с сыном за стол и помогать. Она была удивлена тем, как изменилось преподавание простых арифметических действий. Немало усилий, вероятно, было приложено к тому, чтобы сделать его столь затруднительным. Против ожидания сын оказался весьма понятливым и быстро наверстывал упущенное. И все же она чувствовала, что Валентин учится без интереса, механически, через силу. Он так часто отвлекался, временами словно исчезая куда-то, что Лора наконец рассердилась.
– Неужели ты и вправду не можешь сосредоточиться? Ни на минуту?
Валентин виновато молчал.
– Несчастный ребенок! – сказала мать. – Твоя тупая учительница, похоже, права.
Мучимая сомнениями, она в конце учебного года пошла к брату, известному ученому, который был у них за главу семейства. Великий человек ничем не походил на свою сестру. Он был высокий, толстый, в жилах его текло столько жаркой крови, что на лысине даже зимой проступали капельки пота. Он походил скорее на мясника, чем на известного физика-атомщика. Пока Лора рассказывала о своих страхах и сомнениях, он так тяжело и так презрительно вздыхал, что она едва не прервала свой рассказ. Что мог ей сказать этот убежденный старый холостяк, который презирал женщин и обходил скверы, чтобы не слышать ребячьего визга? Когда она кончила, он вытащил из кармана большой носовой платок и, старательно вытерев лысину, сказал:
– Ну что ж! Дай его мне недельки на-две – на три. Я съезжу с ним к морю.
Лора несказанно удивилась.
– Что с того, что вы поедете вместе к морю?
– Я присмотрюсь к нему… То, что ты мне рассказала, говорит плохо скорее о тебе, чем о нем, что ты хочешь от мальчишки? Разве лучше было бы, если бы он хулиганил, не слушался?
Лора немного успокоилась. Ей по крайней мере удалось переложить груз со своей души на другого человека. Да и Валентин кончил второй класс с лучшими отметками, чем первый. Лора решила, что дела у сына идут на лад.
12
И они поехали вместе в Ахтопол. Лора провожала их на аэродроме с некоторой тревогой. Не слишком ли доверилась она брату, этому забывчивому толстяку, известному среди ученых своей рассеянностью? Да он не довезет Валентина до Ахтопола, забудет, чего доброго, на аэродроме в Бургасе! Ведь они оба не от мира сего. Ко всему прочему, собиралась гроза, где-то грохотал гром, тяжелые тучи ползли к западу, временами их пронзали яркие беззвучные молнии. Вылет самолета дважды откладывался. Наконец он побежал по взлетной полосе, набирая скорость и смелость. Лора вернулась домой расстроенная, но в тот же вечер получила обещанную телеграмму с сообщением, что они долетели благополучно.
Лора так и не поняла, что Валентин провел на море свое самое хорошее, счастливое лето. И самое беспечное. Сначала дядя действительно водил его несколько раз на пляж:. Он лежал на песке, подставив солнцу свой округлый и гладкий, как у женщины, живот, глядел на море и недовольно хмыкал. Поодаль разные мальчики и девочки уже приобщали Валентина к тайнам моря. Но так продолжалось только до тех пор, пока не собралась вся компания, с которой дядя договорился отдыхать. После чего он перестал жариться на этой придуманной для людей сковородке. Предоставил заботиться о Валентине женам своих друзей, а сам, наплевав на море, занялся вместе с ними более увлекательным занятием. С раннего утра они сходились на тенистой, увитой диким виноградом террасе, расстилали одеяло, на которое бросались две колоды карт. Они с таким азартом играли в бридж, словно весь год только и мечтали об этих летних днях, когда наконец возьмут в руки карты. Перед обедом хозяин дома – старый грек Костаки, жилистый и темный, как высушенный осьминог, – приносил им мастику, редиску, иногда холодное пиво. Но и тут они не бросали игру, наоборот, она становилась более шумной. Потом они наспех обедали в паршивом ресторанчике и снова хватались за карты. За племянника дядя был спокоен – за ним присматривала Нушка.
Нушка была всего на год старше Валентина, но на голову выше его. Она была русая, полненькая, хорошенькая. Синие глаза ее сияли, как море ранним утром, когда оно еще сверкает на солнце. Купалась она, как мальчики, в одних трусиках. Валентин смотрел, недоумевая, на ее пухлую, но еще плоскую грудку – что такого таинственного в женщинах? Нушка относилась к нему как к маленькому несмышленому брату – не отпускала от себя ни на шаг, учила плавать. Он уже мог несколько минут держаться на воде.
– Хорошо? – беспрерывно спрашивала его Нушка. – Правда же хорошо?
– Очень! – искренне отвечал Валентин.
– Особенно дно. Каждую песчинку видно.
– Ты видишь дно? – спросил озадаченно Валентин. – Неужели в воде можно смотреть?
– А ты думал нет?.. Это же самое интересное.
Валентину представлялось невероятным, что можно смотреть в соленой горькой воде. Он едва решился открыть глаза – боялся, что тут же ослепнет. Но перед ним открылся новый неведомый мир, озаренный чудесным зеленоватым светом, более поразительный, чем самый поразительный из пейзажей на выжженной солцем сухой и голой земле. Вокруг плавали рыбки, качались голубоватые и розоватые колокольчики медуз? по перламутровому дну ползли крошечные полупрозрачные рачки. И еще много-много странного и невиданного было в зеленоватых безднах моря. Он так увлекся этим новым, незнакомым раньше миром, что отрывался от него, только когда у него начинали болеть глаза или Нушка силой вытаскивала его из воды. А когда он впервые надел маску для подводного плавания, этот сказочный мир показался ему еще более прекрасным.
О своих мечтах Валентин не вспоминал, у него не оставалось для них времени. Да и не появлялось желания мечтать. Счастье теплого лучистого мира, окружавшего его сейчас, было таким близким и доступным, что не к чему было напрягать свой ум и воображение.
Золотистое раскаленное пламя песка, трепетавшее с утра до вечера, словно озаряло и само небо – такое же белое и блестящее, как освещенная солнцем внутренность морской раковины. Да и само море блестело и кипело на горизонте, как молоко. Они проводили возле него целые дни. Валентин как-то незаметно вырос, вытянулся, движения его стали уверенней и энергичней.
Вечерами они вдвоем с Нушкой долго сидели на гладких вымытых волнами прибрежных скалах. Было очень хорошо, особенно когда всходила огромная луна, окровавленная, как только что вырезанная гланда. Ему становилось даже страшно, когда он смотрел на нее. Она быстро поднималась по небу, окровавленное лицо ее прояснялось, становилось прозрачным, она серебрила все – и далекий горизонт, и колени сидевшей совсем близко Нушки.
– Что-то ты все молчишь! – сказала она. – Тебе скучно со мной?
– Нисколько! – ответил он искренне. – Даже наоборот.
– Наоборот? – засмеялась она. – Тогда поцелуй меня в щеку.
Она сказала это так спокойно и естественно, что Валентин вздрогнул. Неужели можно так просто говорить о таком необыкновенном?
– Ты меня слышишь вообще? – спросила Нушка уже недовольно.
– Слышу, конечно! – ответил он слабеющим голосом.
И поцеловал ее в щеку. Кожа у нее была холодная, будто она только что вышла из воды. Тем горячей была волна, залившая его лицо. А Нушка казалась такой же спокойной, даже какой-то сытой, поцелуй не произвел на нее особого впечатления. И мальчик в очередной раз почувствовал, что он не такой, как все, что он совсем, совсем другой, что он видит то, чего не видят другие, ощущает все вокруг с какой-то неестественной обостренностью. – Опять ты молчишь! – сказала она. – Тебе не понравилось? – Понравилось! – ответил он с горячностью.
– Это я ради тебя, – сказала вдруг Нушка. – Я знаю, вы, мальчишки, только об этом и думаете.
– Я не такой! – вспыхнул от обиды Валентин.
– Тем лучше! – ответила Нушка и снова засмеялась. – Незачем мне особенно стараться.
Так и остался этот поцелуй, холодный, волнующий, единственным в его жизни. Нушка больше не просила целовать ее, даже словно бы немножко охладела к нему, хотя все так же добродушно и усердно наставляла его, когда они купались в море. Она знала, что «отвечает за него головой», как сказал ей этот толстяк, его дядя. Не рассердился бы за то, что они целовались. Так прошли две счастливые недели. Только тогда дядя вдруг вспомнил, что он приехал сюда с определенной миссией. Теперь в шесть часов игра в карты прекращалась, и он шел с мальчиком гулять. Надо было куда-нибудь повести его, посидеть с ним, поболтать. Как известно, нет в мире более приятного места для тихих задушевных бесед, чем летние ресторанчики на берегу моря. Там всегда бывало чешское пиво для дяди и холодный лимонад—для мальчика. Дядя умел расспрашивать тактично, без излишних понуканий и настойчивости. Он незаметно располагал его к себе воспоминаниями о своем детстве, о своих проделках, детских мечтах и выдумках.
Мальчик слушал его с жадным интересом, с затаенной надеждой: может, не он один на свете такой чудак?
Прошло несколько дней, и мальчик сам разговорился. Сначала он стеснялся, но дядя слушал его с таким вниманием, что он забывал о своей сдержанности и становился откровеннее. В конце концов он рассказал дяде о некоторых своих приключениях, когда Он был невидимкой… Даже о том, как однажды явился в виде господа бога к учительнице. Погасив свет, она уже ложилась спать, когда он проговорил замогильным голосом: «Слушай, женщина, оставь в покое мальчика по имени Валентин. Предоставь его мне, я о нем позабочусь».
– И она ничего не ответила? – спросил с любопытством дядя.
– Нет, почему же, ответила. «Господи, вы же знаете: мне запрещено с вами разговаривать».
Дядя так захохотал, что опрокинул столик, на котором стояли прекрасное чешское пиво и тарелка с жареной скумбрией. Но тут в ресторанчик вошли его друзья с женами и Нушка. Разговор прервался на самом интересном месте.
Дня через три они с дядей вернулись в Софию. Родители Валентина были на курорте, и он еще целую неделю жил у дяди. Было жаркое нудное городское лето. Валентину ужасно не хватало моря. А здесь далее гулять было негде. Оставалось только вернуться к книгам и мечтам, тем более что никто ему не мешал. Днем в квартире было тихо, только утром по ней сновала, наводя порядок, домработница, женщина тихая и неразговорчивая. Покончив с уборкой, она готовила обед, потом они обедали вдвоем, и она уходила так же бесшумно, как и приходила. Валентин оставался один. Его ждали несколько приятных спокойных часов, полных солнца и тишины.
Дядя обычно возвращался часам к пяти, такой оживленный и веселый, словно посмотрел смешной фильм. Валентин всегда был рад его приходу. Вечерами они долго разговаривали, смеялись, ходили в летний кинотеатр, садились в первые ряды среди мальчишек. Иногда дяде хотелось поиграть в карты, и Валентин шел в кино один. Но больше, чем ходить в кино, ему нравилось наблюдать, как дядя играет в карты, как он громко вздыхает и пыхтит, точно пробивает нескончаемый тоннель. Один раз после неудачного хода он с такой силой хватил кулаком по столу, что несколько карт вылетели в окно.
В подобный момент и застала его Лора, когда пришла забрать Валентина домой. Открывая дверь, брат окинул ее недовольным взглядом.
– Посиди немного в кабинете! – сказал он. – У меня идет козырная карта!
Лора прошла в кабинет. Немного погодя его голос гневно зарокотал в комнате – очевидно, козыри уплыли от него, но в кабинет он вошел уже немного успокоившись.
– Слушай, сестра, в другой раз поговорим поподробней, а сейчас хочу тебе сказать только одно: у тебя славный сын!
– Ты так думаешь? – спросила польщенная Лора.
– Не думаю, а уверен! – закричал брат, снова начиная горячиться. – Он не просто умный и тонко чувствующий мальчик. Таких много. Он одарен необыкновенным, я бы сказал, колоссальным воображением.
Но сестра была не слишком растрогана этим открытием.
– Неужели ты не понимаешь? – спросил физик. – Такие рождаются один на сто тысяч. Да что там – на миллион, на сто миллионов!
Лора сдержанно улыбнулась.
– Каждый ребенок… – начала она.
– Не каждый! – сердито прервал он ее. – Не каждый! Хотя я физик, а не психолог, но должен сказать тебе, что память – основа сознания. А воображение – его вершина! Монблан, Эверест!
– От кого это у него? – шутливо спросила она. – От меня? Или от тебя?
– А почему бы и не от меня? Честно признаюсь, это мне льстит. Если хочешь знать, Эйнштейн отличался от своих современников-физиков не столько своим умом… И вряд ли своими знаниями… А своим воображением. Мы же считаем воображение почти ненужным. Как, вероятно, думает и его учительница.
– Да, она считает, что оно приносит ему вред.
– Что значит – вред? – нахмурился он.
– Так, вред! Поэтому он не очень хорошо учится.
– Ну и что с того? – опять закричал брат. – Да он стоит всей школы…
– Брось свои шутки! – сказала недовольно сестра.
– А я не шучу! У меня нет времени долго с тобой разговаривать, но советую тебе – забери его из этой школы, от этой учительницы. Она его погубит. Переведи его в другую школу.
– Это не так просто.
– Но все-таки можно! Я его переведу, если тебе неудобно это сделать. Талант надо беречь. Дурак и тот поймет…
– Не поймет! – сказала Лора печально.
– Ладно, что-нибудь придумаем, нужно позаботиться о ребенке…
Лора взглянула на него с любопытством.
– Ну хорошо, а кем он, по-твоему, может стать? Писателем? Физиком?
– Какая разница… Кем бы он ни стал, он будет вершиной!
Брат направился к двери.
– Подожди, а где же Валентин?
– В кино пошел. – Он глянул на часы. – Скоро вернется.
– Один пошел в кино? – Лора с возмущением посмотрела на него. – В это время? Да ты в своем уме? Он же еще маленький! – заключила она испуганно, в свою очередь глянув на часы.
– Уже не маленький! – ответил брат с досадой. – Что ты понимаешь! Посиди тут, подожди. Говорят тебе, он сейчас придет.
И выбежал из кабинета. Партнеры ждали его, нервничая и сгорая от нетерпения. Увидев, какой он побагровевший, взвинченный, они только что-то неразборчиво пробормотали.
– Мы втроем пас! – сказал один из них. – Ходи ты!
– И пойду! – сказал физик угрожающе. – Пойду, можете не сомневаться!
13
К профессору Мирчо Евгениеву, дяде Валентина, я попал сравнительно легко и быстро.
Позвонил по телефону, объяснил ему в двух словах, кто я и о чем хочу с ним говорить. Он молчал, я слышал его тяжелое дыхание на другом конце провода. Я уже многое знал о нем и старался вообразить его в этот момент—как он, хмурый, стоит в нерешительности.
– Откуда вы знаете Валентина? – спросил он мрачным тоном.
– Я последний, кто видел его живым, – произнес я хорошо обдуманные слова. – Там, на озере… Может быть, за несколько минут до смерти.
– Ладно, приходите, – ответил он дрогнувшим голосом. – Если хотите, можете прямо сейчас. Откуда вы звоните?
– Из дома. Я живу неподалеку.
– Тем лучше. Жду вас! – сказал он.
Я отчетливо уловил волнение в его голосе. Понимая, о чем он думает в эту минуту, и не желая мучить его ожиданием, я как можно скорее направился к знакомой улице. Позвонил, прислушался, шагов за дверью не было слышно, вместо этого до меня донесся мерный, громкий, точно удары колокола, бой стенных часов. Едва эти звуки растворились в тишине квартиры, дверь распахнулась, и профессор сказал не слишком приветливо:
– Проходите, пожалуйста!
Мы вошли в его кабинет, он молча указал мне на кресло. Я медленно опустился в него. Внимательней взглянул на профессора. На лице его нетрудно было прочесть следы испытываемого им смятения.
– Слушаю вас!
Я подробно рассказал ему о нашей последней встрече с мальчиком до того самого мгновенья, когда я отвернулся и ушел. Он напряженно слушал меня, но постепенно лицо его оживилось, взгляд смягчился.
– Значит, он показался вам жизнерадостным, не так ли?
– Да! – ответил я. – Я уверен, что в эти минуты он не думал о смерти. У него, очевидно, не было никакого предчувствия…
Профессор откинулся на спинку стула, заскрипевшего под его тяжестью.
– Значит, случайность?.. – Теперь в его голосе звучало явное облегчение – то внутреннее облегчение, испытать которое я напрасно мечтал уже несколько месяцев.
– Нет, не случайность! – ответил я.
Он снова впился в меня своими светлыми глазами.
– Что вы хотите этим сказать?
– Только то, что это произошло не случайно. На всех нас лежит вина за его смерть… В том числе и на мне…
Прежде всего потому, что мы были невнимательны к нему.
Профессор вдруг сник, лицо его посерело.
– Да, вы правы, – с усилием проговорил он. – Мы действительно его убили. Все, включая его мать и отца, дружными усилиями. А больше всех, наверно, виноват я… потому что я один понимал, что он собой представляет.
И хотя ему явно было тяжело говорить об этом, он обстоятельно рассказал мне об их последнем лете.
– Конечно, вы меня спросите, почему мы не перевели Валентина в другую школу. Почему мы этого не сделали, хотя я был глубоко убежден, что это надо было сделать. Безусловно, тут неблаговидную роль сыграл его отец. Но не это главное, не это! В конце концов он не понимал, что делает. А я понимал. Тогда почему же я этого не сделал? Не знаю, не могу ответить. Нет, могу. Все это происходит от того, что мы живем лениво, вяло. Живем, не пытаясь хоть сколько-нибудь поглубже себя понять. И других тоже. Ну хотя бы себя, ведь должны же мы отвечать за свои поступки…
– Да, мы не отдаем себе отчета в своих поступках! – согласился я с горечью.
– Вот именно! – живо откликнулся он. – В лучшем случае мы понимаем их практическое значение, но не глубинный смысл. Позволяем повседневности увлечь себя, плывем по течению, не поднимаясь над поверхностью, перестаем отличать главное от неглавного, забываем о критериях, теряем чувство ответственности. И думаем, что все как-то устроится, исправится без нашего участия…
Он замолчал. У меня тоже не было никакого желания говорить. Он был прав, я давно это понял. И когда понял, вся эстетика Гегеля стала казаться мне стогом сгнившего сена.
– Значит, вы считаете… – начал я нерешительно.
– Да, считаю! – резко прервал он меня. – Теперь, конечно… Мы виделись с Валентином еще несколько раз, и я бы мог о чем-то догадаться. Он очень переменился. В положительную сторону… Но видимо, я не учитывал чего-то. Каких-то мелочей, как мне представлялось… А они, по всей вероятности, были, не знаю уж какое слово подобрать, самыми решающими, что ли.