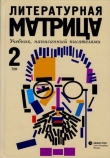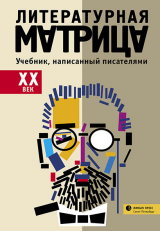
Текст книги "Литературная матрица: учебник, написанный писателями. ХХ век"
Автор книги: Павел Крусанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Мне, как жительнице хуторского дома, ясно виден «второй слой» этой адописной иконы. Тут не так все просто. Вовсе не буря сама по себе сгубила Нефеда.
– Для мила дружка семь верст не околица, – заговорил князь Василий, как всегда, быстро, самоуверенно и фамильярно.
Л. Н. Толстой. Война и мир
Я живу в новгородской деревне Бобылево, ближайший торговый центр у нас в поселке Кулотино, идти как раз шесть с половиной километров по щербатой асфальтовой дороге. Это основная, главная дорога, по ней в кулотинские магазины ходят, ездят на велосипеде, мотоцикле, автомобиле. По этой дороге ходили дети в школу в любую непогоду (не мои, местные). Деревенский житель может с закрытыми глазами пройти шесть верст по своей главной дороге – дороге к «Дикси» и «Пятерочке». Как же Нефед, деревенский мужик, мог погибнуть на своей главной дороге – пути из торгового центра? Туда дошел, а обратно – нет, утонул в снегах… Туда и обратно – тринадцать километров. С перерывом – остановками в отапливаемых лавках, где продаются лапти и фуксин (или в одной они лавке продавались). Да, была буря. Но туда-то дошел!
Однажды в нашем Окуловском районе случился сильный снегопад. Мне надо было ехать в Петербург, таксист должен был довезти меня до железнодорожного вокзала. Он свободно проехал по боровичской трассе, а на нашу проселочную даже повернуть не смог – так засыпало. Мне звонили диспетчеры, все волновались, просили как-нибудь добраться до трассы, это около четырех километров. Я была одна с трехлетней Маней. Посадила ее, закутанную, на санки и пошла, именно что утопая в снегах. Бури, конечно, не было, но снег валил. Я довольно быстро добралась до трассы и смело могу сказать, что шла бы еще и еще, не так уж это и сложно. А что говорить о деревенском мужике? Который был без Мани и отвечал только за себя. Таксист хранил санки в гараже до нашего возвращения, у меня осталось приятное воспоминание о нашем приключении, и я совершенно не понимаю, как Нефед в трезвом уме мог погибнуть на главной своей дороге, ведь понятно, что он, слуга в хуторском доме, должен был постоянно по ней ходить или ездить в торговые лавки Новоселок – для своих и господских нужд – и знал ее прекрасно. Даже в дикую бурю и вьюгу нельзя ошибиться – ну куча же примет: рощи, отдельные деревья, пространства полей. В рассказе говорится, что вокруг хуторского дома раскинулись поля. Поля всегда ограничены хоть какой-нибудь растительностью.
Зато я понимаю, как Нефед мог погибнуть в нетрезвом уме. Иван Алексеевич Бунин не хотел показать своего героя пьяницей, он описывает его как человека твердого, спокойного, рассудительного, который принимает «трезвое», взвешенное решение идти добывать волшебную вещь, способную спасти ребенка:
«Еще подумал.
– Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то…
И, притворив дверь, ушел».
Это «притворив дверь» говорит о том, что Нефед принимает решение в трезвом уме: подвыпивший человек оставит щель или шарахнет дверью. Вопрос: где, в какой момент он выпил?
Скорее всего, уже на кухне – а как иначе объяснить, что, решив идти в Новоселки пешком, он берет в руки кнут? Пешеходу кнут не нужен. «…Взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам…»
Нефеда не было, вечером решили, что он ночевать остался и надо ждать его завтра не раньше обеда. Опять не понимаю – почему не раньше обеда? Идти шесть с половиной километров мужику, ну даже если в бурю… Или заподозрили, что в Новоселках выпьет и потому задержится?
У кого Нефед мог остаться ночевать? Да у кого угодно: у кума, брата, свата. Возможно, с кем-то из них решил выпить на посошок, заговорился, может, даже решил остаться до утра, но в совсем уже нетрезвом уме вспомнил больного ребенка, с особенной силой представились ему «грозовые видения» невинной страдающей души, «желающей» красные лапти, которые вот, уже здесь, за пазухой, нужно только покрасить, и пошел домой, как его брат и кум ни отговаривали: «Нефедушка, трам-тарарам, завтра пойдешь, давай споем!» Кстати, красивую фильму можно было бы сделать про доброго бедного Нефедушку с эпизодами этих «грозовых видений».
Бунин пишет, что за пазухой у мертвого Нефеда лежали лапти и пузырек с фуксином. Мне кажется, он умолчал о бутылке в кармане зипуна – ее туда, скорее всего, кум засунул.
Скажем пару слов об этих Новоселках, в которые Бунин отправляет своего Нефеда. Возможно, имеется в виду деревня Мценского уезда Орловской губернии, где в усадьбе Новоселки родился Афанасий Фет. У Фета есть прекрасное стихотворение, которое перекликается с рассказом «Лапти» образом ребенка и снежной бурей:
Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».
Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.
Будем надеяться, что за смертью Нефеда все же последовало выздоровление барчука, вскоре он смог играть со своими гусарами и лошадками, валяться на ковре, слушая свист бури и уютное мурлыканье Васьки.
Нефед символизирует прекрасную душу русского народа. Он не просто прислуга – он защита и опора: в трудную минуту, рискуя своей жизнью, готов прийти господам на помощь. Из своего прекрасного французского эмигрантского далека Иван Алексеевич смотрит на «русского мужика» как на христианина, богатыря, защитника. Для писателя это исчезнувший в буре революции символ великой страны, которой больше нет. Похоже, главный посыл Бунина в «Лаптях» таков: все было хорошо, народ был опорой господам, господа любили народ, вон какая ласковая барыня, беспокоится за друга Нефедушку, не надо было лезть большевикам в эти чистые, святые, веками устоявшиеся патриархальные отношения и преступно рвать крепкую, почти семейную межклассовую связь.
Теперь хочется обратить особенное внимание на веру Нефеда в волшебство, знаковую для образа «мужика» Серебряного века. (Хронология Серебряного века остается спорной. Мне кажется, что «мужицкие» рассказы Бунина, написанные в 20-е годы, все еще можно отнести к этому периоду русской литературы.) Я готова поверить Ивану Алексеевичу на слово, согласиться с тем, что его лирический «мужик» находится в кровном родстве с лирическим «барином». При этом не могу не отметить его очевидные родственные связи с мужиками Андрея Белого и Гумилева. Нефед, как и «мужики» из романа «Серебряный голубь», верит в некую «дивную тайну», обещающую спасение. На деле эта «тайна» оборачивается «ужасом», смертью.
Деревенские сектанты, «холуби», в белых рубахах ждут второе пришествие Христа, их чинное сладостное моление превращается в сатанинский шабаш, сектантский заправила столяр Кудеяров с бело-солнечным ликом превращается в беса, из его груди вылезает голубок-кровопийца с ястребиной головкой. Во время «радения» Кудеяров приговаривает бредовые слова: «Сусе, сусе, стригусе: бомбарцы… Господи, помилуй». Владимир Соловьев писал о дыромоляях – сектантах, живущих в дремучих уральских лесах: «…просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: “Изба моя, дыра моя, спаси меня!”». На Андрея Белого дырники тоже производили впечатление – он писал о них в своей статье о Сологубе. В русской литературе рубежа XIX и XX веков народная вера в нечто волшебное (дыра, изба, Энгельс, голубь, лапти, Маркс и проч.), способное «спасти душу», принести избавление, стоит рядом с бредом, безумием, смертью, катастрофой. «Мужицкая» приверженность некоей тайне, потусторонней истине и сопутствующая этому особому древнему, дремучему знанию разрушительная сила отмечены в стихотворении Гумилева «Мужик» 1916 года:
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
Понятно, что так в занесенной снегом степи слышал и чуял все эти потусторонние крики и зовы пушкинский Пугачев. Вот он внемлет какому-то своему Стрибогу (чуть не сказала: «Святодуху») и затем идет на пару с условным колдуном Распутиным разрушать столицу:
Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот – светы и мраки,
Посвист, разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси…
Русские поэты и их «интеллигентные», «образованные» герои как завороженные пытаются заглянуть в мир «странного мужика» с его волшебными дырами и «холубями», они наклоняются над этим бурлящим котлом с колдовским зельем, но вместо пророческих видений им открывается мрачная бездна, тянет «испарениями шарового ужаса» (Андрей Белый).
В золотом веке главный странный мужик – адописный, конечно, Пугачев: сколько в нем «слоев»! Добрый мужичок – разбойник – грозный царь – милующий царь.
В рассказе «Косцы» Бунин говорит о «первобытности», «былинной свободе» русского мужика, о его особенной вере в волшебное спасение (не имеющее ничего общего со «спасением» христианским). Для него он генетически связан с колдовским, сказочным миром древней Руси: «И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его “по его младости”. Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие – и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие…»
Самое ценное для Бунина в его косцах – их тесная связь с волшебной Русью. Именно таких – близких к природе, «первобытных» – людей спасают звери, птицы, ковры-самолеты и шапки-невидимки. В мире Нефедушки тоже есть спасительный волшебный предмет – красные лапти. В русском, западно-европейском, восточном фольклоре обувь часто становится волшебным предметом, способным помогать своему хозяину, – вспомним сапоги-скороходы, хрустальные туфельки, крылатые сандалии, волшебные калоши. Андерсеновские красные башмачки «выводят» Карен на путь к Богу. Нефед верит, что чистая душа невинного дитяти сама указывает на предмет, способный ее спасти, удержать на этом свете. Как настоящий сказочный герой, он идет добывать волшебные лапти.
Почему ребенок бредит именно о красных лаптях? Возможно, он услышал о них в какой-нибудь сказке, а может, в его воспаленном сознании в красные лапти превратились, съежившись, сапоги-скороходы из сказок Афанасьева – в библиотеке хуторского дома мог быть, например, сборник 1873 года. Бывает, что в бреду, спровоцированном высокой температурой, ребенок хочет куда-то бежать, пытается выскочить в дверь, словно спасаясь от ужаса, от преследования. Возможно, больному ребенку из бунинского рассказа кажется, что красные лапти-скороходы унесут его от недуга, бредовых чудовищ, дадут облегчение.
Красная обувь могла в разных видах стоять на книжной полке хуторского дома. В издании сказки «Красная Шапочка» начала XX века на ярких картинках девочка ходит не только в красном головном уборе, но и в красных башмаках. Может, ребенка мучают раскаленные докрасна железные башмаки из сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» (cытинское издание 1898 года) – их злой мачехе надели. Но, скорее всего, «Красные башмаки» его напугали – с отрубленными пляшущими ножками и перевернутыми глазами, по которым мухи ползают. Эта сказка с красивыми иллюстрациями есть в издании 1879 года. Так что гибель Нефеда – на совести датского сказочника.
Итак, в своих поздних рассказах Бунин, говоря о русском человеке, обращается к древней, сказочной Руси. О русском – былинном, допетровском, дохристианском – говорится в рассказе «Чистый понедельник» (1944). Героиня как бы прозревает глубинный «адописный» смысловой слой в обыденном православии. Обедают в трактире: «Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы – барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву». Ее вдохновляет старообрядчество с древним пением по крюкам, могучие, в длинных черных кафтанах певчие, дьяконы Пересвет и Ослябя. Девушка сама как многослойная икона, в ней сочетаются самые неожиданные вещи – вот она «в одном шелковом архалуке» жарко целуется, потом проводит вечер в самых роскошных московских ресторанах с цыганами, а с утра ездит на кладбища и в кремлевские соборы. Целуя ее, герой думает: «Москва, Астрахань, Персия, Индия». Богатая изысканная барыня, знающая толк в хорошей еде и хорошей выпивке («и к наважке хересу» – я это с юности запомнила на всю жизнь), соблазнительная и соблазняющая, похожая на Шамаханскую царицу, вдруг уходит в монастырь. Для героя этот ее поступок также дик и непонятен, как для барина в «Косцах» мухоморный ужин. Такое впечатление, будто крепких жизнерадостных людей засасывает трясина древнего болота, про которое сложено много легенд.
Все вышесказанное, конечно, никак не претендует на какую-либо ученую значимость – это просто мои поверхностные дачные размышления о «странных мужиках» в русской литературе, о том, как менялся бунинский взгляд на Россию. В рассказах, написанных в эмиграции, «русское» все больше становится сказочным, былинным, таинственным. «Та» Россия, «та» жизнь ушли, и осталась неразрешимая загадка – не гоголевское «Русь, куда ж несешься ты?», а «Русь, куда ты унеслась и что это вообще было?». Очень показателен удивительный своей поэтической силой рассказ «Преображение», написанный в 1921 году. Там умирает старуха, один из ее сыновей идет читать над ней Псалтырь. Он остается у гроба в ледяной избе и вдруг видит, что «вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество – в покойницу». «…Он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. ‹…› Ее уже нет, она исчезла, – разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижное, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как Бог?»
Это «нечто грозное» лежит у Бунина под стареньким парчовым покровом, в дешевом гробике, обитом лиловым плисом с крестами и ангельскими головками, ветер весело раздувает свечки. Контраст преображенной покойницы со всем этим церковным игрушечно-новогодним убожеством, всей этой ветхостью, усиливает «страшный» эффект. Мне всегда становилось не по себе от деревенских дешевых икон, где строгие лики святых обрамлены столетними выцветшими бумажными цветами или советской елочной мишурой. Те же чувства на русских кладбищах с конфетками на могилках. Вот конфетка, пластиковый веночек, а вот прибитый лопатами холмик и бесконечная тайна.
Гаврила так поразился материнскому преображению, что бросил свое хозяйство и стал ямщиком: «Он всегда в дороге». Тут можно усмотреть символическую бунинскую эмиграцию: матушка-Россия вдруг приказала долго жить и так напугала и изумила писателя своей оригинальной кончиной (застрелилась в меланхолическом состоянии от большевистского иссушения), что он, подобно своему герою, кинулся, куда глаза глядят, и теперь «дорога, даль… – счастье, никогда ему не изменяющее».
Наталия Курчатова
Русское пространство Александра Куприна
Александр Иванович Куприн
(1870–1938)
…Говоря о «русскости» того или иного явления – а значительный писатель, каким является Александр Куприн, безусловно, будет для нас в большей степени явлением, нежели человеком, или языком, или текстом, – так вот, говоря об этой самой пресловутой «русскости», можно подразумевать разное. И если понятие «явление» в нашем случае включает в себя и человека, и его книги, и язык, которым они написаны, то с «русскостью» иначе. Элементы этого сложного понятия зачастую лишь частично совпадают друг с другом, а в некоторых случаях их набор может и вовсе принципиально различаться; что до количества и «портов приписки» этих элементов (тот же язык (или языки), культура (или культуры), вероисповедание (вероисповедания), государственность (государственности), национальность (национальности), территории, характеры и прочая, и прочая), то ареал их распространения впечатляюще широк (посмотри на карту), а количество стремится чуть ли не к бесконечности. Культурная развитость человека, живущего на территории России, определяется в том числе и тем, насколько широк спектр восприятия им этого ключевого понятия, сколько элементов он способен прозреть, различить и назвать, или же – насколько объемно и многоцветно его личное представление об общей и одновременно собственной культуре.
При этом набор элементов «русской матрицы» может быть разным для разных случаев – от откровенно спекулятивных («православие – самодержавие – народность») до специфически научных, концентрирующихся в одной сфере, но предельно детализирующих ее (например, «русский язык»: индоевропейский, восточная подгруппа славянских, включает в себя северное, южное и среднерусское наречия, литературный язык на основе среднерусского наречия, многочисленные диалекты и разговорные варианты), – и может быть сугубо индивидуальным: свой он у соседа дяди Васи (наш раён, детские воспоминания о лете в деревне, дембельский альбом, песня «Черный ворон», то, что в данный момент говорят по телевизору, и так далее), у гостя-иностранца (Толстой, Достоевский, водка, Эрмитаж, красивые девушки, украденный в кафе мобильный телефон и так далее), у преподавательницы литературы (золотой век русской словесности и книги Людмилы Улицкой, а также дача в Поповке, белые ночи, белая армия, Хабенский в фильме «Адмирал», череда школьных выпусков с 1992 по 2010 год и так далее).
Он свой и у писателя Куприна. С той, впрочем, разницей, что писатель способен зафиксировать свою индивидуальную матрицу в художественных образах и таким способом внедрить ее в культуру с некоторой даже деспотичностью. Так что когда преподавательница литературы будет говорить о «русскости» Куприна, то купринская матрица на время вытеснит из ее сознания белые ночи и дачу в Поповке, населив его вместо этого армейскими прапорщиками, киевскими путанами, волжскими арбузами, полесскими ведьмами, циркачами, татарами и великою любовью нелепого «телеграфиста» Желткова. А также всем тем (воспринимаемым в первую очередь подсознательно) строительным материалом, из которого автор слепил свою «русскую матрицу», свою собственную ее модель. Эта «изнанка образов» у Куприна сплетена как из заимствованных, так и из собственных жизненных впечатлений, необыкновенно пестрых и непосредственных: будучи далеко не самым образованным из современных ему литераторов, настоящим self-made man’ом (как сегодня бы сказали), он строил свою модель главным образом из деталей собственного жизненного багажа, но при этом полуинтуитивно использовал и фрагменты классического на тот момент наследия. В этом смысле Куприн соприроден не барственному Бунину, с которым его зачастую рифмуют по принципу «почвенности» обоих, но многолетнему то соратнику, то оппоненту Алексею Максимовичу Пешкову (Горькому) – с той разницей, что если Горький – среда и время, то Куприн скорее — среда и пространство. Оба были в некоторой степени маргиналами[40]40
Маргинал (лат. marginalis – «находящийся на краю») – человек, оказавшийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и т. д. – Прим. ред.
[Закрыть], самородками, оба перепробовали уйму профессий, отдали дань журналистике, обоим был свойствен истинно «репортерский», исследовательский зуд, только Горький из своего «времени» органично шагнул в следующий по хронологии русско-советский проект, а Куприн остался в дореволюционном «пространстве», которое великие (пере)стройки начала – середины XX века изменили, взломали почти до неузнаваемости. Таким образом, Горький стал первым писателем СССР, а Куприн остался создателем одной из самых характерных и привычных нам «русских матриц», если не сказать – «русского пространства». Приступая к чтению Куприна, имеет смысл заранее уяснить себе одну вещь: Куприн – не идеолог, не гражданин мира, ни в коем разе – не автор литературы «хорошего тона», зачастую он сентиментален, вульгарен, кривобок. Но его книги – это живейший источник смысла, непосредственный отчет о путешествиях, непотребствах и возможностях «русской души»; и готовящимся к визиту в Россию иностранцам стоило бы посоветовать читать не Достоевского или Толстого, а именно Куприна. У него есть все или почти все про нас, тогдашних и нынешних: про русскую армию, русского мужика, русских воров, чиновников, татар, кавказцев, мятущихся интеллигентов, евреев со скрипочками и без, околоточных (ментов)…
Не будучи наделен метафизической[41]41
Метафизический – основанный на метафизике, то есть таком способе мышления, который предполагает постижение общих законов бытия на основе не непосредственного, а умозрительного опыта. – Прим. ред.
[Закрыть] окрыленностью Льва Толстого, не обладая словесным мастерством Бунина или абсолютным психологическим слухом Чехова, Куприн, как никто, знал и чувствовал окружающую его русскую жизнь во всех ее пестроте и разнообразии, во всех ее вечных мифах и живописной повседневности. Куприн не из тех авторов, что долго и пристально вглядываются в типического героя или мучительно мыслят большую идею; его мир цветист и разнообразен, а кругозор невероятно широк – но многочисленные сюжетные коллизии Куприну довелось либо испытать на своей шкуре, либо пропустить через себя. Куприн – писатель с романной биографией, писатель – практик и очевидец, именно этим он привлекал современников, большинство которых редко совершали вылазки за пределы привычного круга (собственно, как и наши современники).
В том числе и поэтому, надо думать, именно Куприну довелось «впечатать» в сознание многих поколений читателей наиболее ходовую «матрицу русской идентичности», русскую модель накануне кардинальной и во многом разрушительной перемены. Насколько она полна и всеобъемлюща – вопрос другой, но она разнообразна, пестра и достоверна. До сих пор, говоря: «Россия», мы зачастую автоматически мыслим ее именно по Куприну, а не по Пушкину, Достоевскому или Толстому. Как так вышло – в этом и хотелось бы разобраться подробнее.
Александр Иванович Куприн родился в Поволжье, в Пензенской губернии, в городе (ныне село) Наровчате, на берегу реки Шелдаис, притока реки Мокши. Как-то раз, стоя с друзьями у карты на железнодорожном вокзале в Самаре (что примерно на широте Пензы), мы читали названия мелких населенных пунктов Приволжского федерального округа. «Это не карта, а пинок под зад русским нацикам, – заметил кто-то. – На самой “русской” реке – хорошо если одно славянское название на десяток».
Название «Наровчат», по самой распространенной версии, содержит в себе следы разных наречий: из мордовского нар – «поле», наровт – «полевые», щяйт – «болота», либо, напротив, тюркское чат – «возвышенность, кряж». В окрестностях действительно есть и поля, и болота, и возвышенность со знаменитыми пещерами, отображенная на гербе поселения. В 1913 году Куприн начал автобиографическое письмо Э. П. Юргенсону (известный библиограф, коллекционер рукописей и автографов) так: «Родился я 26 августа 1870 г. Пензенской губ. в городе Наровчате, о котором до сих пор есть поговорка: “Наровчат – одни колышки торчат”, потому что он аккуратно выгорает через каждые два года в третий дотла». В заметках Константина Паустовского о Куприне читаем: «Долгое время Наровчат по своей полной ничтожности пребывал в качестве так называемого “заштатного города”. В нем не было ничего примечательного, кроме ремесленников, делавших хорошие решета и бочки, и ржаных полей, подступавших вплотную к заставам Наровчата. У городка этого по существу не было истории, как не было и своих летописцев. Да и в литературе Наровчат до революции ни разу не отмечался».
Что ж, печальная рисуется картина – видимо, так все и было во времена Куприна, да и сейчас Наровчат вряд ли самое оживленное место на земле. Потому совершенно неудивительно, что Куприн так уцепился за миф о происхождении своего рода (по линии матери) от татарских князей Куланчаковых – отзвук древней и гордой истории сообщал некоторую романтику как провинциальному существованию ранних лет, так и последовавшим за ним скитаниям по казенным домам.
По свидетельству Ивана Бунина, своим происхождением от татарской знати Куприн гордился едва ли не больше, чем литературной славой: «…она (мать Куприна. – Н. К.) была княжна с татарской фамилией, и [я] всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза»[42]42
Бунин И. А. Куприн. [1938] – Прим. ред.
[Закрыть]. Сохранилась фотография гатчинского периода, где Куприн позирует за рабочим столом в той самой тюбетейке. Следы этого личного «татарского мифа» встречаются во множестве и в его книгах – так, в автобиографическом романе «Юнкера» писатель прямо говорит о происхождении героя от татарских князей и объясняет этим его (то есть свой собственный) взрывной темперамент, гордый нрав и диковатые выходки. С «выходками» у Куприна и впрямь был полный порядок – в свое время его поступление в Академию Генерального штаба сорвалось из-за того, что по дороге из расположения полка в столицу он то ли побил, то ли выкинул в реку с парохода околоточного (полицейского). Его буйство во хмелю было хорошо известно друзьям и знакомым, один раз он даже кинул своей первой жене, дочери издательницы Давыдовой, женщине интеллигентной и светской, спичку на подол платья. Марию Карловну успели потушить, но крепости семейным узам это не добавило.
Надо полагать, Куприн в большой степени бравировал своей «татарской изюминкой» – она была, как сейчас бы сказали, элементом имиджа, легенды о публичном человеке. Впрочем, архивные исследования XX века[43]43
Абдуллин И. Александр Куприн и Амирхан Еники // Поиски и находки / cост. А. К. Тимергалин. Казань: Татарское книжное издательство, 1989.
[Закрыть] если не подтверждают эту легенду безоговорочно, то, безусловно, дают ей неплохой шанс. По свидетельствам документов, некий «Кулунчак князь Еникеев» еще в 1577 году получил от царя Ивана Грозного за курьерскую службу и охрану южных границ «скот; людей; различный мелкий скот, бортевые места; право собирать ясак и тамгу… возможность рыболовства; охоты на бобра и различные угодья». Справедливости ради надо сказать, что слава рода Куланчаковых уже за несколько поколений до Куприна стала глубокой историей; судя по тем же архивным данным, в XVIII веке им даже пришлось восстанавливать право на дворянство – в книгу пензенских дворян они внесены всего лишь в 1795 году. Дело в том, что в конце XVII столетия, при царе Алексее Михайловиче, перед татарской знатью был поставлен выбор – креститься и сохранить титулы и привилегии или остаться «нехристями» (по преимуществу касимовские татары исповедовали ислам, но встречались и язычники). Тех, кто не пожелал менять веру, приписывали к податному сословию крестьян-однодворцев, а следующая возможность зафиксировать знатное происхождение представилась только в 1785 году, когда Екатерина II приняла Жалованную грамоту дворянству. Ею и воспользовались Куланчаковы. Таким образом, что-то около столетия предки Куприна были князьями лишь в собственном воображении и несли все тяготы низшего, «податного» сословия.
Впрочем, и возобновленное в конце XVIII века княжеское достоинство к концу XIX сильно потускнело: по воспоминаниям самого писателя, предки с невероятной быстротой пустили на ветер новообретенные земли и угодья. И то вопрос, были ли они (богатства и угодья) в природе: последний князь Куланчаков, дед Куприна, был всего лишь коллежским регистратором, то есть имел низший, 14-го класса, гражданский чин по Табели о рангах. Среди предыдущих поколений Куланчаковых – поручики, прапорщики, гвардии унтер-офицер, что тоже, прямо скажем, не свидетельствует о блистательности и материальном благополучии фамилии.
Как бы то ни было, красивая легенда о гордых и грозных степных князьях очень поддерживала одаренного и самолюбивого мальчика, а затем юношу в его мытарствах по «казенным домам». Да и став взрослым, Куприн нет-нет да и дает волю сентиментальности. В одном из писем матери тридцатилетний уже писатель говорит: «На моем балконе развевается стяг, на котором нарисован жеребенок на зеленом лугу». «Колынчак» по-татарски – это годовалый жеребенок, поэтому изображение золотого жеребенка на зеленом лугу считалось, как сообщал Куприн в письме И. А. Бунину, «знаменем дворянского духа принцессы Кулунчаковой». Выйдя из Александровского училища пехотным подпоручиком, Куприн всю жизнь оставался страстным лошадником, много писал о конях вообще и о рысистых бегах в частности. Так и жеребенок на зеленом лугу вновь мелькнет в купринском рассказе «Изумруд» (1907):
«Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. ‹…› Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!»
Немудреное, в общем-то, но чрезвычайно для Куприна характерное противопоставление: юность в ее красоте, искренности и природной силе с одной стороны и лицемерный «взрослый» мир, пронизанный одновременно пороком и многочисленными условностями, – с другой. Истоки подобного взгляда – в самых непосредственных и ярких впечатлениях, которые даны каждому человеку, а именно – во впечатлениях детства и юности.
После ранней смерти отца, мелкого судебного чиновника, семья перебирается в Москву. Мать писателя, та самая гордая княжна Любовь Алексеевна Куланчакова, оказывается в Московском вдовьем доме, считай – богадельне, да не одна, а с тремя малолетними детьми. Реалии вдовьего дома отражены в рассказе «Святая ложь», пронзительной истории «маленького человека» и своеобразном парафразе[44]44
Парафраз (парафраза, парафразис) – (греч. pariphrasis – «пересказ») – пересказ, передача другими словами или в другой форме содержания чего-либо. – Прим. ред.
[Закрыть] гоголевской «Шинели». При сопоставлении двух этих историй (Гоголя и Куприна) явно видна природа таланта обоих авторов. Гоголь, несомненно, крупнее как творец и в силу этого беспощаднее: из частной трагедии Акакия Акакиевича он делает мистерию, переосмысляет ни много ни мало – душу города, спорит с мифом. Куприн же болеет именно частной историей и в попытке вообразить счастливый конец спорит не с мифом, а с жизнью. Он, несомненно, больший гуманист, причем гуманизм его не абстрактен, а предельно эмоционален; не удивлюсь, если он сам был способен расплакаться над судьбою своего Ивана Ивановича. Это очень по-русски.