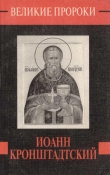Текст книги "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды"
Автор книги: Павел Басинский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
ВОСПИТАННЫЕ И НЕВОСПИТАННЫЕ
В судьбе Толстого, как и отца Иоанна Кронштадтского, ясно виден Промысел Божий. Самые, на первый взгляд, случайные события, накладываясь одно на другое, рождали совсем не случайные результаты, навсегда определяя пути этих людей.
Например, нельзя не обратить внимания на очень важный разломв воспитании детей Толстых. Как случилось, что в обычной дворянской семье двое старших детей получили упорядоченное воспитание, а трое младших – нет? Если бы всё шло своим порядком, Льва, как и его старших братьев, системно воспитывали бы два человека: мать Мария Николаевна и французский гувернер Сен-Тома. Этого не мог делать отец, как по объективным причинам – он был постоянно занят хлопотами по имениям, так и по субъективным – Николай Ильич был большой любитель вина и карт. Но мать умирает, когда Лёвочке не исполнилось и двух лет. Что касается Сен-Тома, то его прямое руководство младшими мальчиками, Митей и Львом, было недолгим. Вскоре после того, как француза по настоянию бабушки Пелагеи Николаевны взяли на постоянное жительство в московский дом, бабушка скончалась. После ее смерти было решено отказаться от содержания дорогого московского дома, найти квартиру попроще, а в результате разделить детей. Старшие, Николай и Сергей, вместе с опекуншей А.И.Остен-Сакен и Сен-Тома остались в Москве, чтобы готовиться в университет. Младшие – Дмитрий, Лев и Маша – с Т.А.Ёргольской и немцем-гувернером Ф.И.Рёсселем отправились в Ясную Поляну, где дети до кончины А.И.Остен-Сакен и переезда в Казань провели время вольно и весело, под надзором доброй тетеньки и пьющего немца.
При жизни отца и до приглашения в дом француза четырех мальчиков воспитывают разные люди. Например, бабушка Пелагея Николаевна – властная, капризная, деспотичная, бесконечно влюбленная в своего сына Николая Ильича, которого она безмерно избаловала. Она привыкла ни в чем себе не отказывать, жить на широкую ногу и не заботиться о деньгах, которые тают на глазах, как это уже было во времена ее жизни с супругом Ильей Андреевичем Толстым, разорившимся аристократом. Это одна линия воспитания Льва Толстого. Вернее сказать, невоспитания.
Другая линия – тётушки Татьяна Александровна, Пелагея Ильинична и Александра Ильинична. Первая – дальняя родственница, без своих средств и без права руководить домом и детьми. Вторая и третья – родные сестры Николая Ильича. Замечательные женщины, но каждая со своей непростой судьбой.
Пелагея Ильинична Юшкова (в девичестве Толстая) была младшей дочерью в семье Ильи Андреевича. С детства она была окружена заботой родителей и тоже сильно избалована, потому что слова «выговор» и «наказание» в этой семье даже не произносились. Детство, молодость, да и вся ее жизнь были пропитаны традициями русского барства, сложившимися еще в XVIII веке, когда Екатерина II даровала вольность дворянам. В юности она любила читать, делала выписки из Бальзака, Шатобриана и других французских писателей, но всё это вскоре забросила. Дневник, например, прекратился на первой странице. Она вышла замуж за отставного гусарского полковника Владимира Ивановича Юшкова, который был старше ее лет на десять (а быть может, и больше), но который не любил ее, даже презирал, в то время как она любила его всей душой и считала свое сердце разбитым. Едва ли не это было причиной ее набожности. Она любила принимать у себя монахов и архиереев, любила ездить по монастырям. Юшковы жили в Казани на широкую ногу, имели лучшего в городе повара и славились своими балами.
Прямого влияния на племянников, когда они остались сиротами, тетушка иметь не могла, потому что жила в Казани. Но и когда младшие Толстые в 1841 году переехали в Казань, Пелагея Ильинична мало влияла на них, особенно на мальчиков, чьи характеры вполне сформировались. Один из ее «воспитательных» поступков, который впоследствии возмущал Льва Толстого, заключался в том, что она подарила младшим мальчикам, Дмитрию и Лёвочке, по крепостному ребенку в расчете, что из них получатся верные слуги господам…
«Это была добродушная светская, чрезвычайно поверхностная женщина… – сообщает о ней в «Материалах к биографии Л.Н.Толстого» Софья Андреевна. – Всегда живая, веселая, она любила свет и всеми на свете была любима; любила архиереев, монастыри, работу по канве и золотом, которые раздавала по церквам и монастырям; любила поесть, убрать со вкусом свои комнаты, и вопрос о том, куда поставить диван, для нее был огромной важности. Муж ее был хотя человек умный, но без правил. Жил он бездеятельно, прекрасно вышивал по канве, подмигивал на хорошеньких горничных и играл слегка на фортепиано». В конце концов Пелагея Ильинична оставила своего ветреного мужа и поселилась в монастыре под Тулой, несмотря на приглашение племянника Льва жить в Ясной Поляне. В Ясную она переехала перед самой смертью, настигшей ее в 1875 году.
Судьба второй родной тетушки Толстого – Александры Ильиничны Остен-Сакен, Алины, – оказалась куда сложнее.
Она была очень образованна, знала несколько иностранных языков, превосходно играла на флейте и фортепиано. Она была, как вспоминал Толстой, «очень привлекательна, с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица». Алина имела большой успех при дворе в Петербурге и была выдана замуж за богатого и знатного остзейского графа Остен-Сакена. Но это обернулось несчастьем для нее. Граф оказался бешено ревнив, а вскоре у него проявились и признаки прямого психического расстройства, которые выражались в мании преследования. В первый год после свадьбы он дважды покушался на жизнь жены; однажды выстрелил в нее, беременную, в карете, «спасая» от несуществующих преследователей, и бросил раненую на дороге. От потрясения у Алины родился мертвый ребенок, но ей об этом не сообщили, заменив его новорожденной дочерью придворного повара. Впоследствии она узнала правду, но воспитывала Пашеньку как приемную дочь.
После смерти психически больного мужа Александра Ильинична жила с братом Николаем Ильичом. Несчастная судьба сделала ее очень религиозной, превратив некогда блистательную Алину в «скучную богомолку», как она себя иронически называла. «Тетушка… была истинно религиозная женщина, – вспоминал Лев Толстой. – Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы со странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки… Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим всё, что у нее было».
Тем не менее даже в старческом возрасте Лев Толстой не мог забыть «особенный кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах»!
После внезапной смерти Николая Ильича от удара Александра Ильинична стала опекуншей над детьми. Да, она заботилась о них. Но это не поглощало до конца ее души. Всё в ней было подчинено служению Богу. В 1841 году она поселилась в Оптиной пустыни, возможно, предчувствуя свою смерть, но и приближая ее строжайшими постами и выстаиванием многочасовых служб. В том же году она умерла в монастыре, где и была похоронена. Над ее могилой был воздвигнут памятник со стихами, по всей видимости, написанными тринадцатилетним Лёвой.
Эти две замечательные женщины, конечно, оказали какое-то влияние на личности племянников, привив им высокий дар любви и доброты и сообщив первые зачатки религиозных настроений. Однако ни о каком систематическом воспитании с их стороны не было и речи.
Единственные дети в семье Толстых, которые получили более или менее упорядоченное воспитание, были Николай и Сергей. Особенно старший Николенька, или Коко, которого мать, Мария Николаевна Толстая, успела довести до семилетнего возраста и который единственный хорошо ее помнил. В особом «Журнале поведения Николеньки» она записывала его ежедневные поступки, среди которых наиболее предосудительными считались лень, блажь и капризы – то, что она называла словом митрофанитьот имени Митрофанушки в комедии Фонвизина «Недоросль». Не поощрялась и слезливость, которой впоследствии с избытком отличался ее младший сын Лёвочка. Пунктуально записывая в журнал все хорошие и плохие поступки Николеньки, Мария Николаевна не придерживалась какой-либо определенной программы воспитания, но своя четкая линия в этом по крайней мере присутствовала.
Поэтому, наверное, не случайно самый старший, Николай Николаевич Толстой, оказался и наиболее дельным человеком. Он поступил в Московский университет на математический факультет, затем успешно перевелся в Казанский университет и окончил его с отличием. Из него вышел прекрасный военный. Он служил в артиллерии на Кавказе, был участником карательных экспедиций против непокорных чеченцев и вообще имел вкус к военной службе. Он не был лишен творческого дара. Его очерк «Охота на Кавказе», опубликованный в некрасовском «Современнике» в 1857 году, вызвал восторг Тургенева, а Некрасов даже считал, что Николай «тверже владеет языком», чем Лев, уже прославившийся своим «Детством». В известной степени так и было. Кавказские и другие охотничьи очерки и рассказы Николая Толстого отличаются именно «твердым» языком, без особых прикрас, без сантиментов, без слез, которыми пропитана вся автобиографическая трилогия его младшего брата. Но в прозе Н.Н.Толстого нет и тех духовных исканий, религиозных порывов, без которых нельзя представить «Детство» Л.Н.Толстого. Это вполне земная, «объективная» и в лучшем случае – интересная психологическая проза.
Нет смысла гадать, что было бы с Николаем Толстым, если бы он не скончался в тридцать семь лет от скоротечной чахотки. Но при жизни он был безусловным авторитетом для братьев. Он был закоренелым холостяком, и это позволило ему избежать семейных конфликтов, которые всю жизнь терзали других братьев – Сергея и Льва. Последний неизменно завидовал Николеньке, главным образом – его способности стоять выше «мнения людского». Эта черта характера перешла к Николаю непосредственно от матери, которая всегда была равнодушна к мнению посторонних. Впрочем, эта черта характера отличала и Сергея, и Дмитрия. И только один Лёвочка не мог ею похвастаться.
Но именно отсутствие этой черты определило в будущем громадное преимущество Льва перед старшими братьями. За время своего беспорядочного и полного противоречивых влияний развития он впитал в себя человеческий мир, развил способность к перевоплощению в самых разных героев – от мужиков до аристократов, от детей до стариков, наконец, от мужчин до женщин.
Но для нас важнее другое. Почему Николай и Сергей, в отличие от Дмитрия, Льва и Марии, в сознательном возрасте оказались религиозно равнодушными людьми, не проявлявшими интереса к религии и церковным обрядам? Почему то, что для младших братьев и сестры стало стилем поведения (Дмитрий), единственным путем спасения (Мария) и колоссальной духовной трагедией (Лев), для старших братьев либо совсем не имело цены, либо уж точно не стало содержанием их жизни?
Из пятерых детей Марии Николаевны Толстой двое старших, Николай и Сергей, которые успели испытать на себе непосредственное влияние матери, были совсем не религиозны. Зато младшие, Дмитрий, Лев и Мария, воспитанные тремя верующими тетушками, пусть и каждый по-своему, прошли религиозный путь. При этом все пятеро были совершенно непохожими людьми, объединенными разве что известной «дикостью» толстовской породы и крайней щепетильностью в вопросе о личной чести.
Младшая сестра Толстых Мария Николаевна Толстая скончалась в Шамординском монастыре схимонахиней. Согласно легенде, на Машу, когда она была еще маленькой девочкой, обратил внимание старец Оптиной пустыни отец Амвросий, сказав ей: «Маша будет наша». Тем не менее от ухода в монастырь Марию предостерегал ее московский духовник, знаменитый священник кремлевского Архангельского собора Валентин Амфитеатров. Очень уж нехарактерным, даже вызывающим для светской женщины был такой путь.
О брате Дмитрии, который был старше его всего на год, Толстой писал в своих «Воспоминаниях»: «В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться… Не только с Казани, но еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками… Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он всё делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни».
Религиозное настроение, совсем не свойственное старшим братьям, привело к тому, что Дмитрий оказался белой вороной не только в своей среде, но и среди своих ближайших родственников, не исключая семьи Юшковых, где опекунша Толстых тетушка Пелагея Ильинична Юшкова могла сочетать светские удовольствия с дружбой с казанскими архиереями и монахами.
«Он был неряшлив и грязен, – вспоминал Лев Толстой, – и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик, подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука».
Митя ходил не в модную университетскую церковь, а в острожную, где вопреки тюремным правилам принимал от заключенных для передачи причетнику свечи или деньги на свечи. В товарищи себе он выбрал «жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым…)» В семье Юшковых была приживалка, девушка Любовь Сергеевна, странное и жалкое существо, с постоянно распухшим лицом, «как бывают запухлые лица, искусанные пчелами… Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть… От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И – удивительное дело – мы так были нравственно тупы, что только смеялись на этим».
Полвека спустя вождь большевиков Владимир Ленин назовет Льва Толстого «барином, юродствующим во Христе». Но это сомнительное определение мало относилось к внешней жизни Льва Николаевича, который даже в периоды крайнего опрощения оставался в своих привычках аристократом, на что справедливо указывает его сын Илья Львович в прекрасных воспоминаниях об отце. Толстой всегда был чрезвычайно чистоплотен. Например, забыв во время ухода из Ясной Поляны щеточку для ногтей, он немедленно написал дочери Саше, чтобы та ее привезла. Характерно, что он написал это письмо о «щеточке» из Оптиной пустыни.
Зато в поведении брата Дмитрия несомненно были черты юродства. В Петербурге он заявился к знакомому правоведу Д.А.Оболенскому в пальто и фуражке. У того были гости. Дмитрия познакомили с ними и предложили снять пальто. Но оказалось, что под пальто ничего нет. «Он находил это излишним».
Дмитрий Толстой скончался в молодом возрасте от чахотки. Незадолго до смерти с ним случился переворот. «Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам». Но и в этой жизни он оказался нравственным ригористом. «Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе». Лев Толстой был единственным из братьев, кто посетил умирающего в Орле. «Он был ужасен. Огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было – одни глаза и те же прекрасные, серьезные, а теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал, и не хотел умирать, не хотел верить, что он умирает. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне по его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее».
В «Воспоминаниях» Толстой не открывает нам выражения этого лица. Но в романе «Анна Каренина» в сцене прощания Константина Левина с братом, который был списан с Дмитрия, это выражение Толстой показывает – и жестоко, видя в нем «временное, корыстное, с безумной надеждой на исцеление» чувство. Ему «мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил».
Сравним эту страшную сцену с описанием смерти другого брата, Николая, во Франции.
«В день своей смерти он сам оделся и умылся, – писал Лев в Россию брату Сергею, – и утром я его застал одетого на кресле. Это было часов за 9 до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть. Первое было в нужнике. Я вышел вниз и слышу, дверь его отворилась, вернулся – его нет нигде. Сначала я боялся войти, он не любил; но тут он сам сказал: “Помоги мне”. И он покорился и стал другой, кроткий, добрый; этот день не стонал; про кого ни говорил, всех хвалил, и мне говорил: “Благодарствуй, мой друг”… Страдать он страдал, но он только раз сказал дня за два до смерти, что ужасные ночи без сна. К утру давит кашель, месяц, и что грезится, Бог знает! Еще такие ночи две – это ужасно. Ни разу ясно он не сказал, что чувствует приближение смерти. Но он только не говорил. В день смерти он заказал комнатное платье и вместе с тем, когда я сказал, что ежели не будет лучше, то мы с Машенькой (сестрой. – П.Б.) не поедем в Швейцарию, он сказал: “Разве ты думаешь, что мне будет лучше?” таким голосом, что, видно, он чувствовал, но для меня не говорил, а я для него не показывал… Он умер совсем без страданий (наружных, по крайней мере). Реже, реже дышал, и кончилось. На другой день я сошел к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет страдальческое, страшнее, чем во время болезни, и ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим, веселым, спокойным выражением. Вчера его похоронили тут».
Николай, в отличие от Дмитрия, уходил из жизни как стоик, так сказать, застегнутый на все пуговицы, не нуждаясь не только в чудотворных иконах, но и в церковном утешении. Судя по письму Льва, он не исповедовался, не причащался, что, вероятно, не так просто было сделать на южном острове Франции.
При всем том именно Митенька, как и Маша, был ближе Лёвочке и по возрасту, и по мятущемуся, неспокойному характеру, чем Николенька с его недосягаемым авторитетом. В своих «Воспоминаниях» Толстой признается, что в детстве только с Митей по-настоящему дружил, а старшим братьям завидовал и пытался подражать. Всё это и обозначает тот разломмежду братьями, в котором религиозная составляющая была, скорее всего, следствием особенностей их воспитания.
Однако религиозное равнодушие не помешало старшим братьям формально оставаться, по-видимому, вполне православными людьми. Мы ничего не знаем о религиозном бунтарстве Николая Толстого, который всегда был просто добрым и глубоко порядочным человеком. Второй по старшинству брат, Сергей Николаевич, даже построил в своем имении Пирогово православный храм, довершив дело, начатое отцом, тоже, кстати, относившимся к религии спокойно и в общем-то прагматически. В то же время Сергей Николаевич откровенно презирал попов, а монашеский клобук своей сестры Маши называл «цилиндром».
«ВСЯ ЖИЗНЬ ЕЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ…»
Но все-таки кто религиозно воспитывал Льва Толстого? Ведь не могло же случиться так, чтобы его первые представления о Боге, о церкви, об аде и рае, о молитвах возникли как-то сами по себе или только из прочитанных им когда-то книг?
И здесь мы должны вернуться к одной из самых загадочных фигур в судьбе Толстого, повлиявшей на него необратимым образом, – к его самой любимой тетеньке Татьяне Александровне.
Татьяна Александровна Ёргольская выросла полусиротой и приживалкой, хотя и не в чужом доме. Она была троюродной тетушкой Льва Толстого. Родилась она в 1792 году. После смерти матери и вторичной женитьбы отца две девочки, Таня и Лиза Ёргольские, были разыграны с помощью бумажек между двумя родственницами: Т.С.Скуратовой (сестрой их отца) и будущей бабушкой Льва Толстого Пелагеей Николаевной. Черненькая Таня досталась Пелагее Николаевне, а светленькая Лиза – Татьяне Семеновне. Таня росла вместе с Николаем Толстым, будущим отцом писателя, и, как это описано Толстым в «Войне и мире» (Соня и Николай Ростов), была в него влюблена. Но в жизни получилось не совсем так, как в «Войне и мире». Николай Толстой был влюблен в свою кузину гораздо сильнее, чем Николай Ростов в свою бедную родственницу. Вообще, между Соней в «Войне и мире» и Татьяной Ёргольской мало общего, хотя в остальном роман почти соответствовал жизни. Николай Толстой должен был жениться на Марии Николаевне Волконской без особой любви из-за плачевных финансовых обстоятельств своей семьи. Но, женившись, он оказался счастлив. Его жена, наверное, знала о любви мужа к Туанетт, которая была очень красива или, во всяком случае, так привлекательна, что в нее был влюблен даже ветреный полковник в отставке В.И.Юшков, муж Пелагеи Ильиничны. Но в отличие от Пелагеи Ильиничны, Мария Николаевна никак не проявляла ревности к Туанетт, продолжавшей жить в их доме. Во время отъездов Ёргольской к сестре Елизавете в Покровское Чернского уезда Мария Николаевна писала ей письма, в которых чувствовались неподдельная любовь и уважение. Впрочем, не исключено, что просто таков был характер матери Льва Толстого, не позволявшей себе унизительной ревности. Так или иначе, проблема любовного треугольника все-таки была. Но она не развивалась, потому что все участники треугольника понимали силу сложившихся обстоятельств.
Однако обстоятельства эти могли измениться после смерти Марии Николаевны в 1830 году. Туанетт к тому времени было тридцать восемь лет, а Николаю Ильичу – тридцать шесть. И он сделал предложение той, которую всю жизнь любил. Но Туанетт ему отказала.
И – совершила ошибку, в результате которой дети Николая Ильича после его смерти попали к двум опекуншам, может быть, и любившим племянников, но слишком озабоченным своими личными проблемами.
Если с Александрой Ильиничной Остен-Сакен Татьяна Ёргольская еще уживалась, продолжая в Москве заботиться о детях, то переехать в Казань к Пелагее Ильиничне Юшковой она отказалась – отношения их были слишком натянутыми. В результате всех этих сложных отношений и возник тот самый разлом, о котором мы писали. Старших мальчиков в Москве воспитывал Сен-Тома, а младших детей в Ясной Поляне – Т.А.Ёргольская. И хотя она относилась к Сен-Тома с огромным уважением, ее влияние на младших было существенно иным, чем влияние Сен-Тома на старших. Это особенно наглядно проявилось в двух уже описанных нами ситуациях: попытке Сен-Тома наказать Льва и том ужасе и отвращении, которые вызвал у Ёргольской рассказ детей о наказании кучера. Ничего удивительного, что, когда братья съехались в Казани, младшие сильно отличались от старших и по своим глубинным мировоззрениям, и даже по поведению. Особенно сложно было со Львом.
В два неполных года лишившись матери и до переезда в Казань в тринадцать лет, Лев рос под влиянием двух могущественных сил. Первая – это родня и яснополянский народ, включая и дворовых, из этого народа вышедших. В «Воспоминаниях» он в 75-летнем возрасте легко называет имена людей из прислуги, которых знал в детстве: «1) Прасковья Исаевна, 2) няня Татьяна Филипповна, 3) Анна Ивановна, 4) Евпраксея. Мужчины: 1) Николай Дмитрич, 2) Фока Демидыч, 3) Аким, 4) Тарас, 5) Петр Семеныч, 6) Пимен, 7) камердинеры: Володя, 8) Петруша, 9) Матюша, 10) Василий Трубецкой, 11) кучер Николай Филипыч, 12) Тихон». И это не какая-то особенная память на имена. Эти люди были не просто частью памяти Толстого – они были егочастью, они были им самим. Поэтому, начав «Воспоминания» о себе, он сейчас же забыл о своей личности, растворившись в великом множестве людей, не зная, кому отдать предпочтение.
Мать? Но ее он не помнил! Отец? Но его он видел нечасто, и от него остались хотя и приятные, но смутные воспоминания. И тогда, словно ракушками, автор «Воспоминаний» обрастает огромным количеством лиц, где «баре» перемешаны с народом, законные дети – с приемными и незаконнорожденными. «Бабушка сидит на левой стороне дивана с <…> золотой табакеркой в чепце с рюшей. Тетушки Александра Ильинична, Татьяна Александровна, Пашенька, Машенька, дочь с своей крестной матерью Марьей Герасимовной <…> Федор Иванович, все собрались, ждут папеньку из кабинета».
Объединить всех этих людей, настолько разных, что даже непонятно, как они могли все собраться в одном небольшом пространстве, можно только одним – любовью. Но любовью не эгоистической, которая требует любви за любовь и внимания прежде всего к своей личности, а той любовью, которая и стала религией Толстого. И эта любовь была внушена ему второй могущественной силой – обаятельной личностью тетеньки Татьяны Александровны.
В зрелом возрасте Лев Толстой разделял два представления о любви. «Всякое влечение одного человека к другому я называю любовью», – писал он. Но в то же время: «Я понимаю идеал любви: совершенное жертвование собою любимому предмету». Когда Татьяна Александровна Ёргольская отказывалась от брака с Николаем Ильичем, она, возможно, руководствовалась тем же представлением о любви, которое в будущем в качестве идеала исповедовал ее племянник: в любви не должно быть эгоистических мотивов.
16 августа 1836 года она записывает на клочке бумаги: «Николай сделал мне сегодня странное предложение – выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива».
Вот интересно: задумывалась ли тогда Туанетт, почему предложение поступило от Николая не спустя положенный год, но спустя шесть лет после смерти супруги? Во всяком случае, его собственная скорая смерть менее чем через год после этого предложения всё расставила по своим местам. Это было именно практическое предложение с его стороны. Не продолжение love story с появившейся наконец возможностью для бедной родственницы выйти замуж за любимого кузена, а желание больного отца устроить жизнь своих детей, чтобы они не чувствовали себя сиротами после его кончины. Именно этого Туанетт, с ее представлениями о чистоте любви, и не поняла.
Уже 21 июня 1837 года она пишет о смерти Николая Ильича: «День страшный для меня, навсегда несчастный. Я потеряла всё то, что у меня было самого дорогого на свете, единственное существо, которое меня любило, которое оказывало мне самое нежное, самое искреннее внимание и которое унесло с собой всё мое счастье. Единственное, что привязывает меня к жизни, – это жить для его детей» (перевод с французского. – П.Б.).
Но чтобы жить для его детей, надо иметь правона его детей, а вот его-то у Ёргольской, как дальней родственницы Толстых, как раз и не было.
После отъезда всех детей в Казань в 1841 году она осталась в печальном одиночестве.
«Одиночество ужасно! Из всех страданий это самое тяжелое. Что делать с сердцем, если некого любить? Что делать с жизнью, если некому ее отдать?» Так Татьяна Александровна понимала любовь, так она понимала жизнь.
Так это, по-видимому, понимал и Лев Толстой, когда создавал свое великое нравственное учение о законе любвив противовес закону насилия. Но если с насилием всё более или менее понятно, как со всем, что Толстой решительно отрицал, то положительная часть его учения была далеко не ясна. Что значит любить всех? Любовь Татьяны Александровны Ёргольской была отнюдь не любовью ко всем. Это была, если угодно, сверхэгоистическая любовь, потому что всю свою жизнь она любила одного-единственного человека – Николая Ильича.
Понимал ли это Толстой? Прекрасно понимал! «Главная черта ее была любовь, – пишет Толстой в своих поздних «Воспоминаниях», – но, как бы я ни хотел, чтобы это было иначе, – любовь к одному человеку – к моему отцу. Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась и на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь(курсив мой. – П.Б.)».
Когда Татьяна Александровна, забывшись, обращалась к своему любимому племяннику Лёвочке, называя его Nicolas (остались такие свидетельства), что он при этом должен был чувствовать? Что на самом деле он думал о своих отце и матери, зная, что был рожден в браке, который заключен на небесах, но все-таки не по любви? Не потому ли Толстой всегда так решительно разделял реальный облик своей матери и ее идеальный образ, что в противном случае самые основы его возвышенной теории могли дать трещину?
«Матери своей я совершенно не помню. Мне было 11/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета; так что, как реальное физическое существо, я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно…» Это он пишет в своих «Воспоминаниях». И в них же он пишет о Ёргольской:
«Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами». Чувствуете сходство?
«…Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь»; «еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви»; «всем своим существом заражала меня любовью»…
Да, но какая это любовь?
Нельзя сказать, что Толстой не чувствовал всю сложность оттенков отношений между матерью и отцом, которые, женившись не по любви, тем не менее прожили девять счастливых лет в любви и согласии, рождая прекрасных детей, которых воспитывали и мать, и Татьяна Александровна, любившая его отца. Но именно эти оттенки никак не укладывались в его нравственную теорию о любви ко всем.