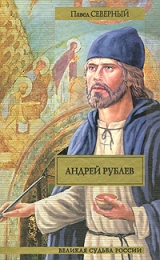
Текст книги "Андрей Рублев"
Автор книги: Павел Северный
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Андрей возвращался в монастырь к отцу Паисию, на шестые сутки он вышел на берег знакомой лесной реки.
Из Москвы он выехал в возке митрополичьего посланца иеромонаха Феофила, которому было сказано везти Андрея до той поры, пока у него будет в том надобность. Но вышло все по-иному. Отъехав от Москвы верст двадцать, Феофил, затосковав по пище, приказал завернуть в боярское угодье. В нем у знакомого ему тиуна за трапезой так зело напробовался пива с медом, что нежданно для Андрея не пожелал, чтобы тот находился с ним в возке.
Андрей не понравился Феофилу тем, что был любознателен, ко всему проявлял интерес, обладая зорким глазом, а видимое непременно запоминал. Феофил приобвык жить без чужого пригляда. В дальних странствиях по Руси, совершаемых по наказу митрополита, с ним случались всякие оказии, на которые чужим людям лучше не глядеть. Зная о своих слабостях, Феофил вины греховной для себя в том не находил, утешая себя тем, что лихая мирская жизнь так обильна соблазнами, мимо которых не всегда пройдешь, даже осеняя себя крестом.
Расставшись с мягким возком, Андрей не горевал, продолжая пеший путь без торопливости, выспрашивая дорогу к монастырю, отдыхая среди приволья лесной Руси. Дни стояли погожие, с легкими дуновениями ветерка, шагалось легко.
Ночевал Андрей в селениях, платя хозяевам за ласковый приют помощью в житейских делах. В пути жил воспоминаниями о Москве. Перебирая в памяти, что повидал в Кремле и на крикливом торге, думал о том, что услышал на владычном дворе и в Симоновом монастыре. Но больше всего думал он о митрополите Алексии, а вспоминая то утро, когда показал ему поновленный образ, всякий раз холодел. Ясно помнил, как митрополит, низко наклонясь к иконе, впился взглядом в глаза Христа, а обернувшись, вопросительно прошептал:
– Неужли осмелился коснуться очей?
От вопроса Андрей, одеревенев от страха, виновато склонил голову, слышал шепот старца.
– Да помилует тебя Господь за сию дерзновенность! По грешному своему разумению в содеянном тобой греха не зрю, но зрю в очах Спасителя свет небес, под коими Святая Русь. Поновление инаким быть не должно.
Перекрестив Андрея, митрополит сказал полным голосом:
– Из Москвы уходи! Житье, данное тебе Всевышним, правь в мирском быту до той поры, когда разум заставит мыслить о службе Господу. Даром своим украшай православную Русь ликами святых мучеников за веру Христову, в коих люди видят для себя заступу от всех ниспосылаемых за грехи испытаний. Помни о сем. Молодость страхом перед Господом не замай! Благословляю тебя на путь прямой и честный со стойкостью души. Помолюсь о тебе. Помолюсь! Но из Москвы уходи, дабы в странствиях познать святость Руси…
Андрей слушал митрополита, а самого бил озноб, от испуга он даже не понимал смысла сказанного. Но память сохранила каждое слово митрополита, и теперь Андрею было радостно, ведь мудрый старик утвердил в нем уверенность, что поновление иконы сделано правильно, хотя и выполнено оно против всех незыблемых канонов иконописания.
После освящения поновленного образа митрополит наградил Андрея серебряным нательным крестом. Теперь на суровой нитке позвякивали на его груди два креста: медный и серебряный. Кроме того, Андрею были выданы холщовая рубаха и порты с опояской, сплетенной из голубых и белых шелковых ниток, меж которых поблескивала нитка серебряная…
В саже ночной темени мигает огнем костер.
Дымный костер.
Горит он на песчаной береговой кромке лесной реки. Причалена к берегу ладья, на ней приплыли княжеские воины речного дозора. Их пятеро. Все спят, заснул и Андрей возле них, пристроившись у костра под холстиной его едкого дыма, отгоняющего комара и мошку.
Андрей вышел к берегу и увидел воинов, когда те трапезничали. Они расспросили юношу, куда и по какой надобности он держит путь, а когда Андрей рассказал им обо всем без утайки и показал митрополичью грамоту к игумену монастыря, воины разом стали ласковей в обращении, предложили плыть с ними в ладье. Места, мол, тут глухие, до нужного монастыря верст не мало, и нечего понапрасну бить ноги на пешем ходу.
В пути Андрей разговорился с воинами, узнал, что примечены на речных берегах конные лазутчики, но чьи они, пока неизвестно, поэтому и был отдан наказ воеводы – плавать дозорам по реке, чтобы не было на ней следов от вражеских любопытных глаз. Лесная и тихая река – это гладкая дорога к Москве.
Глухой лес возле реки. За каждой лесиной лесная тайна может в любой миг заявить о себе огоньками звериных глаз, а то и заливчатым смехом, и не понять сразу, чей он – то ли сова похохатывает спросонья, то ли пугает леший, чтобы люди не позабывали, что здесь его царство со всякой нечистой силой, с которой у людей всегда какие-нибудь нелады. Но страшен глухой лес и другим – человеческой ненавистью, худым людским помыслом. Пустит тетива певучую стрелу и погасит жизнь в добром человеке. В глухом лесу лесины дружно переплетаются цепкими ветвями, не давая друг другу падать. Птичьи голоса в таком лесу радостные для тех, кто их понимает, но тайные и колдовские – кто их слышит впервые. Андрею голоса птиц понятны, он вырос в лесу возле деда-бортника. В эту ночь, как причалила ладья к берегу, Андрей у костра засыпал под монотонный, подзывавший настойчиво к себе тоненький посвист птички, которую в народе чаще всего зовут крапивницей.
На Руси лес своей неведанностью властно правит людским сознанием, пугая порой, но помогая людям беречь достоинство и сохранность родной им земли, унаследованной от праотцев…
Совсем безгласная после полуночи тишина над рекой нежданно прорвалась от волчьего воя. Зверь выл протяжно. Его вой, похожий на стон от нестерпимой боли, разбудил Андрея. Он открыл глаза, в просветах между ветвями увидел одинокую яркую звезду, горевшую зеленым светом. Глядя на ее мигание, Андрей лежал неподвижно, прислушиваясь к вою.
Волк выл где-то на другом берегу, но по воде звук доносился так ясно, что начинало казаться, что зверь воет среди лесин совсем неподалеку от костра.
Бормоча со сна и чихая, проснулся воин, спавший укрыв лицо щитом, и удивленно спросил:
– Кто стонет-то?
– Волк жалобится! – ответил Андрей.
– Верно баешь. Волчицын вой.
– Может, и волчица.
– Ты мне верь. У волка визгливости в вое больше. А это будто стонет. Ишь, как тоскливо выводит, окаянная. Порвала сон, теперь заснешь ли сызнова.
Чихнув, воин взглянул на костер и сокрушенно произнес:
– Дымок-то вовсе чахлый, комарье без дыма – ужасть зудливо.
– Не тревожься. Я огонь живо развеселю.
Андрей встал, подбросил ветки в костер. Пламя в нем ожило, вспыхивая, с хрустом перекусывало сушняк, освещая спящих воинов. Сетовавший на порванный сон воин, прикрыв лицо щитком, уже похрапывал.
Андрей лег на пружинистый настил опавшей хвои, прикрыв лицо тряпицей от комаров, и дал волю мыслям. Они копошились в голове, как муравьи в разоренной куче. Среди первых обязательно всплывала мысль о сиротстве, а от нее – зачин его безрадостных воспоминаний. Про то, что народился в Суздальской земле, он прознал от деда с материнской стороны, однако места, где стояла изба, в которой раздался его первый жизненный крик, не видел. От татарского набега сгорела изба со всеми выселками.
Андрей сущей правдой жизни считал то, что повидал своими глазами. Об отце только слышал, тот, по словам матери, сгинул на поле брани княжеской рати с татарами, когда Андрею шел второй год от роду. Андрей помнил мать, особенно тепло ее ласковых рук и певучесть говора. Мать всегда оживала перед его глазами, лишь стоило подумать о ней. Она вставала перед ним такой, какой он видел ее последний раз в тот самый огненно-дымный вечер, когда их обоих половцы взяли в полон. Андрей, от страха теряя разум, голосил, цепляясь за босые ноги матери. Косоглазый враг отпихивал его, но, несмотря на то что его хлестала плетью половчанка в зеленом халате, ребенок держался за мать крепко. Защищая сына, мать при этом отбивалась от насильника, а он, разозленный ее непокорностью, зарубил женщину кривой саблей.
Все это видел и пережил Андрей в тот огненно-дымный вечер и все запомнил, хотя ему шел только седьмой год.
Сирота стал жить с дедом, помогая старику бортничать в лесах боярского займища, обучаясь азам житейской правды при лампаде дедовой мудрости. Так Андрей дожил до девяти лет. Дед был стар, многое знал и помнил про канувшие в Лету годы Великой Руси. Смерть его пришла нежданно. Схоронив деда, Андрей по решению боярского тиуна был отдан в монастырь и стал служкой у иконописца Захария.
Молчаливый монах вначале редко удосуживался одаривать Андрея живым словом, но был доволен, что тот понятлив и расторопен при выполнении отданных ему наказов.
Андрей с первых дней пытливо присматривался к работе Захария и незаметно для себя запутался разумом во власти зачаровавших его красок, коими монах писал образа. Цепко приглядываясь ко всему, что творил кистью монах, Андрей усердно помогал ему в изначальной работе над досками для икон. Каким радостным был для Андрея тот зимний день, когда Захарий неожиданно дозволил ему нанести на доску контур будущей иконы. Выполненной работой Захарий остался доволен, и вскоре он допустил к написанию фона вокруг лика Николая-угодника.
Настырная прилежность Андрея пришлась Захарию по душе. Он все ближе и ближе подводил отрока к канонам иконописания, раскрывая ученику все ведомые ему самому секреты и навыки замысловатого ремесла древнего иконописания, занесенного на Русь из Византии и руками русских мастеров обретающего новые каноны сотворенного иконного письма на Руси.
Возле Захария, возле его молчаливости прошли для Андрея десять лет. И вот снова нежданно накатила страшная беда со степных ковыльных просторов. Стояла осенняя пора. Природа поражала красками увядания, пиршеством осеннего великолепия. Гуляли по Руси метели золотого листопада.
Страшная беда страданием заслонила от людей осеннее чудо красок. Татары опустошали Суздальскую землю. Осажденный ими монастырь сгорел. Захарий был убит стрелой. Андрей, избежавший смерти и полона, скрылся в лесных чащобах. Вышед из них, когда враг убрался восвояси, Андрей снова увидел золу, угли и опаленную пожарами землю. Но надо было жить. Зачарованный красками, обладая навыками, перенятыми у Захария, Андрей стал бродить по местам, где стучали топоры, возрождая порушенную людскую жизнь. Андрей расписывал наличники, украшал цветастыми узорами домашнюю утварь, а однажды согласился по просьбе одной престарелой женщины написать икону, на которую неожиданно обратил внимание ее гость – торговый человек.
Годы шли, Андрей давно вымерял версты удельного княжества, работал на многих хозяев, пока не очутился с последним из них в Москве, откуда пришел в монастырь, где игуменом был Сергий Радонежский.
По числу лет не длинна была прожитая Андреем жизнь, но ему хватило этих лет, чтобы повидать Русь, лицезреть ее во всяком огне, во всяком горе, услышать набаты звонкоголосых колоколов. Андрей видел людскую жизнь, которую кроме татар поганили княжеские распри, злобность бояр, алчность монастырей, отнимавших у пахарей выхоленную их руками землю. Церковь творила беззакония именем Христа и всех святых, коим сермяжная, черная Русь ставила восковые свечи, вымаливая теплом их огненных зрачков божескую милость к своему горемычному житью.
Вместе со всеми русскими людьми отливало горе Андрея с головы до пят, вместе со всеми он скрывался в лесах от набегов, голодал из-за недородов. Насмотрелся он и на то, как мор опустошал селения, и как лилась людская кровь от татарской и боярской злобы, и как лились слезы матерей.
Многое повидал Андрей, и только молодость не дозволяла твердеть на его душе коросте обиды, однако в разуме нет-нет да и заводилась эдакая осторожная неприязнь ко всем тем сытым, кто хлестал, понукал, приминал обидами всех обутых в лапти, чьими руками Русь из века в век вызволялась из всех уготованных для нее напастей.
Не спалось Андрею, бессонница сматывала в клубок нитку памяти, и юноше казалось, что в эту ночь вспоминает обо всем как-то иначе, понимая, что после пережитого в Москве шагать по жизни надо смелее, посматривая под ноги, чтобы не спотыкаться.
Начинало светать. Пробуждались воины.
Наступало новое утро…
Глава третья
1Река Клязьма подле Москвы прорыла себе путь по вотчине боярина Демьяна Кромкина. По Московскому княжеству Клязьма по-всякому изворачивает тулово русла, но по боярскому угодью течет на редкость прямехонько и только после мельничной запруды все же вгрызается в берега заводями с гривами резун-осоки.
Демьян Кромкин на Москве – в перворядном боярстве с завидным достатком. Хоромы в его вотчине – в два яруса с узорными крыльцами и гульбищами. Род Кромкиных в славу вошел еще при Иване Калите. При нем стал богатеть на утаенных от властей прибытках. Калита приучил бояр к жадности и стяжательству, научились они на его примере обелять свою совесть перед Богом и князем, мол, отколупывая приварок от дани, кою Русь порабощенная выплачивает, крадут не у Руси, а у Орды.
При нынешнем московском великом князе боярин Кромкин вовсе в чести. Митрополит Алексий и тот о нем помнит, потому, по наказу владыки, боярин раз побывал в Византии, поднаторев в греческом языке.
Но Демьян жаден на богатство, посему и грешит перед московским князем двурушием, – одинаково льстиво служит своему князю и князю рязанскому Олегу Ивановичу, успокаивая себя тем, что оба князя по отчеству Ивановичи – вот он и роднит их с пользой для себя. Живя подле Москвы, доносит князю Олегу все московские новости, что приходят из-за стен Кремля. Сообщает и то, как живет князь Дмитрий с боярством, но главным образом о том, что мыслит князь о татарах, как обзаводится для обережения Москвы воинской силой. А рязанский князь Демьяновы новости нашептывает в уши Мамая. Выгодно боярину двум князьям служить, осеняя себя крестами перед ликами святых, смотрящих с икон.
В эту ночь у боярина Кромкина в хоромах негаданный гость. В дождливой мути сумерек гнедые кони приволокли в вотчину по раскисшей дороге тяжелый возок, привезли гостя из Рязани – Селиверста Нюхтина – знатного боярина, служащего князя Олега.
Хозяин привечает гостя в просторной трапезной с расписным потолком. В углу трапезной расселась печь, также расписанная узорами, а возле нее – кади с водой на случай пожара. Воду в кадях челядь менять ленится, потому от воды идет болотный дух, но он не так стоек, ибо все запахи перебивает ядреный дух деревянного масла, чадящего в лампадах перед темными образами, коими густо завешан красный угол.
Селиверст Нюхтин у рязанского боярства ходит в коренниках. У князя Олега он в полном доверии. Про него идет молва, что мрачные деяния, кои князь задумывает, он с усердием выполняет. Для кой-кого в Рязани не тайна и то, что боярин держит в своих руках связь князя с Мамаем, гнет спину в поклонах перед ханами.
На столе под коломитной скатертью в свечнике толстая свеча. Света у нее и у лампад не хватает, чтобы прогнать ночной мрак в трапезной. Темнота только порыжела, а в ее мглистости к стенам жмутся горбунами окованные медными полосами скрыни-сундуки с навесными тяжелыми замками. Свет свечи позолотил все расставленное на столе и двух бояр, уместившихся за ним.
На серебряных блюдах – всякая снедь. На одном из них – остаток студня из свиных голов с чесноком и стружками хрена, на другом – копченый сиг с пареной репой в меду, в глиняной мисе – осетровая икра. Главенствует на столе жбан со стоялым душистым медом, а рядом – татарский кувшин с квасом, настоянным на мяте.
Бояре за беседой потрапезничали. Хозяин на тело грузен, но на лицо костист. Кажется, что голова приставлена не к тому туловищу, но эту несуразность скрадывает окладистая борода с густой проседью, хотя вороненый волос на голове сединой только чуть тронут. Глаза смотрят из-под кустистых бровей. Взгляд у них неласковый, подозрительный. Высокий ростом гость худощав. Лицо его одутловато, отчего глаза кажутся щелками под опухшими веками, а правый глаз от хмеля сильно слезится. Мясистый нос у Нюхтина чуть свернут в сторону, сломан у переносицы: в молодости боярина били в Орде татары. Рыжие волосы прикрыты бархатной малиновой тафьей с нашитыми на ней горошинами северного жемчуга. В бороде волос светлее, да и борода прямая, мягкая, как недолежалый до срока лен.
Перед боярами достаканы из серебра с чернью.
Медом за едой бояре не гнушались, но пьяной одури от питья в глазах не было.
Хозяина приезд гостя озадачил. В Московском княжестве он не больно желанный гость. У него здесь недруги водятся, коим подставлял ногу в их делах в Рязанском княжестве. Бояре на Руси обидчивы, как малые дети, малейшую обиду не забывают до гробовой доски. Озадачило Кромкина прежде всего то, что Нюхтин приехал без гридей, сделал это не без умысла, чтобы его приезд не бросался в глаза всяким ротозеям с легким на доносы языком. Кромкин не сомневался, что гость явился с тайным умыслом, но с каким именно, догадаться не мог.
Откашлявшись в кулак, Нюхтин, понизив голос, сказал:
– Должен тебе поведать, что благодетель мой, князь Ольг Иванович, тобой, боярин, не шибко доволен. Мзду от него берешь, а вести шлешь скупые. Слово тобой моему князю како дадено?
– Помню о своем слове.
– Иной раз не больно крепко.
Нюхтин взял достакан с медом, не сводя взгляда с хозяина, отпил глоток. На пальцах блеснули кровью красные яхонты в золотых перстнях.
– Медок у тебя отменный.
Нюхтин, не торопясь, обтер усы и бороду расшитым холщовым убрусом, прикрыв сощуренные глаза, продолжил:
– Никак, глуховат стал ко всему, что на Москве деется. Не слышишь дыхания свово князя с его присными дружками. Не верится моему князю, что Дмитрий Иванович не спешит справлять оборону княжества. Все дивятся, какой каменный Кремль отгрохал. Поглядишь на него – вспотеешь от оторопи.
– Рязанский кремль тоже крепок.
– Дуб камню все одно не ровня. Аль редко в Москве гостишь, потому и вести скупы?
– Зряшные слова сказываешь. Слышу хорошо. Но ведь ты знаешь, что мой князь дружбой ко мне охладел, может статься, от поклепа Боброка, а может, по какой неведомой для меня причине. Да и князь Дмитрий, крепя стойкость Москвы, тайком ничего не ладит. Москва строится и торгует у всех на виду.
– Об этом слов нет. На виду. Только всякая воинская справа в нее тайком ввозится. Аль зряшное сказываю? Не след тебе, Демьян, от данного слова пустяками отговариваться. Не забывай, что мой князь не в долгу перед тобой, – ты ему всем обязан.
Громче донесся собачий лай. Нюхтин настороженно прислушался. Встревожившись, оглядел трапезную, а заметив, что дверь не прикрыта, встал из-за стола и плотно ее затворил. Уловив озабоченность гостя, Кромкин спокойно сказал:
– Псы от ненастья лают.
– Осторожность – у меня верная подруга. Аль не знаешь, что ноне в наших хоромах челядь по-заячьи уши вострит? Нашей беседе видоков не надобно. Гостюю у тебя неспроста, да и навестил тебя не от скуки.
– Про то чую.
Нюхтин, сдвинув на затылок тафью, зажав конец бороды в кулаке, спросил приглушенным голосом:
– Поди, слыхал, как Господь велит архангелам стеречь житье святителя нашего, митрополита Алексия?
– Как не слыхать. Притомился святитель пасти христианское стадо Руси. Старец с виду бодр телом и духом, только ходит молва, что иной раз на молитве за нас грешных разум теряет. Падает замертво, но от жизни не уходит. Никак, побывать у него сбираешься?
– Нет. Рязанцы у него на худом счету. Не мне судить деяния князя Церкви христовой, только невмоготу молчать от горькой обиды, что он мово князя недругом Москвы почитает.
– Так и впрямь твой князь к Москве спиной стоит.
– А твой Дмитрий моему Ольгу, что кажет? Не лик улыбчатый – тоже спину.
– Что нам спорить? Сказывай лучше, зачем о владыке заговорил.
– Говорят, он по осени сызнова сбирается водным путем в Нижний Новгород податься? Неужели правда?
– Только сейчас я сказывал о немощи святителя. На Волгу путь долог, и не по силам владыке. Слушок, может, и водится, да только сполз с пустого языка. Тебе-то какая надобность знать про это?
– Князю Ольгу надобно про то достоверно знать. Ведь святитель всякую осень низовой Новгород навещает.
– Разуметь велишь, что твой князь норовит добром к Москве обозначиться?
– Про такое сам у него поспрошай.
Нюхтин остановился у стола, выпустив из кулака бороду, уперся руками в столешницу, наклонившись над ней.
– Ты, боярин, разведать обязан доподлинно, в какую пору, в какой день святитель намерен отплыть из Москвы. Слышишь мой сказ?
– Только уж скажи и про то, по какой причине надобно знать о сем твому князю. Аль не понял, что даже от молитвы без чувствия Алексий падает, остывая телом до окаменелости.
– Но ведь живет? Силой власти над Русью живет, властью над нами, грешными, живет. Дрожит Русь перед ним, как осиновый лист. Одряхлел, а все правит Русью силой христовой Церкви.
– Да кого хочешь спроси, ежели мне не веришь!
– Верю, но все одно князю надобно знать, когда митрополит по Оке мимо Рязани поплывет. Все в Господа верим, и власти его божественной боимся. А Мамаю не по сердцу, что зажился на Руси митрополит Алексий.
Кромкин, услышав сказанное, отшатнувшись от стола, перекрестился, уставившись на гостя выпученными глазами:
– Пресвятая Владычица, чем же святитель не угодил Мамаю?
– Не разумеешь?
– Ума не приложу.
– Тем и не угодил, что умом владыки князь Дмитрий правит Москвой. По воле Алексия подминает силой под себя всю Великую Русь, замышляя возвыситься над всеми уделами, покорив их, занестись вожделением даже супротив самой Орды.
Демьян, перекрестившись, выпрямился:
– Помыслом об избавлении от татарского ярма вся Русь, Селиверст, живет.
– Русь о сем пока только сны видит. Надеется журавля изловить. А князь Дмитрий по научению святителя уже верит, что синица у него почти в руках. Думай. Считал, сколь уделов Дмитрий подмял под свою руку?
– Считал!
– То-то и оно. Вот Мамаю и надобно, чтобы митрополит не дышал в Москве, не холил спесивость князя Дмитрия дерзким возомнением.
– Да как ты, Селиверст, осмелился мне сие вымолвить перед святыми образами?
– И не такое вымолвишь, ежели прикажут. Мне, Демьян, ведомо, как татарская петля душит непокорных. Хлестан погаными за молодую честность да верность Руси.
– Ужели в Рязани эдакое злодейство задумали?
– Татары в Орде сие задумали: Мамаев замысел, высказанный князю ордынским посланцем.
– Да будь проклят твой князь, ежели выслушал от татарина эдакое злодейство!
Кромкин изо всех сил ударил кулаками по столешнице, пламя дрогнуло, свеча стала гореть, потрескивая, обильно обливая бока восковыми слезами.
– Чур меня! Чур! Не слыхал твоих крамольных слов.
– Нишкни! – повелительным шепотом произнес Нюхтин. – Самого дрожь трясла, когда князь к тебе посылал. Да и сам Олег Иванович сна лишился, когда гонец из Орды повеление Мамаево привез. Мамай – он Мамай. Все под ним ходим и дышим, пока не удушит. Рязань лучше всей Руси знает гневность Орды.
– Потому сама на Руси ненависть разводит, вот Господь и карает ее рукой поганых.
– Молчи, боярин! Не вольны мы с тобой волю Орды не выполнять! Сказал тебе, что князю Ольгу от тебя надобно. Прознать сие тебе нетрудно. В Чудовом монастыре женин сродственник в монашестве.
– Упаси меня господь от такого злодеяния. Да какая христианская рука подымется на такое?
– Татарская рука подымется. Мы только весть подадим, а стрелы татарские свершат желание Мамая.
– Не жди от меня никаких вестей. Не пойду на злодейство!
– Не пойдешь? Ой ли! Аль позабыл, что давно супротив князя Дмитрия злодействуешь? Аль не так? Заупрямишься – узнает твой князь, как ты ему за доверие подлостью платишь.
Кромкин ладонью вытер с лица крупные капли пота.
– Гляжу, никак, вспотел?
– Лучше руки на себя наложу.
– Врешь! Ой врешь, Демьян! Сам себя со свету белого не сживешь. Любишь себя. Жизнь свою сытую да богатую любишь. Из-за жадности двум князьям служишь, а может, и еще кому-нибудь. Страх в себе лучше обуздай. Понимай: Мамай – погань, но нынче он над нами хозяин…








