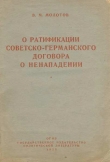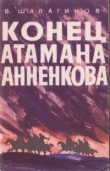Текст книги "Годы, вырванные из жизни"
Автор книги: Павел Дворкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Годы, вырванные из жизни
Дворкин Павел Саломонович.
Родился в 1894 г., Омская обл., Омск.; еврей; образование начальное; заведующий, Райфонаркомфин.
Проживал: Алма-Атинская обл. Алма-Ата.
Арестован 23 февраля 1938 г. НКВД по Алма-Атинской обл.
Приговорён: ВК Верховного Суда СССР 8 мая 1939 г., обв.: 58-7, 58-8, 58–11 УК РСФСР. Приговор: 15 лет ИТЛ.
Реабилитирован 12 января 1955 г. ВК Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления.
Источник: Сведения ДКНБ РК по г. Алматы.
«Так действовала разоблаченная партией банда Берия, которая пыталась вывести органы государственной безопасности из-под контроля партии и Советской власти, поставить их над партией и правительством, создать обстановку беззакония и произвола».
«Во враждебных целях эта шайка фабриковала лживые обвинительные материалы на честных руководящих работников и рядовых советских граждан».
(Из доклада Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС 15 февраля 1956 г.).
Глава 1. АРЕСТ, СЛЕДСТВИЕ, СУД
Как коммунист, считаю своим долгом перед своей партией Ленина, перед советскими людьми правдиво рассказать обо всем, пережитом мною и тысячами других партийных и советских работников, а также рядовых советских граждан, попавших в обстановку беззакония и произвола, созданных бандой Берия.
Семнадцать лет, проведенных мной в тюрьмах, этапах, лагерях, никогда не сотрутся из памяти. Эта травма останется на всю жизнь; Нельзя забыть того изуверства, с каким у тебя добивались признания в преступлениях, которых ты никогда не совершал. Не забыть допросов, сопровождающихся издевательством, мордобоями, глумлением, невиданными оскорблениями человеческой личности и достоинства, многочасовым стоянием в углах кабинетов следователей. Разве забудешь бессонные ночи, тогда ты, смертельно уставший от издевательских допросов н истязаний, буквально падал со стула, и веки, налитые свинцом, закрывали глаза. А в это время следователь, недавний выпускник шестимесячных курсов НКВД в Алма-Ате, сержант Максимов Георгий Николаевич ставил меня лицом к стенке и, дабы "освежить" после долгих и бесполезных для него допросов, вылил мне за ворот гимнастерки полный графин холодной воды. Особенно изощрялся этот молодой садист в избиениях. Ежедневно, после произнесения заученной им тирады: "Если враг не сдается – его уничтожают", он добавляя:
– Пиши, что ты участник контрреволюционной организации, и перечисли всех, кто с тобой в ней состоял.
После этого он хватал меня за волосы, пригибая голову между колен, и своим здоровенным коленом бил на протяжении 2 – 3 минут по шее. Эта издевательская экзекуция продолжалась до тех пор, пока однажды со мной случился припадок. После этого такие пытки прекратились, но мордобитие продолжалось.
Ежедневно, в продолжение 218 дней следователь называл мне фамилии товарищей, на которых я должен был показать, что они враги народа и члены несуществующей контрреволюционной организации. Это были мои товарищи по работе: начальник УМ НКВД КазССр майор Ефим Моисеевич Кроль, быв. начальник политотдела УМ КазССР Михаил Митрофанович Банников, он же начальник милиции на Дальнем Востоке, арестован был в Хабаровске и доставлен в Алма-Ату, начальник наружной службы милиции Казахстана Василий Васильевич Сулинов, начальник командного отдела Иван Кузьмич Жулев, мой помощник по уголовному розыску Николай Иосифович Якутик, быв. наркомвнудел Казахстана Лев Борисович Залин, уполномоченный партийного контроля ЦК ВКП(б) по Казахстану Сергей Михайлович Елуферьев и другие.
Максимов Георгий Николаевич ныне, по данным КГБ Казахстана, уволен из органов по несоответствию со строгим выговором с занесением в партийную учетную карточку, проживает в Караганде.
Какие стальные нервы, какое сознание в своей правоте, какую веру в торжество справедливости нужно было иметь, чтобы вынести побои, оскорбления, испить эту горькую чашу до дна, не чувствую за собой никакой вины ни перед партией, ни перед Советским государством, ни перед своей совестью.
В день моего ареста 24 августа 1938 года я был введен в кабинет начальника учетно-статистического отдела НКВД Казахстана ст. лейтенанта Михеева (бывший офицер царской армии). Он, прежде всего, предпринял против меня «психическую атаку», пригрозив мне, что из меня «выпьют всю кровь», если я не расскажу о себе как об участнике контрреволюционной организации. Когда эта «атака» не возымела никакого действия, меня из кабинета Михеева ввели в кабинет садиста-следователя Максимова, у которого самым действенным «аргументом» для получения признания у подследственного служил его кулак.
Максимов предложил мне сесть. В кабинете, кроме него, были еще два лейтенанта. Максимов предъявил мне уже заранее написанный бланк обвинения.
– Читай и подписывай, – сказал он.
Я прочитал и, улыбнувшись, сказал, что подписывать такую чушь не стану. Предъявлялась мне статья 58, пункты: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 УК. В ответ я получил сильный удар по правому уху от стоящего позади меня лейтенанта. Я повернулся, посмотрел на него и на Максимова и сказал:
– Подписывать не буду, и никакое ваше битье не поможет.
Максимов приказал мне подняться и повел в кабинет другого следователя. Там я увидел сидящего на стуле Николя Якутика, осунувшегося и сильно избитого. Я сел. Следователь спросил Якутика, подтверждает ли он свое показание, что я был вместе с ним завербован в контрреволюционную организацию бывшим начальником милиции Казахстана Кролем. Якутик кивнул головой.
– Видишь, слышишь, – кричит Максимов, – подтверждаешь?
– Выдумка, – отвечаю я.
– Значит, очную ставку не подпишешь? – кричит Максимов.
– Нет, не подпишу, – отвечаю я, – потому что это провокация.
Меня снова увели в кабинет Максимова. И лишь 7 сентября, измученного конвейером допросов, бессонными ночами, недоеданием, с намокшим бельем от частых «освежающих» душей из графина, ночью я был уведен в камеру-одиночку внутренней тюрьмы НКВД в городе Алма-Ате. Я не оговорил ни себя, ни одного из товарищей, находившихся по моему делу. Когда надзиратели вывели меня из кабинета следователя, мне стало как-то тепло на душе. Я шел, как победитель, с сознанием того, что я никого не оклеветал, и пусть мне угрожает расстрел, я спокойно, с сознанием своей правоты и невиновности, с верой в справедливость выпью и эту последнюю чашу.
При выходе их главного здания во внутреннюю тюрьму, я через окна коридора увидел большую очередь людей. Позже мне стало известно, что это были арестованные, ожидавшие решения своей судьбы. В этот вечер заседала специальная выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР, прибывшая из Москвы. Председателем был некий Плавнек, который большинство обвиняемых приговаривал к расстрелу.
Вернувшись из Казахстана в Москву, Плавнек был сам расстрелян за «перегибы», а вернее, дабы не было лишних свидетелей этих позорных бериевских дел. Этим же Плавнеком был приговорен к расстрелу мой большой друг и товарищ, старый чекист Владимир Бергман, рабочий, которому инкриминировалось обвинение в «шпионаже».
Меня ввели в одиночку. Захлопнулась дверь. На койке спал человек. Разделся и я, лег на свободную койку и сразу же заснул. Подъем в 6 часов утра. Спал очень мало. Днем спать не давали. Одиночка маленькая – две железные кровати, в проходе тумбочка, у дверей «параша», над дверью высоко к потолку прикреплена электрическая лампочка, тускло светившаяся, окно с решеткой выходило во двор.
Со мной в одиночке был бывший председатель Западно-Казахстанского облисполкома из города Уральска тов. Спиров, член партии с 1917 г. Он рассказал мне, что с начала организации Советской власти работал председателем ревкома в Нижнем Новгороде (г. Горький), встречался с Лениным в Москве. Сейчас ему предъявили обвинение в «активном участии» в контрреволюционной организации. Избитый до потери сознания, он вынужден был оклеветать себя и других. С ним я пробыл в одиночке около 3 недель. Однажды он мне сказал:
– Товарищ Дворкин, скажу тебе как товарищу коммунисту, что тебя специально посадили со мной, чтобы я убедил тебя признаться, а также информировать следователей обо всем, что ты будешь со мной говорить. Спустя 18 лет после освобождения из заключения, будучи в Москве, я узнал, что из Алма-Аты Спирова перевели в Свердловск, где он проходил и по делу секретаря Свердловского обкома партии тов. Кабакова и был расстрелян.
Почти около месяца меня на допросы не вызывали. В начале октября 1938 года я попал на допрос к сержанту, фамилию которого не помню. Но я знал его, так как за неделю до моего ареста он бесцеремонно вошел в мою квартиру и заявил, что займет одну комнату. Так вот этот сержант потребовал от меня, чтобы я дал показание для доклада на ЦК КПБ Казахстана о том, что признаю правильность своего исключения из партии первичной парторганизацией. Я ответил, что свое исключение из партии считаю неправильным, так как оно было продиктовано вновь прибывшим наркомвнуделом Казахстана Реденсом и не имеет под собой никаких оснований. Реденс был свояком Сталина – мужем сестры Алилуевой. Реденс, сделав свое черное дело, в 1939 году был арестован, доставлен в Москву и расстрелян. Следователь записал в протокол мое показание. Протокол я подписал. В мае 1939 года, уже в Москве, знакомясь с материалами после окончания следствия, я обнаружил, что слово «не» в этом протоколе было стерто, осталось слово «правильно». Это значило, что я будто признал свое исключение правильным. Вот так фальсифицировались материалы и обманывались высшие партийные органы.
После того, как товарища Спирова перевели в другую камеру, ко мне перевели зам. председателя Южно-Казахстанского облисполкома из Чимкента, казаха. Все дни он плакал и твердил, что он ни в чем не виноват. Жил я в одиночке только на тюремной пайке. Жена передала мне небольшую сумму денег, 20 пачек папирос, но я их не получил. Внутри тюрьмы имелся ларек, в котором можно было прикупить кое-какие продукты. Но мне это не разрешали, так как я не признавался и, по словам следователя, считаюсь «не разоружившимся врагом, который подлежит уничтожению». Я ему ответил:
– За лавочку и за продукты совесть свою не продам, совестью не торгую и ваша лавочка мне не нужна.
7 ноября 1938 года меня вызвали из камеры. «Неужели на свободу?», подумал я. Вошел в кабинет к лейтенанту, фамилию которого не помню.
– Ну, что ж, будешь писать или решил не разоружаться? – спросил он.
Я ответил:
– Я никогда не вооружался против партии и Советской власти.
Вынув из ящика стола пистолет, он направил его на меня и сказал:
– Когда тебя будут расстреливать, я тебе одну пулю всажу ниже поясницы, а другую в затылок.
– Это еще видно будет, – ответил я. – У тебя руки дрожать будут.
Когда я боролся с контрреволюцией и бандитизмом, ты еще под столом ползал.
После нашего диалога меня увели в одиночку. В последних числах декабря 1938 года вечером я был доставлен в кабинет начальника секретно-политического отдела НКВД капитана Павлова. Там был и начальник отделения лейтенант Гизатулин, который должен был записывать протокол очной ставки между мною и Банниковым Михаилом Митрофановичем. В кресле за столом сидел Павлов, против него Банников. Я сел на диван у стены, против стола. Началась комедия «очной ставки».
Павлов: Ну-с, начнем. Скажите, Михаил Никифорович, подтверждаете ли вы ваши показания, данные следствию, что Дворкин, бывший начальник уголовного розыска Казахстана, состоял в контрреволюционной организации вместе с вами?
Я смотрю на Банникова, он смотрит на Павлова и отвечает:
– Да, подтверждаю. Об этом мне сказал бывший начальник милиции Казахстана майор Кроль.
И, повернувшись ко мне, говорит:
– Брось ты, Павел, упираться. Ну, было, дадут лет по пять, поработаем в лагерях…
Я не поверил своим ушам. Пристально посмотрев ему в глаза, которые слезились, я ответил:
– Все это выдумано, никакой организации не было, и нигде ни он, ни я не состояли.
Банникова увели. Протокол очной ставки подписан не был. Ушел начальник отделения. Я остался с глазу на глаз с Павловым. Он предложил мне пересесть в кресло, на котором сидел Банников. Сам сел против меня и сказал:
– Все признались, кроме тебя одного. Стоит тебе рассказать, как будешь возвращен к своей семье. Если же будешь упорствовать, расстреляют. Подумай.
Я ответил ему:
– Клеветать не буду, не могу – ни на себя, ни на других.
Ввели начальника наружной службы Сулинова Василия Васильевича. Те же разговоры, что и с Банниковым, и с тем же результатом.
Меня ввели в одиночку.
Назавтра вызывает следователь Максимов.
– Ну, вот, Дворкин, – говорит он, – подумай. Не будешь говорить, арестуем жену, а девочек твоих сдадим в детдом.
– Делайте, что хотите, но клеветать я ни на кого не буду, – ответил я.
Меня увели.
Не могу не описать, как меня допрашивал молодой практикант казах. На ночь таких практикантов оставляли с арестованными для того, чтобы они не давали тем спать и задавали только один вопрос:
– Ну, как, писать будешь?
Мой ночной страж смущался своей роли, как-то себя неловко чувствовал, зная, что перед ним бывший начальник уголовного розыска. Он терялся в форме обращения, то говорил мне «товарищ Дворкин», то, спохватившись, что он совершил непростительный, смертный грех, называл меня по имени и отчеству. Вот происходивший между нами диалог, смахивающий на анекдот:
– Ну, как, товарищ. фу, ты, Павел Соломонович, писать будешь? Улыбаясь, я отвечаю:
– Не о чем писать.
– Ну, как не о чем, ты школу милиции ходил?
– Ходил, – отвечаю.
– Это ты восстание хотел сделать, почта, радио, телеграф захватить хотел?
– Глупости, – отвечаю, – все это провокация.
– Ну, тогда не знаю.
Снова молчание и снова через 20 – 30 минут тот же диалог. Позже, в 1939 году, находясь в общей камере на Лубянке и в Бутырках (Москва), я рассказывал об этом допросе. Все хохотали, хотя на душе было совсем не весело. Кто-то бросил реплику: «Смех висельников». Это, пожалуй, правильно было, т. к. многих товарищей, которые после суда ушли в этап, в лагере мы не досчитались.
31 декабря 1938 года вечером открывается дверь моей одиночки, и надзиратель предлагает мне собраться с вещами, и снова я подумал, что иду на освобождение, ведь я не совершил преступления. Но это была непростительная наивность. Я уже рисовал себе, как вернусь домой, к своей семье, не зная о том, что ее давно в Алма-Ате нет, и что сделала она это вовремя, спустя несколько дней после моего ареста.
В комнате дежурного меня переодели в свое белье и затем вывели во двор внутренней тюрьмы, посадили в легковую машину и повезли по плохо освещенным улицам Алма-Аты. Через окно ничего не было видно, но, хорошо зная город, я сообразил, что меня везут на вокзал. И, действительно, скоро меня вывели к полотну дороги, где на рельсах стоял столыпинский арестантский вагон. Поместили меня в среднее купе, решетки завесили одеялом. Через несколько минут я услышал шаги. Кто-то вошел в соседнее купе и закашлял. По кашлю я узнал Якутика. Вагон был прицеплен к скорому поезду Алма-Ата – Москва. Когда поезд тронулся, в мое купе вошел начальник конвоя и вежливо предложил мне ужин. Всю дорогу до Москвы кормили нас 3 раза в день. На второй или третий день пути в купе вошел сопровождавший нас лейтенант Гизатулин. Сев против меня, он в «дружелюбном» тоне спросил:
– Наверное, в Москве расскажешь, как тебя били на следствии?
При этом он мне напомнил, что я один из всех, который упорно не хочет признаваться, но в Москве все равно заставят сказать. Я ответил:
– Клеветать ни на себя, ни на других не буду.
Он ушел. На пятый день поезд подошел к Москве. Наш вагон был поставлен на запасной путь в тупик. Вечером вывели меня из вагона. Я увидел против вагона закрытую машину желтого цвета с большой надписью через всю машину «Хлеб». Открылась дверь, и меня втолкнули в кабину и закрыли на замок. В этой кабине я сидел, не шевелясь, так как она была настолько тесна, что двери касались моих колен. После меня ввели еще и еще кого-то. Наконец, машина тронулась и через минут20 остановилась во дворе НКВД на Лубянке. Ввели в здание, сфотографировали в профиль и анфас с доской в руках, на которой был написан мелом номер арестанта.
После этой процедуры ввели в одиночную камеру тюремного изолятора. На следующее утро, едва начало светать, меня увезли в Бутырскую тюрьму. Там я очутился в камере, где сидели три человека. Это были коммунисты: Сорокин – бывший начальник сигнализации НКПС, Бобылев, работник ТНБ наркомпути, и беспартийный польский еврей Мазур Соломон Яковлевич из Вильно. В Москве, по его словам, он жил с 1921 года, работал зав. магазином. Обвиняют его в том, что до 1921 г. он был якобы связан с польской дефензивой (разведкой). Причем, это обвинение подтверждает молодой паренек, которому было в то время… 4 года.
Когда я вошел в камеру, Мазур лежал на своей койке, закрытый через голову одеялом, и не поднимался. Я выпил пару кружек чаю, любезного предложенного мне товарищами Сорокиным и Бобылевым. О Мазуре они мне рассказали, что после допросов «всех степеней» он стал ненормальным. Подписывает протоколы допроса, не читая, по ночам вскакивает с койки, кричит, что за стеной ему слышатся голоса двух дочерей и жены, которых там пытают. Все время находится в состоянии апатии, ни с кем не разговаривает, ест много, жадно. Лишь временами наступает прояснение.
Утром в туалетной Сорокин и Бобылев мылись до пояса. Я заметил, что на их спинах были рубцы. Они рассказали мне, что это результат допросов в Лефортово. После таких побоев они вынуждены были подписать то, что от них требовали, т. е. оклеветать себя и других невиновных работников Наркомпути, арестованных по приказу Кагановича.
В Бутырской тюрьме я просидел 7 дней, а затем меня перевезли на Лубянку, где находилось человек 12. Небезынтересна процедура обыска на Лубянке. Прежде, чем посадить в камеру, двое здоровенных мужчин в белых халатах привели меня в большую светлую комнату. Посредине стоял длинный некрашеный стол, на нем лежали ножницы, ножи. Мне приказали раздеться догола. Ну, подумал я, теперь возьмутся за мое бренное тело. Но они занялись моими вещами. Разложили на столе брюки, гимнастерку, трусы, рубашку. Тщательно обследовали каждую складку, каждый шов. Затем обследовали и сапоги. Один из «белых халатов» поинтересовался, сколько у меня денег и куда я их запрятал. И тут же велел мне дать подписать, что, в случае обнаружения у меня запрятанных денег, я буду отвечать строго по закону. Но ничего, кроме 15 копеек в кармане брюк, у меня не оказалось.
После тщательного обыска меня водворили в камеру. Фамилии всех товарищей по камере я не помню, но знаю, что большинство из них были коммунисты и комсомольцы. Близко я сошелся там с зам. редактора «Комсомольской правды» кандидатом в члены ЦК КПСС тов. Перельштейном Мироном Львовичем, проходившим по делу А. Косарева, с зам. наркома оборонной промышленности, комдивом Горьковской дивизии Бочаровым. Бочаров был страшно деморализован еженощными допросами, избиениями и всегда возвращался в камеру в состоянии какого-то оцепенения. На мой вопрос, как он себя чувствует, Бочаров отвечал: «Очень плохо, наговорил то, чего никогда не было, скорее бы все закончилось. Знаю, что меня расстреляют ни за что». Очевидно, так это и было. В нашем большом этапе Бочарова не оказалось, и больше о нем я ничего не слышал, знал только, что в Москве у него оставались жена и сын. Запомнил еще одного товарища по камере. Это адъютант товарища Блюхера по фамилии Гонюшин. И его еженощно вызывали на допросы, очные ставки с женой Блюхера, которая также была под арестом на Лубянке. После допроса Гонюшин еле-еле доползал до камеры. Как-то он рассказал, что его били палкой по пяткам ног. О его судьбе мне ничего не известно. Надо сказать, что, несмотря на страшные побои, он всегда был оптимистично настроен. Дня через два или три меня вызвали к следователю. Два надзирателя, взяв под руки, повели меня скорым шагом. По пути приходилось задерживаться в коридорах огромного здания на Лубянке, поворачиваться лицом к стене, чтобы пропустить мимо себя или самому пройти мимо спин, не видя лиц других арестованных.
Наконец, я был доставлен в кабинет следователя. Начало встречи со следователем носило мирный характер. Пригласив сесть, он меня спросил, как я доехал до Москвы, как себя чувствую, не применяли ли в Алма-Ате на допросах физических методов. Это было чистым ханжеством, и я на все заданные вопросы ответил весьма лаконично. После такого вступления следователь, раскрыв объемисто дело, начал перечислять все мои смертные грехи, совершенные против Советской власти, начиная с государственной измены, подготовки к восстанию и т. д.
– Но так как вы не отдохнули еще с дороги и не обдумали всю тяжесть содеянного вами преступления, – сказал следователь, – вам необходимо еще пару дней отдохнуть и подумать, так как все ваши однодельцы давно уже признались во всем. Идите, отдохните.
Я вернулся в камеру. Несколько дней спустя я был снова доставлен в кабинет следователя лейтенанта Иванова. Обратившись ко мне по имени и отчеству, следователь сказал:
– Начнем писать.
– О чем?
– О контрреволюционной организации, в которой вы состояли, и о других ее участниках.
– Такой организации не было.
– Учтите, – строго сказал следователь, – здесь вам не Алма-Ата.
– Учитываю.
– Елуферьев подтверждает ваше участие в контрреволюционной организации.
– Пусть Елуферьев подтвердит показания на очной ставке со мной.
– А если он подтвердит на очной ставке, вы все расскажете? – спрашивает следователь.
– Но никакой ведь организации не было, – ответил я. – А Елуферьев, возможно, помешался и говорит всякую несуразицу.
С Сергеем Михайловичем Елуферьевым я познакомился в 1934 году, когда он прибыл в Алма-Ату вместе с П.Г. Москатовым и работал заместителем председателя комитета партийного контроля ЦК по Казахстану.
Елуферьев, в прошлом тульский рабочий, железнодорожник. Отец, братья его – все железнодорожники. В 1935 году, после отъезда товарища Москатова в Москву, Елуферьев был назначен вместо него председателем этого комитета.
В марте 1938 года я был в Москве в командировке. Жил в гостинице «Селект», что на Малой Лубянке. 8 марта вечером меня подозвали к телефону. Говорил Елуферьев. Он сообщал, что его отозвали в Москву в ЦК, приехал сюда с семьей, просил меня зайти к нему домой на Петровку. Утром на мой звонок из квартиры вышла жена Елуферьева, вся в слезах. Она сказала, что ночью арестовали Сережу. Страшно потрясенный, я все же успокоил ее, сказав, что разберутся, и ушел. Накануне 1 мая я встретил работника НКВД из Куйбышева, некоего Строилова, который сообщил мне, что он доставил под конвоем в Москву на Лубянку секретаря ЦК КПБ Казахстана Левона Исаевича Мирзояна, жену его Тевосян и двух детей. Мирзоян ехал по вызову ЦК в служебном вагоне, ничего не подозревая. В Куйбышеве в вагоне вошли работники НКВД, предъявили ему ордер на арест его и жены, доставили их на Лубянку. Детей отдали И.Ф.Тевосяну, брату жены Тевосяна. Интересно отметить, что примерно за месяц до ареста Мирзояна в Алма-Ате состоялся пленум или партийная конференция, где была зачитана телеграмма от Сталина с высокой оценкой деятельности Мирзояна.
Мирзоян и его жена погибли, а т. Елуферьев после реабилитации умер в Москве. Об этом мне сказал тов. Москатов, которого я встретил в 1956 году.
Итак, я снова на допросе.
– В каких отношениях вы были с Москатовым и когда с ним познакомились?
– Москатова я знаю с 1926 года, когда он работал секретарем Таганрогского окружного комитета партии. Затем встречался с ним в Алма-Ате, где он был уполномоченным комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б) по Казахстану.
– Какие антисоветские разговоры вы вели с ним? – спрашивает следователь Иванов.
Я посмотрел на этого наглеца, который ради своей карьеры готов был посадить всех членов ЦК и всю партию, и ответил:
– Я знал Москатова как бывшего рабочего-электрика, как партизана, воспитанного партией, как кандидата в члены ЦК и ничего плохого не могу о нем сказать.
– Так, значит, не скажешь? – угрожающе спросил Иванов.
– Не о чем говорить, – ответил я.
Тогда он, порывшись в каком-то деле, перелистал несколько страниц и показал мне три строчки, напечатанные на машинке, якобы из показаний Залина – наркомвнутдела Казахстана: «Я имел в виду завербовать в организацию начальника уголовного розыска Казахстана Дворкина, как энергичного работника». И все. Эти сфабрикованные строчки были новой неудавшейся психической атакой.
– Вот Залин, – продолжает говорить следователь, – также держался героем, вроде тебя, а у нас стал миленьким – все рассказал. Хочешь, приведу его сейчас? И он подтвердит свои показания.
– Пусть приведут, – ответил я.
– Ладно, завтра с тобой будет разговаривать начальник следственной части НКВД СССР ст. майор Володзимирский.
Вечером того же дня меня снова привели к лейтенанту Иванову. Я сидел на стуле у входа в кабинет и думал о предстоящем разговоре с Володзимирским. Ко мне подошел сотрудник с довольно наглой физиономией, в гимнастерке с красными петлицами, но без знаков различия. Неистовым, истошным голосом, переходящим в визг, он крикнул мне в лицо:
– Встать, почему не встаешь?
Я спокойно ответил:
– А я не знаю, кто вы такой.
– Сейчас пойдешь со мной к старшему майору Володзимирскому, он тебя поучит, ему все расскажешь.
Я молчал. Через несколько минут он повел меня по длинному коридору. У двойных обитых дверей остановил меня, открыл их, и я вошел в кабинет Володзимирского.
За большим тяжелым письменным столом сидел упитанный, самодовольный, средних лет человек, с большой шевелюрой темных с проседью волос, зачесанных назад. На столе навалом лежала куча следственных дел. Впереди стола стояли два глубоких кресла, слева большой кожаный диван. На нем сидели трое сотрудников, в руке одного из них была четырехгранная резина, сантиметров 40–50 длиной. На полу большие, пушистые ковры. Передаю почти точный диалог между мною и Володзимир ским.
– Садитесь, – сказал Володзимирский и начал рыться в куче дел, наваленных на столе. Вытащив одно очень объемистое дело, повернувшись ко мне, сказал:
– В этом деле имеется 48 показаний о вашем активном участии в контрреволюционной организации. Вот уже 7 месяцев, как вы арестованы и не даете никаких показаний ни о себе, ни о ваших однодельцах.
Имейте в виду, – подчеркнуто сказал он, – у нас нет не сознавшихся.
Не будете говорить, отправим в Лефортово, а там скажете.
– Я ничего не могу сказать, – ответил я, – т. к. я ни в какой контрреволюционной организации не участвовал. А для того, чтобы со мною не возиться и не возить в Лефортово, давайте я лягу вот на этот диван, и пусть меня засекут этой резиной насмерть.
Так я ответил Володзимирскому, который после разоблачения Берия оказался членом его шайки и был расстрелян по приговору Советского суда уже в звании генерал-лейтенанта.
– Ну, что ж, сегодня ночью вас повезут в Лефортово, – сказал Володзимирский. – А знаете ли вы, что такое Лефортово?
– Знаю, – ответил я.
Меня отвели в камеру. Понятно, что настроение у меня было очень подавленное. Я знал со слов многих товарищей, побывавших в Лефортовской тюрьме, что из себя представлял этот застенок. Лефортово было как бы синонимом самой страшной, разнузданной инквизиции, тюрьмы, где людей доводили до умопомешательства, где они умирали в кабинетах следователей после избиения, кончали жизнь самоубийством, где допросы велись под игру баянов.
Я почти не спал всю ночь. В моей голове никак не укладывалось чудовищное обвинение, выдвинутое против моих товарищей по работе.
Ведь они, как и я, на протяжении долгих лет боролись с настоящими врагами партии, с контрреволюционерами, белогвардейщиной, интервенцией, шпионами, политическим и уголовным бандитизмом, расхитителями социалистической собственности, спекулянтами, уголовщиной. Много раз, в особенности, в первые годы становления Советской власти, рисковали получить пулю бандита из-за угла. И вдруг они сами якобы стали контрреволюционерами. Чушь, никогда язык мой не станет говорить то, чего никогда не было. Пусть убьют, не буду клеветать…
Утром на сердце стало как-то легче. Днем в Лефортово не увезли. Наступил второй вечер. Настроение снова понизилось. Но прошла ночь – меня снова не вызывали. Несколько дней спустя, вечером открылась дверь камеры, вошел дежурный надзиратель и шепотом спросил (такой порядок в тюрьме): «На Д». Это означало начальную букву фамилии вызываемого на допрос. Я так же шепотом произнес свою фамилию.
– Выходи.
Ввели меня в кабинет к двум незнакомым следователям, лейтенантам. Через несколько минут ввели моего помощника Якутика. Он выглядел очень плохо, седым, осунувшимся, худым, с впавшими глазами. Началась очная ставка.
– Якутик, – спрашивает один из следователей, – подтверждаете ли вы свои показания об участии Дворкина в контрреволюционной организации?
– Не подтверждаю, – отвечает Якутик. – Все это ложь, выдумка. Я вынужден был так показать, т. к. меня избивали и в Алма-Ате, и здесь в Москве. Товарища Дворкина я знаю как честного коммуниста, хорошего человека.
– А почему вы показали другое? – раздраженно спросил следователь.
– Если бы меня заставили сказать, что я сын абиссинского императора, то я бы это подтвердил, – ответил Якутик.
Следователь прикрикнул на него и велел немедленно отправить в камеру.
– Ну, вот, видите, – сказал я следователю, – такова цена всех показаний.
На мою реплику ответа не последовало.
После Якутика в комнату ввели Ивана Кузьмича Жулева, совершенно седого, исхудалого старика. А ведь ему было тогда не более 35 лет.
– Жулев, – дважды повторяет следователь, – повторяете ли вы свои показания об участии Дворкина в контрреволюционной организации?
Не глядя н а меня, Жулев молча кивает головой.
– Значит, подтверждаете? – спрашивает следователь.
– Да, – еле слышно отвечает Жулев.
– Подтверждаете ли вы? – обращается ко мне следователь.
– Ложь, выдумка замученного человека, – отвечаю я.
Уводят Жулева, я остаюсь с двумя лейтенантами.
– Вы верите в эту липу? – обращаюсь я к лейтенанту.
Оба молчат.
– Ничего, – говорю я, – я верю в справедливость.
Один из них мне отвечает:
– Вы умный, но наивный человек. Где эта справедливость? Бросьте о ней думать, нет ее.
Последующие допросы носили более мирный характер.
Наступила весна 1939 года. Как-то меня вызвал следователь, уже четвертый по счету, и предъявил мне обвинение по ст.58 п.1-17, т. е. в соучастии в измене Родине. Постановление я не подписал и на нем же написал свое особое мнение. Через несколько дней меня снова вызвали и дали мне мое дело, законченное следствием, для ознакомления. Все мое дело из 24 полулистов. Читая эти явно фальсифицированные материалы, я бросил реплику: