Стихотворения
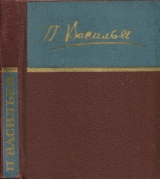
Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Павел Васильев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
К музе
Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб видно было море-океан,
Чтоб доносило ветром дальний запах
Матросских трубок, песни поморян.
Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб под окно к нам Индия пришла
В павлиньих перьях, на слоновых лапах,
Ее товары – золотая мгла.
Граненные веками зеркала…
Потребуй же, чтоб шла она на запад
И встретиться с варягами могла.
Гори светлей! Ты молода и в силе,
Возле тебя мне дышится легко.
Построй мне дом, чтоб окна запад пили,
Чтоб в нем играл заморский гость Садко
На гуслях мачт коммерческих флотилий!
1930
Из цикла «Песни киргиз-казахов»
«Не говори, что верблюд некрасив…»
Не говори, что верблюд некрасив, —
Погляди ему в глаза.
Не говори, что девушка нехороша, —
Загляни ей в душу.
1931
Песня о Серке
Была девушка
Белая, как гусь,
Плавная, как гусь на воде.
Была девушка
С глазами, как ночь,
Нежными, как небо
Перед зарей;
С бровями тоньше,
Чем стрела,
Догоняющая зверя;
С пальцами легче,
Чем первый снег,
Трогающий лицо.
Была девушка
С нравом тарантула,
Старого, мохнатого,
Жалящего ни за что.
А джигит Серке
Только что и имел:
Сердце, стучащее нараспев,
Пояс, украшенный серебром,
Длинную дудку,
Готовую запеть,
Да еще большую любовь.
Вот и все,
Что имел Серке.
А разве этого мало?
К девушке гордой
Пришел Серке,
Говорит ей:
«Будь женой моей, ладно?»
А она отвечает: «Нет,
Не буду твоей женой,
Не ладно.
Ты достань мне,
Серке, два камня
В уши продеть,
Два камня
Желтых, как глаза у кошки,
Чтоб и ночью они горели.
Тогда в юрту к тебе пойду я,
Тогда буду женой твоей,
Тогда – ладно».
Повернулся Серке, заплакал,
Пошел от нее, шатаясь,
Пошел от нее, согнувшись,
Со змеею за шиворотом.
Целый день шел Серке,
Не останавливался.
И второй день шел,
Не останавливался.
А на третьей заре
Блестит вода,
Широкая вода,
Светлая вода —
Аю-Куль.
Сел Серке на камень
У озера,
У широкого камышового
Озера,
И слезы капают на песок.
Сердце Серке бьется нараспев,
Согреваемое любовью.
Вынул Серке длинную дудку
Из-за пояса серебряного,
Заиграл Серке на дудке.
И когда Серке кончил,
Позади кто-то мяукнул.
Повернулся джигит —
Позади его старая,
Позади его дикая,
Круглоглазая кошка сидит.
Стал Серке понятен
Кошачий язык.
Дикая кошка ему говорит:
«Что ты так плачешь,
Певец известнейший?..»
Ей свою беду Серке
Рассказывает
И к сказанному прибавляет:
«Я напрасно теряю время.
Дикая, исхудавшая кошка,
Облезлая, черная кошка,
Ты мне не поможешь…
Мне камней,
Светящихся ночью,
Не достать, осмеянному!»
Тихо кошка
К Серке приблизилась,
И потерлась дикая кошка
О пайпаки мордой розовой,
Промяукав: «Кош, ай-налайн», —
В камышах колючих скрылась.
А джигит под ноги глядит —
Не верит:
Перед ним два глаза кошачьих
Светлых, два желтых камня,
Негаснущих, ярких.
Закричал Серке:
«Эй, кошка,
Дикая кошка, откликнись!
Ты погибнешь здесь, слепая, —
Как ты будешь
На мышей охотиться?»
Но молчало озеро,
Камыши молчали,
Как молчали они вначале.
Еще раз закричал Серке:
«Эй, кошка,
Ласковая кошка, довольно,
Прыгни сюда! Мне страшно, —
Глаза твои жгут мне ладони!»
Но молчало озеро,
А камыши стали
Еще тише,
Чем были они вначале.
И пошел Серке обратно
Каменной, твердой дорогой.
Кружились над ним коршуны,
Лисицы по степи бегали,
Но он шел успокоенный,
Потому что знал, что делать.
Девушке Белой, как гусь,
Плавной, как гусь на воде,
С нравом, как у тарантула,
Прицепил он
На уши камни —
Кошачьи глаза,
Которые смотрят.
Он сказал:
«Они не погаснут,
Не бойся, и днем и ночью
Будут эти камни светиться,
Никуда ты с ними не скроешься!..»
Если ты, приятель, ночью встретил
Бегущие по степи огни,
Значит, видел ты безумную,
Укрывающуюся от людей.
А Серке казахи встречали,
И рассказывают, что прямо,
Не оглядываясь, он проходит
И поет последнюю песню,
На плече у него
Сидит кошка,
Старая, дикая кошка,
Безглазая…
1931
Обида
Я – сначала – к подруге пришел
И сказал ей:
«Все хорошо,
Я люблю лишь одну тебя,
Остальное все – чепуха».
Отвечала подруга:
«Нет,
Я люблю сразу двух, и трех,
И тебя могу полюбить,
Если хочешь четвертым быть».
Я сказал тогда:
«Хорошо,
Я прощаю тебе всех трех,
И еще пятнадцать прощу,
Если первым меня возьмешь».
Рассмеялась подруга:
«Нет,
Слишком жадны твои глаза,
Научись сначала, мой друг,
По-собачьи за мной ходить».
Я ответил ей:
«Хорошо,
Я согласен собакой быть,
Но позволь, подруга, тогда
По-собачьи тебя любить».
Отвернулась подруга:
«Нет,
Слишком ты тороплив, мой друг,
Ты сначала вой на луну,
Чтобы было приятно мне!»
«Привередница, – хорошо!»
Я ушел от нее в слезах,
И любил
Девок двух, и трех,
А потом пятнадцать еще.
И пришла подруга ко мне,
И сказала:
«Все хорошо,
Я люблю одного тебя,
Остальные же – чепуха…»
Грустно сделалось
Мне тогда.
Нет, подумал я, никогда, —
Чтоб могла
От обидных слов
По-собачьи завыть душа!
1931
«Лучше иметь полный колодец воды…»
Лучше иметь полный колодец воды,
Чем полный колодец рублей.
Но лучше иметь совсем пустой колодец,
Чем пустое сердце.
1931
Путинная весна
Так, взрывая вздыбленные льды,
Начиналась ты.
И по низовью,
Что дурной, нахлынувшею кровью,
Захлебнулась теменью воды.
Так ревела ты, захолодев,
Глоткой перерезанною бычьей,
Нарастал подкошенный припев —
Ветер твой, твой парусный обычай!
Твой обычай парусный! Твой крик!
За собой пустыни расстилая,
Ты гремела,
Талая и злая,
Ледяными глыбами вериг.
Не твои ли взбухнувшие ливни
Разрывали зимнее рядно?
Осетры, тяжелые, как бивни,
Плещутся И падают на дно.
Чайки,
снег
и звезды над разливом,
Астрахань,
просторы,
промысла…
Ты теченьем черным и пугливым
Оперенье пены понесла!..
Смяв и сжав
Глухие расстоянья,
Поднималась ты – проста, ясна.
Так в права вошли: соревнованье,
Темпы, половодье и весна.
1931
ВерблюдВиктору Уфимцеву
Захлебываясь пеной слюдяной,
Он слушает, кочевничий и вьюжий,
Тревожный свист осатаневшей стужи,
И азиатский, туркестанский зной
Отяжелел в глазах его верблюжьих.
Солончаковой степью осужден
Таскать горбы и беспокойных жен,
И впитывать костров полынный запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.
Но приглядись, – в глазах его туман
Раздумья и величья долгих странствий…
Что ищет он в раскинутом пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?
О чем он думает, надбровья сдвинув туже?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветет бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.
На лицах медь чеканного загара,
Ковром пустынь разостлана трава,
И солнцем выжжена мятежная Хива,
И шелестят бухарские базары…
Хитра рука, сурова мудрость мулл, —
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.
Немеркнущая, ветреная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подъяты на шестах
Отрубленные головы неверных!
Проказа шла по воспаленным лбам,
Шла кавалерия
Сквозь серый цвет пехоты, —
На всем скаку хлестали по горбам
Отстегнутые ленты пулемета.
Бессонна жадность деспотов Хивы,
Прошелестят бухарские базары…
Но на буграх лохматой головы
Тяжелые ладони комиссара.
Приказ. Поход. И пулемет, стуча
На бездорожье сбившихся разведок,
В цветном песке воинственного бреда
Отыскивает шашку басмача.
Луна. Палатки. Выстрелы. И снова
Медлительные крики часового.
Шли, падали и снова шли вперед,
Подняв штыки, в чехлы укрыв знамена,
Бессонницей красноармейских рот
И краснозвездной песней батальонов.
…Так он, скосив тяжелые глаза,
Глядит на мир, торжественный и строгий,
Распутывая старые дороги,
Которые когда-то завязал.
1931
Город Серафима Дагаева
Старый горбатый город – щебень и синева,
Свернута у подсолнуха рыжая голова,
Свесилась у подсолнуха мертвая голова, —
Улица Павлодарская, дом номер сорок два.
С пестрой дуги сорвется колоколец, бренча,
Красный кирпич базара, церковь и каланча,
Красен кирпич базара, цапля – не каланча,
Лошади на пароме слушают свист бича.
Пес на крыльце парадном, ласковый и косой,
Верочка Иванова, вежливая, с косой,
Девушка-горожанка с нерасплетенной косой,
Над Иртышом зеленым чаек полет косой.
Верочка Иванова с туфлями на каблуках,
И педагог-словесник с удочками в руках.
Тих педагог-словесник с удилищем в руках,
Небо в гусиных стаях, в медленных облаках.
Дыни в глухом и жарком обмороке лежат,
Каждая дыня копит золото и аромат,
Каждая дыня цедит золото и аромат,
Каждый арбуз покладист, сладок и полосат.
Это ли наша родина, молодость, отчий кров, —
Улица Павлодарская – восемьдесят дворов?
Улица Павлодарская – восемьдесят дворов,
Сонные водовозы, утренний мык коров.
В каждом окне соседском тусклый зрачок огня.
Что ж, Серафим Дагаев, слышишь ли ты меня?
Что ж, Серафим Дагаев, слушай теперь меня:
Остановились руки ярмарочных менял.
И, засияв крестами в синей, как ночь, пыли,
Восемь церквей купеческих сдвинулись и пошли.
Восемь церквей, шатаясь, сдвинулись и пошли —
В бурю, в грозу, в распутицу, в золото,
в ковыли.
Пики остры у конников, память пики острей:
В старый, горбатый город грохнули из батарей.
Гулко ворвался в город круглый гром батарей,
Баржи и пароходы сорваны с якорей.
Посередине площади, не повернув назад,
Кони встают, как памятники,
Рушатся и хрипят!
Кони встают, как памятники,
С пулей в боку хрипят.
С ясного неба сыплется крупный свинцовый
град.
Вот она, наша молодость – ветер и штык
седой,
И над веселой бровью шлем с широкой звездой,
Шлем над веселой бровью с красноармейской
звездой,
Списки военкомата и снежок молодой.
Рыжий буран пожара, пепел пустив, потух,
С гаубицы разбитой зори кричит петух,
Громко кричит над миром, крылья раскрыв,
петух,
Клювом впиваясь в небо и рассыпая пух.
То, что раньше теряли, – с песнями возвратим,
Песни поют товарищи, слышишь ли, Серафим?
Громко поют товарищи, слушай же, Серафим, —
Воздух вдохни – железом пахнет сегодня дым.
Вот она наша молодость – поднята до утра,
Улица Пятой Армии, солнце. Гудок. Пора!
Поднято до рассвета солнце. Гудок. Пора!
И на местах инженеры, техники, мастера.
Зданья встают, как памятники, не повернув
назад.
Выжженный белозубый смех ударных бригад.
Крепкий и белозубый смех ударных бригад —
Транспорт хлопка и шерсти послан
на Ленинград.
Вот она, наша родина, с ветреной синевой,
Древние раны площади стянуты мостовой.
В камень одеты площади, рельсы на мостовой.
Статен, плечист и светел утренний город твой!
1931
«И имя твое, словно старая песня…»
И имя твое, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея —
Опаленными перьями фитилей…
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть,
с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей, —
Красно солнышко падает в синее море
И —
за пазухой прячется ножик-злодей,
И —
голодной собакой шатается горе…
Если все как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю – сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.
Ноябрь 1931 г.
Переселенцы
Ты, конечно, знаешь, что сохранилась страна одна;
В камне, в песке, в озерах, в травах лежит
страна.
И тяжелые ветры в травах ее живут,
Волнуют ее озера, камень точат, песок метут.
Все в городах остались, в постелях своих,
лишь мы
Ищем ее молчанье, ищем соленой тьмы.
Возле костра высокого, забыв про горе свое,
Снимаем штиблеты, моем ноги водой ее.
Да, они устали, пешеходов ноги, они
Шагали, не переставая, не зная, что есть огни,
Не зная, что сохранилась каменная страна,
Где ждут озера, солью пропитанные до дна,
Где можно строить жилища для жен своих
и детей,
Где можно небо увидеть, потерянное меж ветвей.
Нет, нас вели не разум, не любовь, и нет,
не война, —
Мы шли к тебе словно в гости, каменная страна.
Мы, мужчины, с глазами, повернутыми на восток,
Ничего под собой не слышали, кроме идущих ног.
Нас на больших дорогах мира снегами жгло;
Там, за белым морем, оставлено ты, тепло,
Хранящееся в овчинах, в тулупах, в душных
печах
И в драгоценных шкурах у девушек на плечах.
Остались еще дороги для нас на нашей земле,
Сладка походная пища, хохочет она в котле, —
В котлах ослепшие рыбы ныряют, пена блестит,
Наш сон полынным полымем, белой палаткой
крыт.
Руками хватая заступ, хватая без лишних слов,
Мы приходим на смену строителям броневиков,
И переходники видят, что мы одни сохраним
Железо, и электричество, и трав полуденный дым,
И золотое тело, стремящееся к воде,
И древнюю человечью любовь к соседней звезде…
Да, мы до нее достигнем, мы крепче вас
и сильней,
И пусть нам старый
Бетховен сыграет бурю
на ней!
1931
Песня
В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега.
На косых путях мороза
Ни огней, ни дыму нет,
Только там, где шла береза,
Остывает тонкий след.
Шла береза льда напиться,
Гнула белое плечо.
У тебя ж огонь еще:
В темном золоте светлица,
Синий свет в сенях толпится,
Дышат шубы горячо.
Отвори пошире двери,
Синий свет впусти к себе,
Чтобы он павлиньи перья
Расстелил по всей избе,
Чтобы был тот свет угарен,
Чтоб в окно, скуласт и смел,
В иглах сосен вместо стрел,
Волчий месяц, как татарин,
Губы вытянув, смотрел.
Сквозь казацкое ненастье
Я брожу в твоих местах.
Почему постель в цветах,
Белый лебедь в головах?
Почему ты снишься, Настя,
В лентах, в серьгах, в кружевах?
Неужель пропащей ночью
Ждешь, что снова у ворот
Потихоньку захохочут
Бубенцы и конь заржет?
Ты свои глаза открой-ка —
Друга видишь неужель?
Заворачивает тройки
От твоих ворот метель.
Ты спознай, что твой соколик
Сбился где-нибудь в пути.
Не ему во тьме собольей
Губы теплые найти!
Не ему по вехам старым
Отыскать заветный путь,
В хуторах под Павлодаром
Колдовским дышать угаром
И в твоих глазах тонуть!
1932
Строителю Евгении Стэнман
Осыпаются листья, Евгения Стэнман, пора мне
Вспомнить вёсны и зúмы, и осени вспомнить пора.
Не осталось от замка Тамары камня на камне,
Не хватило у осени листьев и золотого пера.
Старых книг не хватило на полках, чтоб перечесть
их,
Будто б вовсе не существовал Майн Рид;
Та же белая пыль, та же пыльная зелень
в предместьях,
И еще далеко до рассвета, еще не погас и горит
На столе у тебя огонек. Фитили этих ламп
обгорели,
И калитки распахнуты, и не повстречаешь тебя.
Неужели вчерашнее утро шумело вчера, неужели
Шел вчера юго-западный ветер, в ладони трубя?
Эти горькие губы так памятны мне, и похоже,
Что еще не раскрыты глаза, не разомкнуты руки
твои;
И едва прикоснешься к прохладному золоту
кожи, —
В самом сердце пустынного сада гремят соловьи.
Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Над ними
То же старое небо и тот же полет облаков.
Так прости, что я вспомнил твое позабытое имя
И проснулся от стука веселых твоих каблучков.
Как мелькали они, когда ты мне навстречу
бежала,
Хохоча беспричинно, и как грохотали потом
Средь тифозной весны у обросших снегами
причалов,
Под расстрелянным знаменем, под перекрестным
огнем.
Сабли косо взлетали и шли к нам охотно
в подруги.
Красногвардейские звезды не меркли в походах,
а ты
Все бежала ко мне через смерть и тяжелые
вьюги,
Отстраняя штыки часовых и минуя посты…
Я рубил по погонам, я знал, что к тебе
прорубаюсь,
К старым вишням, к окну и к ладоням горячим
твоим,
Я коня не зануздывал больше, я верил, бросаясь
Впереди эскадрона на пулеметы, что возвращусь
невредим.
И в теплушке, шинелью укутавшись, слушал
я снова,
Как сквозь сон, сквозь снега, сквозь ресницы
гремят соловьи.
Мне казалось, что ты еще рядом, и понято все
с полуслова,
Что еще не раскрыты глаза, не разомкнуты руки
твои.
Я готов согласиться, что не было чаек над пеной,
Ни веселой волны, что лодчонку волной унесло.
Что зрачок твой казался мне чуточку меньше
вселенной,
Неба не было в нем – впереди от бессонниц светло.
Я готов согласиться с тобою, что высохла влага
На заброшенных веслах в амбарчике нашем, и вот
Весь июнь под лодчонкой ночует какой-то
бродяга,
Режет снасть рыболовной артели и песни поет.
Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Пора мне
Вспомнить вёсны и зúмы, и осени вспомнить пора.
Не осталось от замка Тамары камня на камне,
Не хватило у осени листьев и золотого пера.
Мы когда-то мечтали с тобой завоевывать
страны,
Ставить в лунной пустыне кордоны и разрушать
города;
Через желтые зори, через пески Казахстана
В свежем ветре экспресса по рельсам ты мчалась
сюда.
И как ни был бы город старинный придирчив
и косен, —
Мы законы Республики здесь утвердим и
поставим на том,
Чтоб с фабричными песнями свыклась и
сладилась осень,
Мы ее и в огонь, и в железо, и в камень
возьмем.
Но в строительном гуле без памяти, без перемены
Буду слушать дыханье твое, и, как вечность
назад,
Опрокинется небо над нами, и рядом мгновенно
Я услышу твой смех, и твои каблучки простучат.
1932
Путь на Семиге
Мы строили дорогу к Семиге
На пастбищах казахских табунов,
Вблизи озер иссякших. Лихорадка
Сначала просто пела в тростнике
На длинных дудках комариных стай,
Потом почувствовался холодок,
Почти сочувственный, почти смешной,
почти
Похожий на ломóть чарджуйской дыни,
И мы решили: воздух сладковат
И пахнут медом гривы лошадей.
Но звезды удалялись всё. Вокруг,
Подобная верблюжьей шерсти, тьма
Развертывалась. Сердце тяжелело,
А комары висели высоко
На тонких нитках писка. И тогда
Мы понимали – холод возрастал
Медлительно, и всё ж наверняка,
В безветрии, и все-таки прибоем
Он шел на нас, шатаясь, как верблюд.
Ломило кости. Бред гудел. И вот
Вдруг небо, повернувшись тяжело,
Обрушивалось. И кричали мы
В больших ладонях светлого озноба,
В глазах плясал огонь, огонь, огонь, —
Сухой и лисий. Поднимался зной.
И мы жевали горькую полынь,
Пропахшую костровым дымом, и
Заря блестела, кровенясь на рельсах…
Тогда краснопутиловец Краснов
Брал в руки лом и песню запевал.
А по аулам слух летел, что мы
Мертвы давно, что будто вместо нас
Достраивают призраки дорогу!
Но всем пескам, всему наперекор
Бригады снова строили и шли.
Пусть возникали города вдали
И рушились. Не к древней синеве
Полдневных марев, не к садам пустыни —
По насыпям, по вздрогнувшим мостам
Ложились шпал бездушные тела.
А по ночам, неслышные во тьме,
Тарантулы сбегались на огонь,
Безумные, рыдали глухо выпи.
Казалось нам: на океанском дне
Средь водорослей зажжены костры.
Когда же синь и розов стал туман
И журавлиным узким косяком
Крылатых мельниц протянулась стая,
Мы подняли лопаты, грохоча
Железом светлым, как вода ручьев.
Простоволосые, посторонились мы,
Чтоб первым въехал мертвый бригадир
В березовые улицы предместья,
Шагнув через победу, зубы сжав.
… … … … … … … … … … …
Так был проложен путь на Семиге.
1932
Сердце
Мне нравится деревьев стать,
Июльских листьев злая пена.
Весь мир в них тонет по колено.
В них нашу молодость и стать
Мы узнавали постепенно.
Мы узнавали постепенно,
И чувствовали мы опять,
Что тяжко зеленью дышать,
Что сердце, падкое к изменам,
Не хочет больше изменять.
Ах, сердце человечье, ты ли
Моей доверилось руке?
Тебя как клоуна учили,
Как попугая на шестке.
Тебя учили так и этак,
Забывши радости твои,
Чтоб в костяных трущобах клеток
Ты лживо пело о любви.
Сгибалась человечья выя,
И стороною шла гроза.
Друг другу лгали площадные
Чистосердечные глаза.
Но я смотрел на все без страха, —
Я знал, что в дебрях темноты
О кости черствые с размаху
Припадками дробилось ты.
Я знал, что синий мир не страшен,
Я сладостно мечтал о дне,
Когда не по твоей вине
С тобой глаза и души наши
Останутся наедине.
Тогда в согласье с целым светом
Ты будешь лучше и нежней.
Вот почему я в мире этом
Без памяти люблю людей!
Вот почему в рассветах алых
Я чтил учителей твоих
И смело в губы целовал их,
Не замечая злобы их!
Я утром встал, я слышал пенье
Веселых девушек вдали,
Я видел – в золотой пыли
У юношей глаза цвели
И снова закрывались тенью.
Не скрыть мне то, что в черном дыме
Бежали юноши. Сквозь дым!
И песни пели. И другим
Сулили смерть.
И в черном дыме
Рубили саблями слепыми
Глаза фиалковые им.
Мело пороховой порошей,
Большая жатва собрана.
Я счастлив, сердце, – допьяна,
Что мы живем в стране хорошей,
Где зреет труд, а не война.
Война! Она готова сворой
Рвануться на страны жилье.
Вот слово верное мое:
Будь проклят тот певец, который
Поднялся прославлять ее!
Мир тяжким ожиданьем связан.
Но если пушек табуны
Придут топтать поля страны —
Пусть будут те истреблены,
Кто поджигает волчьим глазом
Пороховую тьму войны.
Я призываю вас – пора нам,
Пора, я повторяю, нам
Считать успехи не по ранам —
По веснам, небу и цветам.
Родятся дети постепенно
В прибое. В них иная стать,
И нам нельзя позабывать,
Что сердце, падкое к изменам,
Не может больше изменять.
Я вглядываюсь в мир без страха,
Недаром в нем растут цветы.
Готовое пойти на плаху,
О кости черствые с размаху
Бьет сердце – пленник темноты.
1932
Стихи Мухана Башметова
Я видел – в зарослях карагача
Ты с ним, моя подруга, целовалась.
И шаль твоя, упавшая с плеча,
За ветви невеселые цеплялась.
Так я цепляюсь за твою любовь.
Забыть хочу – не позабуду скоро.
О сердце, стой! Молчи, не прекословь,
Пусть нож мой разрешит все эти споры.
Я загадал – глаза зажмурив вдруг,
Вниз острием его бросать я буду,—
Когда он камень встретит, милый друг,
Тебя вовек тогда я не забуду.
Но если в землю мягкую войдет —
Прощай навек. Я радуюсь решенью…
Куда ни брось – назад или вперед, —
Всё нет земли, кругом одни каменья.
Как с камнем перемешана земля,
Так я с тобой… Тоску свою измерю —
Любовь не знает мер – и, целый свет
кляня,
Вдруг взоры обращаю к суеверью.
1932








