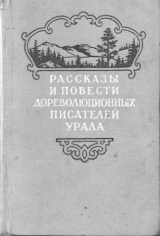
Текст книги "Трясина"
Автор книги: Павел Заякин-Уральский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
П. И. Заякин-Уральский
Трясина
I
Супруги Голосовы сидели за утренним чаем.
Иван Ефимович, белокурый толстяк, в сером английском пиджаке, с копной волос на голове и большими усами на брюзглом лице, озабоченный и мрачный, пил чай торопливыми глотками, часто тер рукой лоб и изредка обтирал салфеткой подмоченные усы.
Мария Васильевна, блондинка, с тонкими чертами липа, ясными голубыми глазами, в белом капоте, сидела, наклонив голову, неподвижно, задумчиво и не дотрагивалась до чашки, стоявшей перед ней на столе, с дымившимся горячим напитком.
Супруги порой мрачно посматривали друг на друга, но упорно молчали, как немые, и в этой атмосфере напряженного молчания чувствовалось что-то гнетуще тяжелое.
Первым нарушил молчание муж.
– Сколько времени?
– А твои часы?
– Не завел вчера.
– Давно десятый.
Не удовлетворяясь этим ответом, Голосов поморщился, нахмурился и, немного помолчав, повелительным тоном произнес:
– Узнай точно время.
По лицу Марии Васильевны скользнула легкая тень неудовольствия, но все же она быстро встала и, уходя в другую комнату, чтобы узнать время по часам, печально думала: «Опять злится и рычит, как лев в клетке. Но кто же виноват в том, что– голова трещит с похмелья?»
В отсутствие жены Голосов допил стакан чаю, тщательно обтер салфеткой в последний раз губы и усы, выпрямился на стуле, потер рукой лоб и тихо сказал про себя:
– Каждую ночь играть до пяти утра – тяжело, надоедливо и скверно. Голова тяжелая, как будто чугуном налита, и побаливает, черт возьми!
Он еще раз потер лоб и задумался.
Мелькнула мысль о необходимости что-нибудь предпринять, чтобы ввести жизнь в нормальное русло и исправиться.
Жизнь была страшно бесцветна.
Пять лет уже он служил фельдшером в заводской больнице, занимаясь регистрацией больных на приеме врача в амбулатории и визитацией к тяжелобольным на квартирах. Его день замыкался скучным кругом, – утром пил чай и уходил в больницу, по возвращении – обедал, часа два тратил на послеобеденный сон, затем отбывал визитацию, а вечером, после чаю, отправлялся к кому-либо из знакомых, если очередь падала не на его дом, играть в преферанс или в вист, а иногда – и в волка, играл до полуночи и дальше. Все это повторялось изо дня в день с ненарушаемой методической последовательностью.
Случайно задумавшись теперь над заколдованным кругом тупого и пошлого прозябания, он ужаснулся бессодержательностью своей и точно такой же жизни окружавших его людей, именующихся заводской интеллигенцией, и у него невольно вырвалось горькое восклицание:
– Гадко, мерзко!
Но его размышления были прерваны шумом шагов жены.
Возвратясь в столовую, Мария Васильевна подошла к нему, положила на его плечо руку и, ласково заглянув ему в лицо, с улыбкой оказала:
– Три четверти десятого.
Он к этой ласке жены отнесся безразлично и, промычав что-то невнятное, продолжал сидеть неподвижно на стуле.
Затаив в душе обиду отвергнутой нежности, она тотчас отошла от него и села на стул на противоположной стороне стола, но после недолгого молчания, в т время как он взглянул на нее, обратилась к нему грустным и мягким тоном:
– Когда ты перестанешь пить и играть? Ведь это, Ваня, ужасно! Каждый день без передышки, без просыпу…
Увещание жены его тронуло, он печально улыбнулся, но, желая, отшутиться, громко сказал:
– Когда у зайца черное с ушей сойдет.
Этот игривый ответ на ее серьезное, почти молящее обращение ее возмутил. В глазах у нее вспыхнул огонек, а лицо покрылось румянцем. И она с жаром начала возражать:
– Полно, Ваня, дурачиться! Ведь ты прежде всего расстраиваешь здоровье. Подумай, к чему это приведет…
Но он спокойно, слегка улыбаясь, перебил ее:
– После поговорим.
И, поднявшись со стула, пробормотал про себя:
– Надо спешить в больницу. Амбулаторных, наверно, полный коридор.
Она молча подчинилась его желанию прекратить разговор на докучливую, но неизбежную и важную тему.
Пройдясь задумчиво по комнате, он подошел к столику, стоявшему в углу, где лежала коробка с табаком и гильзами, чтобы взять папирос, и, заглянув в коробку, повышенным голосом, в котором слышались нотки недовольства, произнес:
– Опять папирос нет! Трудно тебе набить их на досуге? Мне надо спешить, а тут…
Она повернулась лицом к нему и смущенно, как уличенная в проступке, ответила:
– Папиросы были, но их, наверное, взяла мама.
– Кто бы не взял их, для меня – безразлично, – гневно, весь раскрасневшись, оборвал он ее.
В этот момент в столовую вошла мать Голосова, Олимпиада Алексеевна, высокая, худая, с бронзовым выцветшим лицом, с отвисшей трясущейся нижней челюстью, с белой повязкой на левом глазу, вся в черном, мрачная старуха.
Подозрительно оглядываясь и прислушиваясь, она прошлась, как черный призрак, по комнате, остановилась и глухим, надтреснутым голосом спросила:
– Что это у вас такое? Опять какая-то ссора?
– Ничего, – с раздражением, не глядя на нее, ответил Голосов.
– Старая мать, видно, опять вам помешала… Тяжело покоить-то меня… Надоела, видно, вам… – с желчью произнесла старуха и, окинув испытующим взором сына и сноху, медленно опустилась на стул.
– Полноте, мама, – мягко возразила, стыдливо потупясь, Мария Васильевна.
Голосов брезгливо посмотрел на мать, повернулся лицом к жене, торопливо сунул в карман портсигар, закрутил усы и хмуро пробурчал:
– Иду в больницу.
Мария Васильевна, думая, что муж плохо выспался, нервничает, а потому легко раздражается, решила не обижаться и в ответ на его слова, ободрительно кивнув головой, посмотрела на него светлым, мягким взором.
Он, как бы не замечая этого, бросил на нее мимолетный холодный взгляд, порылся у себя в карманах, торопливо чиркнул спичку и закурил папиросу, взял со стола шляпу и трость и, попыхивая на ходу папиросой, шумно и быстро направился в переднюю.
Обе женщины сначала сидели неподвижно на своих местах и прислушивались к шороху в передней. Они слышали, как замерли звуки шагов, как щёлкнул замок двери, как с легким скрипом открылась и шумно закрылась дверь. Когда стало совсем тихо, они, облегченно вздохнули, начали пить чай. Некоторое время провели молча, а затем свекровь начала допрос снохи:
– Что у вас вышло?
– Ничего особенного. Папирос не оказалось набитых. Ваня сердится. Впрочем, он сердится больше потому, что проспал.
Старуха злобно вперила в невестку мутный незрячий глаз, а трясущаяся челюсть у нее запрыгала еще сильнее, выдавая ее волнение, и она, с трудом сдерживая пыл, поучающе, с оттенком горечи, произнесла:
– Приготовляла бы все заранее, так не стал бы сердиться.
Мария Васильевна приняла такой вид, как будто ничего не слыхала, и добродушно обратилась к свекрови:
– Как спали ночью?
Старуха нахмурилась и нехотя ответила:
– Ничего.
И после короткой паузы неожиданно, без всякого повода, громко и строго закричала:
– Ты, как я погляжу, время проводишь только за книгами да за музыкой, следишь за тем, чтобы пыли в зале не было, а на кухню для присмотра эа стряпкой, чтобы зря добро не изводила, выйти не изволишь. Я прежде, когда нужно было семью кормить да дом сдомить, никого не нанимала: сама пол мыла, сама стирала…
– Оставьте, мама, – кротко взмолилась Мария Васильевна.
Но старуха озлилась и не унималась. В ней клокотала застаревшая злоба к снохе, которая не пришлась по нраву и с которой не о чем было поговорить, как только упрекнуть образованностью, занятием музыкой, чтением книг, любовью к чистоте и опрятности. И она, входя в азарт, продолжала:
– Не нравится, когда дело говорю! Не на худо учу, матушка. Эх вы, молодые! Жить вы не умеете. Почему у вас из-за пустяка, из-за папирос, и то ссора?
– Папиросы были приготовлены, но вы, может быть, их взяли.
При последних словах старуха вскочила, как ужаленная, лицо ее исказилось негодованием, она вся затряслась и, задыхаясь, визгливо закричала:
– Я взяла? Не брала и не возьму никогда. Не хочу попреков слышать. Если захочу курить – сама набиваю…
Мария Васильевна мысленно пожалела, что сорвались с уст неосторожные слова, и примиряюще перебила свекровь:
– Успокойтесь! Ничего особенного не случилось. Пустяки! – И, тяжело вздохнув от волнения, добавила про себя: – Как глупо все это!
Старуха начала всхлипывать и с неоетывающим пылом продолжала злобно кричать:
– Не говори про меня напраслину. Вы оба – ты и муж – меня изводите, как старую собаку. Он со мной обходится не как сын, а как чужой. Я его в сиротстве воспитывала, учила на медные гроши, а он… Теперь он барином стал, живет и сыт, и пьян, и нос в табаке, а мое старание забыл. У меня на квартире жил мировой судья, тридцать рублей платил… Я деньги трудом добывала да его учила, старалась в люди вывести, а он… И ты, гордая! Мне не очень нужно, что ты – поповна, образованная… Я тоже век жила не зря, не как-нибудь.
Поток бессвязных упреков произвел аа Марию Васильевну такое действие, как будто ей пришлось выслушать бред безумного, и, почувствовав жалость к старухе, она еще больше смягчилась и начала ее успокаивать:
– Полноте, мама! Что вы говорите? Не волнуйтесь напрасно. Мы вовсе не хотим вас обижать. Вы это напрасно думаете. Уверяю вас!
Старуха сразу стихла, как бы проникнувшись ее убеждениями, сделала костлявой рукой какой-то непонятный жест и, утирая слезы платком, медленно, точно плывя, удалилась из столовой.
Мария Васильевна грустно посмотрела ей вслед, бессильно опустилась на стул, закрыла лицо руками, чтобы скорее успокоиться, и с тоской и болью в сердце думала: «Как вульгарно и глупо все это! Когда все это кончится?»
II
Еще не успела Мария Васильевна оправиться от тяжелого впечатления сцены со свекровью, как в комнату вошел знакомый заводский техник Александр Гаврилович Юношев.
При его появлении она, стараясь оживиться, быстро встала и с улыбкой протянула ему руку.
Юношев добродушно улыбался и кланялся и в то же время сыпал вопросами:
– Как ваше здоровье? Почему-то давно нигде вас не встречал? Что у вас хорошего?
Мария Васильевна попросила его сесть и, когда он опустился на первый попавшийся стул, начала отвечать на его вопросы.
Она говорила и улыбалась, но причиной появления улыбки были совсем не ее слова, а вызвало улыбку воспоминание о том, как Юношев ухаживал за ней всюду при встречах.
– Стаканчик чайку выпьете? – предложила затем она, вспомнив о роли хозяйки.
– Благодарю, благодарю, – ответил он тоном, не имевшим и намека на отказ, и пересел к столу против нее.
Она поставила перед ним стакан с чаем, кивнула головой в знак приглашения, и он начал пить.
Взор ее скользнул по его наружности. Вид у него был цветущий. Юношески свежее, полное, жизнерадостное лицо и добрые, детские, серые глаза придавали ему облик взрослого ребенка. От всей его фигуры веяло здоровьем. Заметно проглядывали, невольно располагавшие к нему скромность и простота. Она знала, что среди заводской интеллигенции он выделялся оригинальностью, сводящейся вообще к полной опрощенности, и ее не удивило, что он явился в своем обычном костюме – серой шерстяной блузе, черных узких брюках и высоких ботфортах. Это теперь ей даже почему-то понравилось.
После недолгого молчания, извинившись за раннее посещение, Юношев стал объяснять цель своего прихода.
– Дело в том, что хотел вас, Мария Васильевна, а также и Ивана Ефимовича видеть вместе.
– Муж уже ушел в больницу.
– Жаль, что не застал. Впрочем, все равно, поговорю с вами.
– Пожалуйста.
– Хочется на празднике дать спектакль. Времени, правда, еще много. Но, чем раньше все оборудовать, тем лучше. Прошу вас не отказаться от роли. То же самое хочу предложить и Ивану Ефимовичу.
– Если роль подойдет, то я согласна, а мужа попросите.
Он начал благодарить ее, но она остановила его и опросила:
– Какую пьесу намечаете?
– Желательно из народной жизни, а в заключение что-нибудь веселое. Выбор сделаем на общем собрании участвующих.
– Отлично.
Он оживился и, забыв о стоявшем перед ним недопитом стакане, пустился в рассуждения.
– Так вот, стало быть, спектакль устроится. Похлопочу, встряхнусь… Жизнь до того сера и однообразна, что, право, в конце концов изленишься, опустишься и, пожалуй, одурь возьмет. Утром идешь на завод. Там – духота, пыль, дым, гул машин, стук молотов, крики рабочих. Сами рабочие – потные, грязные, с охрипшими голосами, с красными от огня лицами. Все это действует на нервы. Уходишь с завода издерганным и усталым, а отдохнуть, душой отдохнуть негде. Вечерами, сидя в четырех стенах квартиры, почитаешь, побрянчишь на гитаре – и только. Если подойдет ночная служебная неделя, тогда совсем не живешь, кроме завода. Уходишь вечером на завод, а утром возвращаешься, пьешь чай и ложишься спать на целый день. Но ведь этого мало, чтобы чувствовать себя человеком. Хочется жить сознательно, делать что-нибудь полезное, наконец, хочется с кем-нибудь поговорить по душе, обменяться мыслями, развлечься. А этого-то и нет совсем. Иногда думаю: «не удрать ли отсюда?» Наше общество только и знает – карты, выпивку, сплетни. Не только журналов, даже газет, кроме молодежи, никто не читает. Разве шорой заинтересуются обличительной корреспонденцией… Нет сплоченности, нет инициативы, нет желания сделать полезное. Играют в карты – и довольны! Но я неспособен так убивать время. Мне нужно что-нибудь осмысленное, освежающее душу… Спектакль меня расшевелит, ободрит, а потом опять как-нибудь можно будет тянуть.
Говорил он тихо, плавно и увлекательно. Голос его был мягкого тембра, с задушевными нотками. Это действовало подкупающе.
В беседах со знакомыми Юношев держал себя спокойно и уверенно. В то время как другие горячились, он оставался хладнокровным и не отводил серьезного взора от собеседников. Не всякий мог понять, о чем он говорил серьезно и о чем – шутливо или иронически. Но беседы с ним были приятными и захватывающими.
Так это повторилось и теперь. Сначала Марии Васильевне казалось, что он говорит лишь для того, чтобы не сидеть молча, а затем беседа ее увлекла. Его слова совпадали с ее мыслями. Она думала, что он говорит правду, только не верила в возможность сплочения заводской интеллигенции для культурной работы, и откликнулась лишь на последнюю его фразу.
– Да, вы правы. Но что станете делать? Надо же как-нибудь жить…
– Да, жить надо, но еще мыслить надо и, главное, повторяю, делать что-нибудь общественное, полезное надо. Вот теперь кооперативное движение всюду, а мы спим да спим. Нельзя всецело погружаться в себя, в свои личные и мелкие интересы. Мы на заводе передовые люди, за нами стоят рабочие, большей частью тёмные. Мы и должны сделать что-нибудь для них. Нет, мы ушли в свои мелочи и забылись! Разве это не сон – жизнь без мысли, без деятельности? Разве нормально играть в карты, просиживая целые ночи, а днем ходить, как угорелым? Мы интеллигенты, нам «много дано», на нас лежит обязанность «делать дело». Но мы ничего не делаем… Ленивые рабы, зарывшие таланты в землю!
Вопрос общественной розни и бездеятельности для нее был близким и больным. Заговорив на эту тему, он коснулся самых чутких струн ее души. И она сочувственно заметила:
– Да, это правда. Глушь и яма у нас.
Он, поощренный этим, с увлечением продолжал:
– Глушь и яма. Рознь у нас страшная. Это наш бич. Вот, например, мы с Глушковым служим вместе, делаем одно дело, а какой страшный между нами антагонизм! Он исповедует принцип: «нанялся – продался». Скажите, разве обязательно нужно быть таким слугой капитала, что ради него должно забыть все, что с детства внушалось, что и сам считаешь священным? Служишь, или работаешь – продаешь ум, знание, силу, но не продаешь свою честь, свои убеждения. Не так ли?
Под впечатлением его страстной речи, впервые услышанного в мертвой глуши живого слова она встрепенулась, как разбуженная от сна, и с чувством безграничного доверия к нему начала сама высказываться.
– Это вопросы серьезные, но, мне кажется, вам труднее разрешить их не в теории, а на практике, в жизни.
– Да, в жизни труднее, особенно в нашей трясине….
– Я уже давно подметила, что вы, скажу откровенно, не подходите к среде, окружающей вас.
– Я это чувствую. Удирать нужно отсюда. Здесь. меня все как-то давит и гнетет…
И он вдруг, спохватившись, тревожно произнес:
– Я слишком заговорился. Извините, Мария Васильевна, что занимаю вас таким, может быть, для вас неинтересным разговором. Невольно как-то вышло…
Это извинение ей не понравилось и даже кольнуло ее самолюбие, как женщины чуткой и не зарывшейся только в пучине мелких домашних дел и интересов. Беседуя, как ей казалось, с человеком, ее понимавшим, захваченная искренностью речей, она почувствовала потребность высказаться больше, полнее и заявила:
– Как видите, с удовольствием слушаю. Разве со мной нельзя поговорить серьезно! Сознаюсь, когда оканчивала гимназию… Эх, какое это было время! Сколько было стремлений, желаний, волнений!.. Да что вспоминать? Скажу только, что и теперь живы во мне те чувства, и я не люблю эту жизнь… Почти задыхаюсь в этой атмосфере… А Ваня? Когда мы с ним встретились, то в нем было много порывов, огня, была жажда знания, было желание работать, приносить пользу. Он был намерен продолжать образование, я – тоже… Но теперь… Эти карты, эта выпивка, эти люди, тупые, без жизненных интересов, без мысли погрузили его в тину, в которой давно сами погрязли… Он, несмотря на мои протесты и увещания, превратился в буржуа, опустился… И у нас с ним мало общего, мало говорим, почти нет духовной жизни. Но что станешь делать?
Наступило минутное молчание. Она поникла головой и думала о своем невыносимом положении. Он почувствовал глубокую нежность и доверие к ней. Прежде она была ему симпатична только внешним обликом, а теперь он увидел в ней близкую и родную душу. Огневое чувство пробудившейся любви охватило его. Как пылкий юноша, он был не в силах противостоять порыву. В затуманенной страстью голове мгновенно созрело смелое решение. И он, не раздумывая, сказал:
– Нужно найти выход… Боюсь сказать… Но вы поймете…
– Есть, знаю… Но пока… Впрочем, скажите…
Он немного смутился, но, быстро овладев собой, просто и прямо ответил:
– Вы знаете меня… Я знаю вас… Мы можем… сумеем… понять друг друга… Уедемте отсюда… ну, на Кочкарь, что ли…
Это неожиданное предложение ее удивило и взволновало. В первую минуту она не знала – верить ли тому, что услыхала. Они сразу умолкли. Он сидел, слегка побледневший, и наблюдал за ней. От его внимания не ускользнуло, как она нервно поводила бровями, как по ее лицу разлился густой румянец, как высоко вздымалась ее грудь, как она поднимала и опускала стыдливые взоры, точно боясь взглянуть на него. Он ни о чем не думал, а только с нетерпением ожидал ее ответа, готовый, если она не отвергнет его предложение, упасть на колени и целовать ей руки. Но она упорно молчала. Кроме удивления и смущения, ее охватило еще какое-то смутное, томительно-приятное и робкое чувство. Ей казалось, что внезапно налетела какая-то волна, подхватила ее и несет куда-то, не давая ей опомниться. Ова забыла о муже, о свекрови, обо всем, а только старалась понять, какое чувство овладело ею, и думала о том, как ей поступить. И вдруг, не решив еще ничего, она тихо сказала:
– Нет, это не то!
Он вздрогнул, как от укола, воззрился на нее и хотел что-то сказать, но осекся.
В комнату внезапно вошла Олимпиада Алексеевна и, метнув на него недружелюбный взгляд, обратилась к снохе грубо-крикливым тоном:
– Сходи на кухню – посмотри творог.
При этих словах им казалось, они упали в бездну. Мария Васильевна, не глядя на свекровь, тихо ответила:
– Хорошо.
Юношев, с пылавшим лицом, оробевший, не считая возможным больше оставаться, встал, тихо простился и поспешно ушел.
– Наконец-то уходит! – сердито проворчала ему вслед старуха и ушла обратно.
Мария Васильевна, встревоженная, трепещущая и вместе с тем настроенная так, как будто в ее душу заглянуло солнце и спугнуло царивший там мрак, долго ходила по комнате и все думала:
«Что это он? Неужели обдуманно и серьезно? Все-таки это не то, что мне нужно… Хотя у него живая душа и он близок мне по духу».
III
Все время, пока Юношев с Марией Васильевной сидели в столовой, Олимпиада Алексеевна стояла в соседней комнате около двери и подслушивала разговор. Но по старческой глухоте из целых фраз улавливала только бессвязные слова и была не в состоянии их понять и осмыслить. Утомленная и озлобленная долгим и безрезультатным подслушиванием, вся кипевшая гневом, придумала повод к прекращению беседы и, когда ей это удалось, уходя из столовой, торжествующе ворчала:
– Теперь выпроводила, а на другой раз совсем не пущу. Скажешь сыну – смеется. Это, говорит, по-вашему, по-старушечьему, не годится, а по-нашему, по-современному, так следует. Как так следует? Нет, подожди, еще поговорю!
При этом, угрожая мысленно, инстинктивно грозила в воздухе пальцем.
Вскоре к ней явилась соседка, теща заводского смотрителя Глушкова, толстая, как бочка, с жирным лицом, седая старуха, Анна Ивановна, с которой они всегда делились свежими сплетнями.
Олимпиада Алексеевна была рада поболтать с приятельницей и, приветствуя ее, мягко и вкрадчиво говорила:
– Милости просим, Анна Ивановна! Садитесь. Давненько не заглядывали к нам.
Гостья села и начала объяснять:
– С внучатами вожусь. Глаз и глаз за ними нужен. Подрастают. Балуют. Нельзя без присмотра оставить.
Олимпиада Алексеевна, все еще кипевшая гневом к Юношеву и Марии Васильевне, выслушав ее, разразилась тирадой:
– Счастливы те, у кого есть дети. У нас – никого. Поповна и не знает, что ей делать. За хозяйством не смотрит. Книжки читает. Вот Юношев был. С ним чуть не час высидела. Разговоры какие-то. Не глядела бы!..
При упоминании имени Юнюшева Анна Ивановна вспыхнула негодованием.
И обе старухи с жаром начали злословить:
– Юношев был? Голубушка, остерегайтесь! Опасный человек. Речами засыплет, ульстит, проведет. Он – политика. Зять вместе с ним служит, так знает…
– Да, уж видно его сокола по полету. Я его на порог бы не пустила. Сынок-то слушать не хочет. Ты, говорит, стара стала и ворчишь.
– Хоть стара-стара, а хочу добра. Вот что ему скажите. Юношев – опасный человек. Не водитесь с ним.
– Вот поговорю еще сыну.
– Поговорите. Опасный человек. Добра не будет. В политику замешает. Да и снохе-то нечего с ним лясы точить. Разврат, увидите, разврат…
– И я то же говорю, да разве послушает!
Обе немного помолчали.
– А что она у вас варит варенье-то?
– Нет. Где ей! Некогда. Музыка да книги. Только и дела!
– Так… А у нас уже четыре банки наварили: вишневое, смородиновое, земляничное… Нина платье шьет… Голубое, грудь открытая, со шлейфом. Отделает стеклярусом… Прелесть!.. Целых полсотни вскочит.
– А у Елизаветы Ивановны новое-то платье двести рублей стоит.
– Ну, так ведь она – управительша.
– Да… Что поделываете?
– Вяжу. Здоровье-то скверное. Плохо вижу.
– А мы все шьем. Ребят одеваем.
И гостья вдруг, вспомнив о своих домашних обязанностях, озабоченно залепетала:
– Ой, засиделась! Пойти надо. Ребята расшалятся без меня. Засиделась!
Олимпиада Алексеевна попыталась ее задержать:
– Посидите. Редко ходите. Поговорим.
Но Анна Ивановна решительно заявила:
– Нет, пойду.
И, тотчас же простившись, направилась к выходу, но еще остановилась около двери и сообщила несколько заводских дрязг и только после этого уже ушла.
Олимпиада Алексеевна, довольная тем, что отвела душу, оставшись одна, сидела и думала: «Вот и другие то же самое, что я, говорят об этом хлыще. Поговорю еще с сыном. Поймет, не поймет – все равно».
И, вспомнив о кухне, отправилась туда, чтобы покричать на подвластных ей кучера или кухарку.
Но, столкнувшись в столовой с Марией Васильевной, снова набросилась на нее с упреками и бранью.
Мария Васильевна долго терпеливо выслушивала ворчание свекрови и, наконец, истощив запас терпения, схватилась руками за голову и выбежала во двор.
Ясный полдень дышал зноем. Под навесом важно расхаживали пестрые индюшки, а около них прыгали и чирикали воробьи. Слышалось непрерывное гудение завода, и откуда-то доносимся лай собаки. В вышине сиял клочок глубокого голубого неба.
Мария Васильевна села в тени на завалинку дома. Сердце ее сжималось и ныло от обиды. И у нее невольно, вместе с хлынувшими из глаз слезами, сорвалось с уст:
– И вчера, и сегодня, и завтра – одно и то же: пьяный муж, злая свекровь, сцены из-за папирос, из-за творогу! Точно кошмар какой-то… Эх, как хочется разбить все это!
И она плакала, чувствуя, как слезы и тишина облегчают душу.







