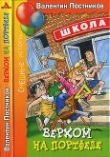Текст книги "Пора в отпуск"
Автор книги: Павел Гушинец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Полиглот
Поехали мы с женой как-то в соседнюю страну. В ту, где холодное море, песчаные дюны, сосны и вкусные драники, которые оценит даже коренной белорус. Погуляли по старинным узким улочкам города, проголодались и сели на террасе кафешки этих самых драников вкусить. Сидим, прохожих разглядываем, заказ ждём. И тут у жены телефон звонит. Работает она в международной транспортной компании. Вот заказчики и не дают покоя даже на выходных. Как всегда где-нибудь в Падуе застряла фура, а без Юльки они ничего решить не могут.
Жена уходит в мир транспортных перевозок, а я вдруг слышу за спиной что-то занудное по-английски. Поворачиваюсь. Стоит мужичок потрепанного вида и просит что-то, судя по интонации. А я английский в школе плохо учил. Лондон из зе кэпитал, это помню. И больше ни в зуб ногой. Под пытками спроси, чем Презент Континиус от Индефинита отличается – помру, но не скажу. А человеку, видимо, помощь нужна.
Тут заказчик по телефону Юльку достал, и она выдала ему длинную фразу на итальянском. Мужичок тут же почти без запинки переходит на итальянский. Тон у него не меняется, но на языке Адриано Челентано звучит жалобнее.
Жена делает страшные глаза и отворачивается. Я обращаюсь к мужичку.
– Слушай, дорогой, я и рад бы помочь, но не понимаю тебя.
Мужичок делает секундную паузу и тут же продолжает по-русски:
– Попал в тяжёлое положение, помогите Христа ради.
Дал я ему пару монеток. Мне языки так и не дались, а он вон как шпарит. Талант надо поддерживать.
Стоматологические ужасы
Я до дрожи в коленках боюсь стоматологов. И мне не стыдно, ничуточки. Я так их боюсь, что после медучилища поступал на стоматологический факультет. Не поступил, ну и хорошо, а то мучился бы сейчас на нелюбимой работе. У меня есть несколько знакомых стоматологов, среди них милейшая девушка Ира, которая в жизни очень мне нравится, и если бы она не была женой моего друга, то я бы… Но стоит Ире надеть кошмарную маску и прозрачные защитные очки, склониться надо мной с орудием пыток в руке – стоматологическим буром, как душа моя уходит в пятки. Наши отношения пережили одну лёгкую пломбу. Больше я Иру так близко к себе не подпускаю.
Каждые полгода я смотрю на себя в зеркало и говорю:
– Ты ж мужы-ы-ык! Ты, блин, офицер! Ты ж руководитель! Не пищать!
Это я себя настраиваю идти на профилактический осмотр к стоматологу. Там меня уже знают, поэтому готовят смирительную рубашку и общий наркоз. К стоматологу я хожу раз в полгода. Лучше предупредить очередную напасть, чем потом часами корячиться в кресле, обливаясь холодным потом, пока садистка с длинными ресницами чистит ваши каналы.
Короче, боюсь я стоматологов. Психологическая травма у меня. Спасибо отечественной медицине за наше подсознание. А было это в году 1997-м. Я – студент медицинского училища и санитар в небольшой районной больнице. На дворе тоскливый провинциальный конец девяностых. На улицах уже не стреляют, но новые кеды купить ещё не на что. Приходится зашивать старые. Стипендия, хоть и самая высокая, но копейки, зарплата санитара – немного больше стипендии. Короче, денег нет.
А тут просыпаюсь я с утра и понимаю, что у меня болит зуб. Ну, поболит и перестанет, неправильно решил я и поехал на учебу. Занятия у нас проходили в городской поликлинике и начинались с того, что мы всей группой сидели и крутили какие-то ватные тампоны. Это сейчас всё одноразовое. А тогда санитарка тащила в стерилизационную огромный куль ваты, всё это там прожаривалось до слегка коричневого цвета, а потом студенты сидели и накручивали вату на гнутую алюминиевую проволоку. Медитативное занятие, скажу я вам. Я этих тампонов накрутил – вагон. И сейчас, спустя двадцать лет, ими, наверное, пользуются в той поликлинике.
Сижу, вату накручиваю, а зуб, гад, болит. Дёргает, ноет, мучает. О том, что у вас есть зубы, вы вспоминаете только тогда, когда они начинают вас беспокоить. Вот я и вспомнил по полной программе. Сижу, морщусь. Но терплю.
А тут мимо проходит старший лаборант Анна Александровна. Милейшая женщина. Мы для неё все были «девочки и мальчики». Поила полгруппы чаем в подсобке и старалась отпустить пораньше. Видит моё перекошенное лицо:
– Что случилось? Живот болит? Таблетку дать?
Ох уж мне эти медики со своей прямотой. Я краснею. Одногруппницы хором хихикают.
– Да не живот, а зуб, – ворчу я.
– Бедненький, – Анна Александровна сегодня решила меня добить, девчонки ползают по столу от смеха. – Так иди к Маринэ Теймуразовне, я позвоню, чтоб она тебя без очереди приняла.
– А кто такая Маринэ Теймуразовна? – осторожно интересуюсь я.
– Это заведующая нашей стоматологии. Очень хороший специалист, – улыбается Анна Александровна. – Две секунды – и будешь ты в порядке. Звонить?
А зуб, зараза, болит. И платный стоматолог стоит столько, что для меня это просто фантастическая сумма. Мне казалось, что дешевле квартиру у нас в райцентре купить, чем в платную клинику наведаться.
– Звоните, – говорю. А у самого уже коленки подрагивать начинают.
Анна Александровна позвонила. И радостно сообщает мне:
– Повезло. Она как раз сейчас не занята, чай пьёт. Примет тебя.
Лаборантка покопалась в глубинах стола, выудила оттуда шоколадку и протянула мне.
– Вот, отдашь стоматологу.
– Анна Александровна, – растерялся я.
– Бери, бери, – нахмурилась лаборантка. – А то я не знаю, какая у вас, дети, стипендия. Вон, кеды рваные.
Ох, дались всем мои кеды. Да куплю я новые, куплю! Зарплату получу и куплю. Вот только долги раздам.
Пошёл. Близость стоматологического отделения ощутил по запаху. Знаете, такой непередаваемый запах боли, мучений, страданий и чего-то стоматологического. Если есть на том свете преисподняя, то там пахнет именно так. Стучусь в кабинет.
– Заходи, дорогой.
Судя по акценту – мне сюда. Робко толкаю дверь. Посреди кабинета – кресло пыток. Рядом – могучая женщина, мечта поэта. Рукава халата закатаны, открывают мускулистые руки, покрытые короткими чёрными волосками. На столике перед ней – набор орудий пыток на железном подносике и чашка с чаем.
– О, шоколадка, – радуется Маринэ Теймуразовна. – Как раз к чаю. Садись, сейчас посмотрим, что там у тебя.
Опускаюсь на скрипнувшее кресло и со страхом смотрю по сторонам. Зрелище тоскливое. Пол в мелкую бежевую плитку, которая от времени кажется грязноватой и полустёртой. Плитки темнели по-разному, получилась мозаика. Пятьдесят оттенков бежевого. Возле умывальника в углу потёки ржавчины, штукатурка в трещинах, щели под оконными рамами забиты ватой и газетами. Родная районная поликлиника. До сих пор в кошмарах снится.
Маринэ Теймуразовна допила чай и повернулась ко мне.
– Открывай рот.
Я отлично понимаю чувства гладиатора, впервые выходящего из тени коридора под палящее солнце арены. С таким же чувством я открыл рот.
Стоматолог поковырялась у меня в душе острыми предметами, звякнула чем-то на подносе.
– Э-э, дорогой. Запустил ты зуб. Я тебе сейчас мышьяк положу. Нерв убьём. А через дня четыре придёшь – каналы чистить будем. Потерпи, ты же мужчина.
И взвизгнула бормашина.
Первый этап я перетерпел. Мне положили на зуб какую-то гадость, от которой я потом три дня не спал. Зуб сопротивлялся, не хотел умирать. Челюсть дёргало. Анальгин спасал плохо. Выпил водки – лучше не стало, ещё и голова с утра болела. Через четыре дня я снова пришёл к своей мучительнице.
– А, дорогой, заходи! – искренне обрадовалась мне Маринэ Теймуразовна. – Показывай.
Снова на арену!
– Ага, ну хорошо. Слушай, у меня обезболивающее кончается. Но ты же мужчина, потерпишь? – склоняется надо мной Маринэ.
Не потерплю! Во мне кто-то предупреждающе вопит. Но признаться в этом стыдно и я едва заметно киваю.
– Вот и хорошо! – одними глазами улыбается стоматолог.
Дальше я помню плохо. Милосердный мозг стёр из ячеек памяти эти ужасы. Я вцепился в подлокотники кресла так, что потом болели пальцы. Холодный пот пропитал майку на спине. Маринэ Теймуразовна с любопытством что-то расковыривала, потом дёрнула.
– Смотри!
А что смотреть? У меня глаза закрыты, чтоб не видеть всего этого кошмара.
– Смотри, говорю.
С трудом разлепляю веки. В пинцете зажата тонкая красная нитка.
– Вот, это нерв. Я его тебе удалила. Теперь не больно будет. Оказалось, у тебя в этом зубе два нерва. Один не умер. Ну ничего. Теперь каналы почистим и всё.
Я вытерпел два канала. На третьем мне стало хорошо, ангелы запели в моих ушах. И только ватка, пропитанная нашатырём, которую Маринэ ткнула мне под нос, вернула на грешную землю.
– Э, дорогой. Ты мне тут прекрати. Один канал остался, – нахмурилась доктор.
И я вытерпел ещё один канал. Вышел из кабинета стоматолога с перекошенным лицом, на подгибающихся ногах, Сил идти дальше не было. Я присел на скамеечку прямо у дверей, упёрся спиной в стену и прикрыл глаза. Стена через пропитанную потом майку неприятно холодила спину. Я клялся, что буду теперь чистить зубы три раза в день, по полчаса минимум.
Обещание выполнил. Но через три дня совершенно про него забыл. Маринэ Теймуразовна оказалась действительно хорошим специалистом. Её пломба выпала почти через пятнадцать лет вместе с осколками зуба.
А через десять лет после свидания с грузинским стоматологом у меня снова заболел зуб. Я был уже взрослый товарищ, окончил медицинский университет, поэтому терпел всего неделю. А когда терпеть стало невозможно, собрал остатки зарплаты и пошёл в платную клинику.
Вижу – сидит молодая рыжая девчонка. Симпатичная, даже под маской видно.
– Садитесь, – говорит.
Сделали мне снимок, посмотрели.
– Надо, – говорит, – каналы чистить.
Я сразу Маринэ Теймуразовну вспомнил. И заранее в обморок упал.
– Мышьяк будете закладывать? На неделю?
– Это каменный век, – морщится девушка. – Мы вам сейчас обезболим и минут за двадцать всё сделаем.
Побрызгала лидокаином, потом в уже обезболенную десну мягко кольнула шприцом.
– Всё хорошо?
Конечно, всё хорошо. Я же ничего не чувствую. Челюсть онемела до самых пяток. Только страшно, блин. Я моргаю.
– Вот и замечательно. Начнём.
Бормашина взвизгнула и тут дверь открылась и в кабинет зашла точная копия моего доктора. Такая же рыженькая и симпатичная.
– О, Наташка, привет, – обрадовалась доктор. – У тебя пациентов нет?
– Нет, – говорит Наташка. – Вот пришла к тебе, а то скучно.
– Садись, поболтаем, – доктор глянула в мои ошалевшие глаза. – Да близнецы мы, близнецы. Все удивляются. Рот открывайте.
У вас когда-нибудь были эротические фантазии на тему двух девушек-близняшек? Вот у меня с тех пор их нет. Потому что стоматология, особенно под лошадиной дозой обезболивающего да в присутствии двух мило воркующих рыженьких нимфеток, это почти секс. Я лежал и получал физическое удовольствие, от того, что мне не больно. Ну почти не больно. Я теперь отлично понимаю жертв Кристиана Грея.
Ехал потом в метро, из уголка рта слюни текут, лица не чувствую, но улыбаюсь, как идиот. Люди отсаживались от меня подальше.
А Маринэ Теймуразовне спасибо. Она отличный специалист.
А стоматологов я всё равно боюсь.
Школьный боевик
Прочитал недавно в новостях, что учителям в школах Флориды разрешат носить с собой оружие. Для защиты школьников от террористов и преступников, а заодно от учеников, которые могут устроить очередную бойню. А под статьёй десятки комментариев, мол, довёл Трамп Америку, и школьники там сумасшедшие, расстреливают товарищей, и без вооружённой охраны школам никуда. Короче, загнивает Запад полным ходом, у нас бы такое ни за что не случилось.
А я помню, как в 1986-м году не в далёкой Америке, а в тихом белорусском городке в мою школу пришёл вот такой киллер. Автомат или пистолет он тогда не достал, но вооружился чем смог.
Учился я во втором классе и занятия наши проходили на первом этаже, в отдельном коридоре, отгороженном от остальной школы стеклянной дверью. В той же школе учился мой сосед Мишка, парень старше меня лет на шесть, а поэтому авторитет непререкаемый. Ввиду отсутствия отца и старшего брата – образец для подражания и кумир. Спортсмен, пионер, заводила.
Кто в свои тринадцать поделился со мной первой сигаретой? Мишка. С кем мы подожгли деревянный заброшенный сарайчик? С ним же. Кто выломал окно подвала, чтоб детсадовцы могли играть там в «Детей подземелья»? Мишка. Кто научил меня ловить верёвочной петлёй голубей? Ладно, не помню, но мне кажется, что без него и тут не обошлось. Вела нас дорога приключений. Из нашего тандема, по мнению моей матери, не могло получиться ничего хорошего.
А в одном классе с Мишкой учился мальчик Гриша. Молчун и тихоня, замкнутый и слегка не от мира сего. Короче, готовая жертва. Чем одноклассники и воспользовались.
Положа руку на сердце, стоит признать, что Мишка-таки был хулиган и задира. Учился не очень, спортом занимался много, да всё больше теми видами, где по голове сильно бьют. Однако Гришу он особо не обижал. Это была для него слишком мелкая рыба. Он ведь лидер класса. Ему по рангу не положено. У Гриши была парочка постоянных обидчиков. Фантазией те не отличались. То книги разбросают, то в портфель воды нальют, то на спину бумажку приклеят: «Пни меня». Ну и обзывания всякие, прозвища обидные. Классика.
Гриша терпел. На обидные прозвища огрызался, молча собирал книги, выливал воду из портфеля. Жаловался учителям. Обидчиков пару раз вызывали к директору, но это когда-нибудь помогало?
А как-то по весне сидели восьмиклассники в кабинете химии. Скучали в ожидании окончания лабораторной работы, смотрели в окно, на пробуждающуюся природу. И вот от этой скуки обидчики решили над Гришей поиздеваться. Учительница как раз зачем-то вышла, а два малолетних дебила набрали в банку воды, да и плеснули Грише на школьные брюки.
Девчонки хихикают, обидчики довольны. А Мишка возьми и ляпни:
– Ты, Гриша, до восьмого класса доучился, а штаны намочил, как в детском саду.
И ведь не со зла ляпнул, пошутить решил, перед девчонками выпендриться и ситуацию сгладить. Но для Гриши это стало последней каплей. Как потом оказалось, имелись у него проблемы в психической сфере, а тут весна, обострение. Ещё и Мишка со своей глупой шуткой.
Гриша встал, пнул портфель и ушёл под гогот одноклассников.
Ну ушёл и ушёл. Удивило это только вернувшуюся учительницу, которая отметила в журнале отсутствие ученика.
А ушёл Гриша не просто так. Вернулся домой, достал из шкафчика на кухне топорик для рубки мяса (был такой в каждой уважающей себя советской семье), заткнул за пояс полдесятка ножей разных размеров, захватил молоток и пошёл Мишку убивать.
Наверное, не стало бы у меня в тот день соседа. Затаился бы Гриша в засаде и рубанул с плеча. К счастью, вооружённого до зубов ученика заприметила бабушка-вахтёрша с первого этажа школы. Прямо с вахты позвонила директору. А тот видно в курсе был Гришиных проблем, потому что по внутришкольному радио объявил в школе панику.
Учителя сработали слаженно. Учеников мигом разогнали по классам, двери завалили партами и прочей мебелью, закрыли на ключ, подпёрли швабрами, забаррикадировали, как могли.
Нас, второклашек, заперли в отдельном коридоре. Учительница держала оборону возле стеклянной двери. Если бы Гриша рванул в наш коридор, она вряд ли бы устояла. Но начальные классы мститель проигнорировал и прямиком направился убивать обидчика.
В кабинете химии уже никого не было. Урок давно закончился. Киллер с досады расколотил окна молотком, прошёлся по лабораторной посуде, досталось портрету Менделеева и его знаменитой таблице, которую искренне ненавидит уже не одно поколение школьников. Ворвался в лаборантскую, захватил бутылку с серной кислотой. Прибавил её к своему арсеналу.
А Мишка всю суматоху пропустил. Курил за забором школы с корешами. Вернулся перед уроком, а коридоры пустые, классы заперты. Школа будто вымерла. Война что ли?
И тут в другом конце коридора показался Гриша. Увидел обидчика, заорал, поднимая над головой топор. Мишка соображал быстро, а бегал ещё быстрее. Поэтому следующие полчаса держал запыхавшегося киллера на расстоянии от своего драгоценного организма. Бегал от него по коридорам, ещё и орать что-то провоцирующее не забывал.
Гриша выдохся. Был он парнем неспортивным, слабым здоровьем. Устал. Бутылку с кислотой разбил, нож потерял. А обидчик маячит перед носом, недосягаемый. Обидно.
Между тем на телефонный звонок испуганного директора в школу примчалась небывалая сила – два милиционера на жигулях с мигалкой. Переговоры с террористом вести не стали. Выловили в одном из коридоров, с размаху дали дубинкой в лоб и разоружили.
Потом, конечно, был скандал. Мишку исключили из пионерской организации, Гришу выперли в школу для «особенных» детей. А вот основные обидчики аутсайдера отделались лёгким испугом. Кстати, основное отличие от современной школы. За этот инцидент не уволили директора, никто из преподавателей не пострадал, даже с химички премию не сняли.
Так что теперь, когда я смотрю по телевизору про очередной расстрел в американской школе, вспоминаю топот ног одинокого подростка по коридорам, тень с топором на хрупкой стеклянной двери, испуганную толпу первоклашек и то, как молилась юная учительница начальных классов, комсомолка и атеистка до того памятного весеннего дня 1986-го года.
Синие цветы
Отец умер так внезапно, что Катя и на похороны не успела. Пока древние старушки-соседки отыскали её телефон, пока начальник решал отпустить ли её с работы в самом начале сезона заказов, пока билеты на поезд покупали. Приехали, когда отца уже опустили в яму на окраине сельского кладбища. И даже торопливая осенняя травка на холмике пробиться успела.
Катя поплакала над свежим крестом, пахнувшим сосновой стружкой. Витька стоял в стороне, скучал. Но приличия соблюдал. Тестя он видел редко, поэтому сейчас ничего, кроме этой самой скуки, не чувствовал. Походил вдоль ограды, почитал имена на соседних надгробиях. Заметил интересную закономерность. В деревне жила когда-то большая семья. На половине сельских надгробий стояла одна и та же фамилия «Дубина». Причём на старых, замшелых надгробиях, тех, что установлены до 1939-го, фамилия писалась «Дубино». Потом пришли русские, выдали документы. Советский чиновник-паспортист то ли перепутал, то ли нарочно перекроил «ДубинО» в «ДубинА».
– Кать, пошли что ли?
Катя встала, утёрла слёзы платком, отряхнула юбку.
– Пошли.
Молча поднялись по косогору. Витька сопел и ворчал насчёт машины. Он непременно хотел приехать в деревню на машине, показаться незнакомым местным, похвастаться. Но Катя уже взяла билеты на поезд и муж неохотно уступил.
Шли по знакомой с детства тропинке, мимо избы тётки Марфы, у которой была корова, куда каждое утро бегали за молоком.
– Катя, к тётке Марфе!
Хватаешь авоську, мокрую скрипящую трёхлитровую банку, только что помытую матерью. Бежишь сквозь крапиву, и она жжёт босые ноги. А тётка Марфа уже подоила, достаёт застиранную марлю, метко льёт из ведра в банку. И отдельно наливает в стакан.
– Попей, Катенька. Полезно парное.
Молоко пахнет коровой, пузырится. Катя закрывает глаза и одним махом осушает стакан. Вытирает молочные усы. Тётка Марфа смеётся. Своих детей ей Бог не дал, вот и стоит теперь её избушка пустая, тёмная, покосившаяся. Крапива в рост человеческий вымахала, окна закрывает, на огороде, когда-то аккуратном и прополотом, – бурьян да лопухи. А сама тётка Марфа где-то там, на погосте, там же, где теперь и отец.
Дом колхозного сторожа дяди Григория. Тоже слепой, почерневший. Крыша провалилась. Дядя Григорий энтузиаст был. Ездил по стране, привозил в свой сад какие-то диковинные саженцы, переписывался с садоводами из Прибалтики, Средней Азии. Росли у него южные персики, виноград, в парнике желтыми мячами лежали дыни, а уж после таких чудес редкостные яблоки-груши и разговора не стоили. Даже как-то корреспондент приезжал районной газеты, заметку про дядю Григория писал. «Мичурин из села Н.». Так себе фантазия у корреспондента, недолго думал над названием.
По осени дядя Григорий ведрами выставлял урожай за ворота – берите, кто хотите. И детвора со всего села сбегалась трескать эти огромные сладкие яблоки, хотя у самих под окнами яблони до земли клонились. Сейчас и следа не осталось от этого чудесного сада. Торчит из бурьяна какая-то кривая сухостоина, да гниют на земле поваленные ветром яблоневые стволы.
Дом тёти Светланы. Заколоченный, но подкрашенный, забор целый. Дочка тёти Светланы, схоронив мать, продала дом каким-то дачникам. Те первым делом сбросили со столба аистиное гнездо. Мол, от птиц мусора много, шума, весь двор загадили. Аисты гнездились у тёти Светланы лет пятьдесят. Прилетали каждую весну из чужой Африки, радостно щёлкали клювами, танцевали. Катя маленькая вместе с дочкой Светланы бросали им хлебные корки. Аисты из вежливости брали.
Когда гнездо разрушили, тоже прилетали. Постояли, глядя на разорённый свой дом, и улетели. Унесли прочь счастье.
Вот и родительский дом. Над кустами одичавшей сирени торчит серая шиферная крыша с высокой трубой. Катя даже приостановилась, не решаясь сделать следующий шаг.
Сколько не была здесь? Стыдно сказать. Года четыре точно. Всё как-то не хватало времени. Зимой думала: «Вот лето наступит и поеду». А летом – отпуск. Витька доставал путёвки в Египет или Турцию. Ехали. Потом надо было отрабатывать потраченные у моря деньги, входить в колею размеренной рабочей жизни.
Отец звонил раз в неделю. Дежурно отвечала, что всё хорошо. Работаю, устаю. Отец жалел, звал. Обещала, но так и не приехала.
Катя сжала зубы и шагнула. Присмотрелась – и ахнула. Защемило сердце, слёзы снова подступили к глазам. На стене дома распускались огромные и причудливые цветы синего цвета.
Ей было лет семь или восемь, ещё мама была жива, и бабушка тоже. В то лето, последнее по-настоящему тёплое и счастливое, отец достал синей краски и решил расписать стену цветами.
– Помогай, Катька!
И Катя помогала. Извозилась вся в синей краске, оставила на стене множество отпечатков маленькой пятерни. Мать принялась было ворчать, что пропал сарафан, не отстирать теперь. Но потом сама включилась в забаву. Увлеклась. И уже сама, улыбаясь, размазывала по одежде неряшливые пятна.
Если честно, отец рисовал не очень умело. Цветы у него получались кривоватые, каждый сам по себе. Зато от души. Прищурившись, с видимым удовольствием клал каждый мазок, смело закручивал завитушки стеблей. До вечера справились, сели чай пить и на стену смотреть. Этот чай Катя на всю жизнь запомнила. И стеклянную чашечку с вареньем из крыжовника. Целый куст этого крыжовника рос в углу палисадника. Ягоды мелкие, кислые, зелёные. Ветки злые, колючие. А варенье получалось отменное. Сидели, пили чай маленькими глоточками, разговаривали о пустяках. И хотелось тогда Кате, чтоб чай этот никогда не кончался.
Синие цветы отцу понравились. Он собирался каждое лето подновлять рисунок, стертый осенними дождями и зимними метелями. Но в мае следующего года умерла бабушка. А потом тяжело и надолго заболела мама. Цветы бледнели, стирались. Года три были видны их контуры, выведенные особенно тщательно. Тени прежних рисунков, бледные призраки их семейного счастья.
И вот они снова на месте. Такие же яркие и пёстрые. Руки отца подводили, глаз уже не был таким верным. Получилось ещё кривее, ещё нелепее, чем в первый раз. Или это взгляд у Кати стал другой. Взрослый.
После смерти матери отец крепился. Всё шутил, из кожи вон лез, чтоб убедить Катю, да и себя тоже, что они справятся, всё у них будет хорошо. Да только получалось у него не очень. Фальшиво как-то. Катя помнила тоскливые новогодние ночи у огромной, наряженной ёлки, когда отец созывал полный дом гостей и натужно веселился. И она делала вид, что ей тоже весело. А он делал вид, что верит. Так и обманывали друг друга год за годом.
Отец держался. Сколько Катя помнила, не пил, женщин в дом не водил, по вечерам с телевизором не пропадал. Участвовал в её жизни как мог, игры какие-то придумывал, уроки помогал делать, пытался заводить неуклюжие взрослые разговоры, которые смущали обоих. Сорвался только один раз. Уже лет пять прошло со смерти матери, как объявился её брат, дядя Серёжа. Личность легендарная, мифическая. Катя иногда и верить в его существование переставала. А иногда верила, как в Деда Мороза. Как этот самый дед дядя Серёжа напоминал о себе раз в году. То пришлёт откуда-то с другого конца света открытку с Че Геварой, то принесут посылку, а в ней осколки огромной розовой раковины, обложенные ватой. Работу деревенской почты раковина не перенесла, но и осколки были очень красивыми. И пахли далёким, чужим океаном.
И вот этот дядя Серёжа, про которого все забыли, вдруг объявился. Прислал телеграмму: «Людка, лечу домой, встречайте на вокзале в четверг, в 15.00. Везу вам с Катькой сюрпризы». Отец телеграмму получил, прочитал и тут же у порога осел. Почтальонша тётя Надя заохала, побежала к колодцу за водой. На отце лица не было. А дядя Серёжа ведь не со зла. Просто за всеми этими хлопотами отец забыл, что у покойной жены где-то там в Америках-Австралиях брат живёт.
Встречать поехали. Потом дядя Серёжа с отцом целый вечер пили. Пили молча, страшно, не чувствуя вкуса, опрокидывали в себя стаканами что-то драгоценное из красивой бутылки. Бутылка быстро кончилась – пошли к бабке-самогонщице. Опять пили. Утром дядя Серёжа уехал, хотя до следующего корабля у него целый месяц был. И никогда больше не приезжал, и не приходили от него подарки. Может, ему так легче было, а может, его в Африке крокодил съел.
Едва окончив школу, Катя выскочила замуж за Витьку. Поехала в сентябре в город поступать в швейное училище. Поступила, чего там было поступать-то. Диктант на пятёрку написала, считай, прошла по конкурсу. За этот диктант половина абитуриенток двойки получили. Спасибо учительше Наталье Степановне, что строгой была и придиралась.
Сели отмечать в общежитии с новыми однокурсниками-однокурсницами. Ну и вы знаете, как это бывает.
Витька наутро пошутил ещё:
– Я теперь, как честный человек, должен…
И всё такое. Ладно хоть так. Любви особой у Кати к Витьке не было. Стыдно за вчерашнее. Не знала, как отцу скажет, как в глаза ему посмотрит.
Отец браку противиться не стал, хоть было заметно, что Витька ему не понравился. Не понравился в первую очередь тем, что сразу же увозил Катю за тридевять земель. У него где-то на Севере работали родители и звали к себе, в тундру и вечную мерзлоту.
Кое-как училище окончила. Поехали.
Жили… никак. И счастья большого не было, и несчастьем не назовёшь. Витька быстро отрастил пузо, второй подбородок, подрастерял весёлость, зато приобрел привычку полеживать вечером на диване. Да ещё лицом покраснел – обморозился как-то в ноябре.
На северные деньги купили в городе квартиру. Катя шила в ателье. Витька слесарничал в автомастерской. Жили небедно. Чего не хватало, Катя и сама не знала. Может, детей? Ну бывает, не дал Бог потомства. Витька особо и не переживал, у него двоюродных племянников-племянниц с десяток. Насмотрится на детские слёзы-сопли и сам себе позавидует, что дома тишина. Он и сам у своих родителей единственный был. Конкурентов в родительской ласке не имелось, всё ему досталось. Поэтому о детях не заговаривал. Нет и нет. Квартира, вот, есть, машина имеется, жена работящая, не дура, не уродина. Оно и хорошо. Телевизор бы ещё побольше купить, но это уже в следующем году.
Катя не то чтобы смирилась. Привыкла. У подружек всё плохо. Разводы-алименты, мужья пьют, кое-кто и руку поднимает. А Витька если и выпьет, то в воскресенье, да дома под закуску. Покраснеет ещё больше, на полчаса станет прежним, весёлым, болтливым. А потом валится на диван и храпит. А поутру мается изжогой.
Подружки ей завидовали. Катя и сама иногда думала, что Бога гневит. Тоскливо? Так тоскливо, не значит плохо. Почти убедила себя.
И тут звонок. И эти синие цветы, распустившиеся на стене как в детстве. И вина. За то, что уже не вернуть. За то, что некому уже прощать.
Катя опустилась на ветхую скамейку у родительского крыльца. Слёзы душили.
Витька гремел чем-то внутри, ходил, открывая двери, лазил в подпол.
Вышел деловой, собранный.
– А что, хороший дом! – муж по-хозяйски хлопнул ладонью по стене и Катю вдруг покоробил этот его жест.
– Можно под дачу, – продолжил Витька. – Или продать. Тысяч пять дадут, не меньше. Только крышу подлатать, да пошлятину эту закрасить.
И он ткнул пальцем в цветы.
– Не трогай! – неожиданно резко и зло крикнула Катя.
Витька отдёрнул руку, как от огня.
– Ты чего?
– Ничего! – сквозь зубы процедила Катя. – Пошлятина! Что ты понимаешь?!
Развернулась и пошла прочь. Витька с удивлением посмотрел ей вслед.
– Правильно говорят, нету у бабы мозгов.
Пожал плечами и полез обратно в подпол. Смотреть, не подтапливает ли по весне.