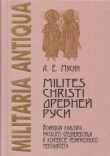Текст книги "Вопросы религиозного самопознания"
Автор книги: Павел Флоренский
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
B. – Нет, вино и хлеб реально и субстанциально пресуществились, то есть переменили свою сущность и стали истинным Телом и истинною Кровию Иисуса Христа.
А. – Конечно, это решающий пример. Можно добавить к нему вопрос о миропомазании?
В. – Да. Сюда же относится, например, крещение. Можно – хотя бы на театральной сцене – воспроизвести крещение со всею достижимою точностью, и это, однако, будет простой ряд чисто эмпирических действий. А в ином случае тот же самый ряд действий является таинством, принципиально разнящимся от представляемого на сцене и производящим в крещаемом мистическое изменение – возрождение. Человек до крещения тождествен для чувственного опыта с человеком после крещения, а все-таки они внутренне различны: в человека окрещенного внесено нечто, что не может быть обнаружено глазами или руками, не может быть усмотрено никаким опытом, и что, однако, является существенно новым.
A. – Да, действительно, по-вашему выходит это так, но неужели это можно принять? Мне представляется, что это некоторое reductio ad absurdum13, так дико звучит для меня подобная казуистика.
B. – Звучит дико и кажется странным единственно вследствие излишней привычки к исключительно чувственному опыту без достаточно критического отношения к нему.
A. – Но к чему же еще я могу быть привычным? Никакого другого опыта я не знаю. Разницу объектов я могу усматривать только одним методом, а не двадцатью.
B. – Это неправда, и я покажу, что у тебя есть иные методы усматривать разницу. Поставим даже вопрос шире: методы можно расположить лестницей, и чем далее стоит на ней данный метод, тем более глубокие разницы вскрывает он между объектами. Но чтобы заранее уяснить, в чем лежат или могут лежать различия объектов, которые не захватываются данным методом, я приведу простенькое сравнение. Представь себе, что у тебя имеется кусок стекла и кусок льда, отшлифованные одинаковым образом. На глаз эти куски, – если лед чистый, – почти неразличимы, и тебе может показаться, что кусок льда нисколько не интереснее, и не прекраснее куска стекла. Но, с точки зрения молекулярного строения, лед имеет над стеклом преимущество, подобно тому, как игра оркестра над базарным шумом. Во льду – музыка, в стекле – шум; во льду – стройность и упорядоченность, в стекле – хаос и беспорядок; во льду – организация, в стекле – анархия. Каждая частица стекла только для себя и, самое большее, толкается о соседние; целого нет. Во льду наоборот: тут каждая частица занимает в правильной ткани целого, в организации чудесного строения определенное, ей присущее место.
Но это различие внутренней структуры, являющееся как бы символом различия человека душевного от человека духовного, на глаз совершенно незаметно.
A. – Ты хотел от этого примера перейти к общему разговору о методах.
B. – Да.
Каждая наука отграничивает область своих исследований, создавая схемы своих объектов и пользуясь при этом известным комплексом признаков; последними и определяется объект данной науки как таковой. Если два каких-нибудь объекта разнятся между собою по одному или нескольким из тех признаков, которыми построяется объект данной науки, то мы можем методами и средствами, присущими этой науке, различить объекты. Если же окажется, что объекты разнятся между собою по признакам, не входящим в состав схемы объекта – схемы, построенной для данной, определенной науки, то методами и средствами данной науки объекты окажутся вполне неразличимыми. Допустим же, что в силу каких-нибудь условий, в которые мы поставлены, мы не можем применять никаких методов и средств исследования, кроме тех, которые присущи данной науке, то есть, предположим, что вследствие каких-то условий мы можем изучать данные объекты только с точки зрения нашей науки. Тогда объекты, заведомо различные, окажутся для нашего исследования абсолютно-неразличимыми. Так, например, те два куска – кусок льда и кусок стекла, – о которых была речь ранее, абсолютно неразличимы для геометрического исследования, так как оно не может войти в рассмотрение внутренней структуры тела. Пусть, далее, мы стоим на точке зрения механики и имеем возможность изучать только механические характеристики, определяющие некоторый объект. Тогда мы сможем определить форму тела, массу, момент инерции и так далее, но температура тела, электрическое его состояние, психические явления и прочее останутся для нас абсолютно незамеченными как таковые. Мы хорошо знаем, что два тела, имеющие все механические характеристики одинаковые, но температуры различные, разнятся между собою и, однако, методами механики уловить этой разницы никак не можем. Если же мы станем рассматривать наши тела с точки зрения физики, станем исследовать их методами и средствами, которые имеются у физики для изучения ее объектов, то разница двух тел, именно, разница их в отношении температуры, сейчас же усматривается и улавливается.
Точно так же методами физики мы не сможем отличить живого вещества от неживого. Если даже признать, что в живом веществе происходят какие-то, особые, сравнительно с неживым, физико-химические процессы, то даже и тогда мы не сможем различить живое от неживого, так как всегда можно мысленно подстроить такую систему механизмов – постулировать такого рода приспособления живого тела, что его, с точки зрения физики, можно будет рассматривать в этом отношении впредь как неживое. Только новые методы – не физические – позволят открыть разницу живого от неживого. Вот примеры случаев, где два объекта, неразличимые в чувственном опыте одной ступени, делаются различимыми для опыта в другой ступени. Это – случаи первого типа. К случаям второго типа мы можем отнести те, где два объекта, абсолютно неразличимые в чувственном опыте, каков бы он ни был, имеют, однако, различие для опыта внутреннего. В виде примера рассмотрим область нравственности. Вот, я дважды сряду совершаю один и тот же для внешнего наблюдения поступок, при одних и тех же обстоятельствах. Пусть оба мои действия как угодно приближаются друг к другу по своему внешнему выражению и по внешним условиям; в пределе они могут быть мыслимы абсолютно неразличимыми для стороннего наблюдателя. Всякий внешний опыт – опыт физики, биологии и так далее, – какими бы методами и средствами он ни пользовался, как бы ни был тщателен и точен, – он откажется усмотреть разницу между двумя действиями. Со своей точки зрения такой опыт не может не признать их тождественными. И, однако, эти два поступка по существу разнятся между собою. Один – нравственный, другой – безнравственный. «Посему не судите никак прежде времени, – говорит Апостол, – пока не приидет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения…» (1 Кор. 4, 5). «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет; потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Кор. 3, 13).
«Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» (1 Кор. 2, 11).
A. – Последнее мне не совсем ясно. Быть может, ты объяснишься?
B. – Если хочешь… почти каждый человек с самого детства подчиняется нравственным и гражданским законам, по крайней мере не делает очень заметных уклонений от них. Всякий старается слыть искренним, всякий ищет славы справедливого. Да и кто захотел бы предстать в обществе in naturalis14, сняв с себя все покровы, если бы это повлекло за собой неприятности? И, действительно, почти все кажутся искренними и справедливыми, как будто они были такими в глубине сердца. Злой и добрый, душевный и духовный – каждый человек, если он не желает прослыть человеком ненормальным или преступным, живет, в общих чертах, так же как и другой. Разница главным образом не в способах действования, а в интимных пружинах действий – мотивах. Человек душевный не выходит из нормы, потому что у него есть опасения заслужить наказание или приобрести дурную славу, есть те или иные почести, которых он может лишиться, ради которых он лицемерит; если бы душевные люди не боялись законов и наказаний, если бы не дрожали за потерю своей репутации, своих почестей, своего состояния, одним словом, если бы внешние связи перестали вынуждать их к исполнению дела Божия, то эти люди, не имея внутреннего сознания своего мирогражданства, своего назначения в историческом процессе, своей связанности с единым организмом Церкви, не зная любви к Богу и становящемуся телу Христову, не желая переносить центр своего бытия в Абсолютное и утверждая ось мира в себе и в своих прихотях, – эти люди сорвались бы со сдерживающей их цепи, обманывали бы и грабили других, обижали и убивали, потому что делать все это для человека, безумеющего при внутреннем, волевом отрицании Абсолютного, не только выгодно, но и само по себе приятно, привлекательно. Попробуй тогда очеловечить и обобразить такого. Но, покуда пшеница и плевелы растут вместе и связаны эмпирическою действительностью, они не могут развернуться вовсю и для эмпирического наблюдения делают приблизительно одно и то же. Только духовный человек, внутренне утверждая Бога и открываясь для Его воздействий, тем самым делается уже сознательным проводником Божественных сил, живым органом тела Христова, исполняющим с радостью свою функцию. Такой не живет для себя и не умирает для себя; живет ли, умирает ли, – для Господа умирает (ср. Рим. 14, 7–8). Вот почему такой может сказать: «Мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). Вот почему такой человек имеет право заявить: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Тал. 2, 20).
Общие основания для законов нравственности и общественности выражены в десяти заповедях. Нетрудно проверить, что так называемый порядочный человек, то есть не слишком уклоняющийся от среднего душевный человек, своею внешнею жизнью живет более или менее согласно с этими предписаниями, равно как и духовный. Он оказывает знаки почтения Богу – ходит в церкви, произносит молитвы, слушает проповеди, крестится, делает благочестиво-торжественную физиономию, постится – все, как у человека духовного; далее, он не делает преступлений, то есть не крадет, не дает ложных свидетельств, не убивает, не отнимает силою или хитростью имущества других людей и так далее. Однако все это делается из мотивов, не имеющих с любовью к Богу ничего общего, из мотивов внешних, чтобы казаться в людях праведным, чтобы пользоваться влиянием, чтобы иметь власть. Он не убивает; но тысячу раз умер бы каждый, мешающий ему в его намерениях, если бы желание отправить к черту убивало; если бы этот человек не был связан страхом законов, боязнью общественного мнения, если бы он не предвидел неудачи, то, наверно, враг, становящийся поперек дороги, был бы давно истыкан и исполосован ударами ножа, зарублен топором, прострелен или отравлен.
О, если бы можно было сжечь ненавистью, с каким медлительным сладострастием поджаривал бы он своего противника на злобно-пылающем пламени жестокости! С каким ликованием отравил бы он его ядами язвительных слов, оледенил бы ему кровь ехидной изысканностью холодных сарказмов! Этот человек никого не убил, но он – постоянный убийца.
Да, он не совершает прелюбодеяний; но он досадует на свою «чистоту». Если бы не эта проклятая гласность! Он не ворует, никогда не воровал. Однако он зеленеет и трясется от зависти, глядя на чужое добро, двадцать раз в день негодует на общественные порядки, которые помешают ему украсть безнаказанно. Он не крадет, но, однако, в сердце своем совершает кражу за кражей, и потому он – постоянный вор.
А. – Этот «нравственный человек» уже когда-то говорил о себе. Не помнишь ли?
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Много было разных событий, где он «никому не сделал зла». Вот, для примера, одно из них:
Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был, как чаша,
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью…
Живя согласно с строгою моралью.
Я никому не сделал в жизни зла.
В. – Это – еще не почувствовавший и не сознавший ясно, что даже такая «добродетель» стесняет его. Но знаешь ли ты, как мучают внешние узы человека, сознавшего их! Его «праведность» делается тяжелым бременем и жестоким игом. Помнишь ли ты сьера Клубена у В. Гюго? Помнишь ли ты, как этот «честнейший человек на всех морях», артистически лицемерящий, рассчитывающий свою игру до последней мелочи, все ставящий на карту, чтобы создать себе репутацию честнейшего, ждет не дождется той минутки, когда он нагло насмеется над поверившими ему, когда он сможет сбросить с себя маску, и ликовать, и упиваться преступлением, ради которого он столько времени был «честен». «Тридцать лет носил он маску лицемерия. Он ненавидел добродетель. Он был чудовище в человеческом образе. Он был пленником честности; как мумия в гробу, он заключен был в оболочку невинности, общее уважение подавляло его. Слыть честным человеком ужасно. Часто он улыбкою скрывал скрежет зубов. Добродетель душила его, и всю жизнь порывался он укусить руку, зажимавшую ему рот; между тем он должен был целовать ее… Он всем мил, и потому всех ненавидел. Наконец-то час его пробил. Он мстил. Кому? Всем и за все… Он мстил всем, перед кем должен был притворяться. Всякий, кто думал о нем хорошо, был его враг…» (В. Гюго).
Только вдумавшись в то, что это такое – добродетель без любви к Богу, постоянной заполненности всего существа Абсолютным, можно понять, что слова Апостола, столько раз цитировавшиеся, не есть чрезмерное и жестокое требование, а – выражение основного факта этической жизни, – условие, не откуда-то извне налагаемое на человека, а вытекающее из собственной его природы. Вот это условие всякой жизни по правде.
«Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 1–3)[3]3
В подлиннике все это место есть «Гимн любви», написанный стихами; русский перевод соответственным размером и указания на ритмичность см. у Муретова («Новозаветная песнь любви…») в «Богословском вестнике» (1903, № 11 и № 12).
[Закрыть].
Но никакие внешние признаки не обнаруживают с достоверностью, имею ли я любовь или нет; никакой чувственный опыт не покажет, в силу чего я поступаю так, как поступаю, в силу чего я работаю над собою всячески, занимаюсь всевозможною помощью другим и общественною деятельностью, делаю, по-видимому, всё и кончаю жизнь мученичеством – на костре. Никакой чувственный опыт не обнаружит, медь ли я звенящая и кимвал глухо бряцающий или же сознательно функционирующий орган тела Христова. Но, между тем, эта эмпирическая неразличимость прикрывает собою существенное различие, а оно может быть усмотрено только самонаблюдением или какими-нибудь иными путями, но не опытным, если брать слово в обычном, чаще всего употребляющемся значении.
A. – Amen15. Однако ты чересчур распространился, увлекшись тоном проповеди; смотри, ты встрепан, будто не чесался два дня…
B. – Мы можем теперь перейти к третьему типу случаев, – к случаю, где два объекта, данные в созерцании, не обнаруживают разницы для такового, кажутся ему неразличимыми и тождественными, тогда как умозрение дает возможность отыскать принципиальную разницу между этими объектами.
Так как с созерцанием мы имеем дело по преимуществу в геометрии, то там особенно много примеров, поясняющих, в чем дело. Придется отметить только простейшие из них, хотя всем таким исследованиям математики принадлежит решающее значение и несомненно доказательная роль при обсуждении наших вопросов. Для начала укажу о существовании несоизмеримостей, то есть таких величин одного рода, которые не имеют общей меры между собою. Когда общая мера существует и отношение величин является соизмеримым, то оно может быть выражено некоторым числом; если же соотношение несоизмеримо, то нет такого числа, которое бы выражало собой это отношение. Таким образом, первая пара величин имеет какое-то принципиальное отличие от другой, но это отличие не может быть замечено и усмотрено никаким опытом.
Чтобы сделать это более наглядным, обратимся к геометрическим величинам. Пусть, например, каким-нибудь построением нам даны два прямолинейных отрезка. Сравнивая их, мы можем обнаружить разницу их длин; один отрезок окажется, например, более другого. Но ничего принципиально-различного таким способом – непосредственным сравнением отрезков – мы не заметим, как бы точно ни было сравнение. Однако, изучая тот путь, которым отрезки были получены, мы сможем умозрительно прийти к заключению о принципиальной разнице их, разнице по существу. Длина одного отрезка, как может оказаться, выражается некоторым числом, а другого – никаким числом не выражается. Чтобы выразить длину второго отрезка арифметически, то есть чтобы охарактеризовать длину отрезка в отвлеченных терминах, надо создать совершенно новый арифметический символ, новую арифметическую схему – так называемое иррациональное число. Таким образом, например, сторона квадрата и его диагональ, будучи несоизмеримы, имеют ка-кое-то внутреннее различие, абсолютно незаметное для простого созерцания этих отрезков. Это свойство сказанных линий было известно уже пифагорейцам, и открытие его относят к основателю союза. Нетрудно догадаться, какое ошеломляющее впечатление должно было произвести открытие этой теоремы на изобретателей. Одним из основных убеждений школы было признание универсальной роли числа, а под числом тогда разумелось именно целое число. И вот оказывается, что имеются объекты, притом объекты в области созерцания, которые никаким числом не выражаются, никаким числом не управляются, как бы лишены сущности, ибо сущность объекта, для пифагорейцев, есть выражающее его число. Получалось, будто люди заглянули незаконно в какую-то мистическую бездонность, подсмотрели или подслушали то, что людям не должно знать, вырвали из бездонности тайну богов и стоят, как сообщники одного страшного дела, не смея смотреть друг другу в глаза, вздрагивая от громкого слова, боясь проговориться и тем окончательно навлечь на себя гибель несущий гнев небожителей.
Завыли таинственные вздохи ветра; закачались в ужасе деревья, замахали руками; понеслись в вихрях почерневшие листья.
Порывы метели суровы и резки,
Ужасная тайна в душе шевелится.
Задерни, мой брат, у окна занавески:
А то будто Вечность в окошко глядится.
Пифагорейцы вовсе не были так несообщительны и замкнуты в своих философских воззрениях, как это было принято думать о них; но такие открытия… такие открытия должны были оставаться тайной, должны были глубоко укутаться молчанием.
Раскрыть случайно-увиденное, обнаружить пережито-найденное – это значит кощунственной рукой сдернуть покровы с того, что закрыли боги, бесстыдно обнажить божественную тайну. Горе нечестивцу, который дерзнет вынести скрытое наружу. Он навлекает тогда самим своим существованием гибель на союз и на самого себя. Единственное, чем можно спастись, это изгнать святотатца, отречься от него, пред богами объявить своим врагом. Да направят вечные боги весь гнев свой на виновника, на него одного!
Так и случилось. Основатель союза, тайновидец Пифагор, был еще жив, он доживал последние свои годы, как вдруг разразилась гроза, и союз, – слушавший мерно-звучащие кифары, занимавшийся благочестивыми упражнениями и увлекающими к миру стройности и небесной гармонии созерцаниями, – глухо заволновался. Нечестивый Гиппас, вероломный волк, обманувший доверие священного союза, пренебрег гневом небожителей и, забывая о подобающем божественным истинам молчании, святотатственно открыл тайну профанам – выдал непосвященным и неочистившимся священное предложение о несоизмеримостях. Гиппас был судим, с позором изгнан из ордена; пусть же бессмертные судят его! И вот не замедлил суд блаженных богов, живущих в высоком эфире. Только что отплыл в открытое море безумный нечестивец, только что утонул в голубом тумане береговой край Великой Греции, как Посейдон вспенил трезубцем почерневшую пучину, раскачал бесплодное море, захлестал гигантами-волнами – чудовищами морскими – на утлое суденышко, и дерзкий Гиппас понес кару за нескромность к богам. Он утонул, и неосторожные уста навеки сомкнула бесстрастная водная пустыня…
A. – (Смеется.) Это, по-твоему, факты?
B. – Фактов я и не хотел излагать; моею задачей было представить, как могли факты отражаться в сознании союза. Но теперь я просто буду указывать другие примеры. За недостатком времени я только упомяну о существовании так называемых трансцендентных чисел и величин, ими измеряемых. Оказывается, что также и среди иррациональных чисел можно установить принципиальные различения, разбивая их на существенно разнородные классы. Таковы, например, числа, степени которых соизмеримы; таковы же числа трансцендентные. Интересно то, что, хотя трансцендентное число существенно отлично от нетрансцендентного или алгебраического, но узнать относительно данного числа, каково оно, весьма нелегко. Так, например, знаменитая задача о квадратуре круга, почти 4000 лет истощавшая силы математиков, в самой своей постановке заключала недоразумение, и последнее основывалось на непризнании существенного различия числа к от алгебраических чисел. Чтобы не останавливаться далее на примерах из того же отдела математики, я укажу несколько примеров из так называемой теории групп. Под группою точек разумеется совокупность точек, данных определенным образом; она рассматривается в силу однородности задания, – как нечто целое, единое.
Как простейший пример возьмем такие группы точек, которые расположены на прямой линии; точки, так сказать, нанизаны на прямую. Тогда, чтобы определить положение точки на прямой по отношению к некоторой неизменной точке – началу, нужно дать число, выражающее расстояние этой точки от неподвижной в каких-нибудь определенных единицах длины, например в миллиметрах. Если мера длины дана и дано число, то этим точка, характеризуемая числом, вполне определена. Выбирая совокупности чисел по тому или другому общему правилу, мы станем последовательно получать группы точек, расположенные по тому или другому закону. Так, например, мы можем потребовать, чтобы были взяты все те точки, соответственные числа которых – координаты – суть все рациональные числа не меньшие нуля и не большие единицы. Это будет группа «рациональных точек» в отрезке 0–1.
В теории групп на каждом шагу встречаются случаи, где две существенно-различные группы, которые приходится трактовать при всевозможных рассуждениях как объекты весьма разнящиеся, не могут быть различаемы в созерцании. Возьмем, например, группу точек, определяемых всевозможными числами между 0 и 1, включая сюда 0 и 1; это будет так называемая замкнутая группа. Возьмем, далее, группу точек, определяемых всевозможными числами между 0 и 1, включая сюда 0, но не включая 1; такая группа носит название незамкнутой. Обе эти группы абсолютно-неразличимы в созерцании, «на глаз»; одна имеет вид, как другая; одна, по-видимому, тождественна с другой. Но, на самом деле, между ними есть очень важная разница, которая радикально различает свойства групп. Первая группа, замкнутая, имеет, так сказать, окончания; точки 0 и 1 являются для нее крайними точками, так что нет ни одной точки группы, которая лежала бы правее, чем точка 1, и нет такой, которая лежала бы левее точки 0. То же самое можно сказать и о левом конце второй группы, незамкнутой; но не так обстоит дело с правым концом этой группы; тут конца в собственном смысле нет; нет последней точки, крайней. Какую бы далеко стоящую точку мы ни взяли, непременно найдется другая, еще дальше ее стоящая; а последней все-таки нет. Мы можем как угодно близко подходить к точке 1, которая не относится к нашей незамкнутой группе, и все-таки никогда точки 1 достигнуть не сможем, потому что, если мы станем в точку 1, то выйдем из пределов группы, а если не станем еще в нее и будем слева от нее, то всегда имеем возможность подойти ближе. У замкнутой группы, так сказать, обтаял кончик, сточилась последняя точка, и получилась группа незамкнутая. Это изменение, невидимое и неощутимое, однако, произвело существенное изменение в свойствах, в структуре группы, и тот, кто занимался теорией групп, хорошо знает, как серьезны эти изменения структуры и как тщательно надо различать группу замкнутую от незамкнутой. У последней не хватает какого-то «чуть-чуть», с появлением которого она бы перешла в группу замкнутую. Но отсутствие этого «чуть-чуть» имеет для сущности группы, может быть, большее значение, чем в области эстетики то «чуть-чуть», с которого начинается искусство.
Приведу еще один пример. Если мы возьмем совокупность всех точек промежутка 0–1, включая сюда и пределы 0 и 1, то, как известно, она имеет своими соответственными числами совокупность всех иррациональных и рациональных чисел, которые не меньше 0 и не больше 1. Такая группа точек принадлежит к типу так называемых совершенных групп. Каждому мыслимому числу, рациональному или иррациональному – безразлично, соответствует точка группы, и, наоборот, каждой точке группы соответствует рациональное или иррациональное число, которое меньше 0 и не больше
1. Возьмем теперь между теми же пределами О и 1 другую группу точек – группу рациональных точек; каждой точке этой группы непременно соответствует число, заключающееся между 0 и 1; но сказать наоборот никак нельзя: не всякому числу соответствует точка группы и, если мы берем число иррациональное, то соответствующей ему точки не существует. В соответственном месте отрезка – носителя группы – группа имеет изъян, пробел. Так как между каждыми двумя рациональными числами существует бесконечное множество иррациональных, то в каждом отделе группы нашей существует бесконечное множество изъянов; вся группа разъедена, изгрызена. Однако эта источенность группы имеет одно замечательное свойство: дело в том, что между любою парою рациональных чисел, как бы ни разнились они мало, существует не только бесконечное множество иррациональных промежуточных, но и бесконечное множество рациональных же промежуточных. Другими словами, какой бы малый кусочек нашего прямолинейного отрезка мы ни взяли, он непременно окажется начиненным бесконечным множеством точек группы. За это свойство группа наша может быть отнесена к типу групп «всюду-плотных». Итак, с одной стороны, мы имеем сказанную всюду – плотную группу, а с другой – группу совершенную, о которой речь шла ранее. Все точки, которые участвуют в первой группе, участвуют и во второй, но нельзя сказать обратного; во второй группе имеется бесконечное множество точек, не участвующих в первой. Первая группа есть как бы изъеденная бесконечно-тонкими дырочками вторая группа, а вторая – зачиненная первая; та и другая по своим свойствам существенно разнятся между собою; они настолько различны, что немыслимо смешивание их; иначе можно наделать грубейших ошибок. И, однако, та и другая никаким созерцанием, никаким микроскопом не отличимы между собою. Первая есть как бы полоска пыли, насыпанная вдоль прямой линии, вторая – сплошная ниточка; в первой – разрозненные точки, рассыпавшиеся ниточки бисера, а вторая – непрерывная последовательность точек. И все-таки та и другая группы не могут быть представляемы как разнящиеся, хотя, с другой стороны, не могут быть мыслимы как тождественные. Вводимое в теории групп понятие о группе производной делает различие их особенно очевидным.
Я бы мог привести тебе еще множество примеров из теории групп, но за недостатком времени поспешу идти далее.
A. – Далее? Это еще куда?
B. – Нужно обратиться к Последнему, Четвертому виду объектов, не могущих быть различенными никакими методами помимо мистического восприятия. Сейчас я ничего не желаю доказывать тебе – ведь мы и начали разговор в том намерении, что dicitur ad narrandum, non ad probandum16. Поэтому можно излагать наши убеждения вполне догматически. Мы думаем, что таинства и являются именно такими объектами, не отличимыми в чувственном опыте, как бы он ни был тонок и чувствителен, от простых церемоний и обрядов, и имеющими, несмотря на это, глубочайшее субстанциальное отличие от обрядов и церемоний. Об этом различии мы знаем из церковного учения, подобно тому, как из геометрии узнаем о различии стороны квадрата и его диагонали. Насколько справедливо то, что тут, в таинствах, действительно имеется своеобразная сущность, нечто существенно новое – как бы новая тварь, – это другой вопрос; нельзя, однако, отрицать возможности этого.
A. – Но неужто можно довольствоваться этим голым утверждением и не иметь никаких фактических доказательств?
B. – Никто не велит довольствоваться только им. Совершенно своеобразные и первичные восприятия позволяют почти всякому, хотя, быть может, и не всегда, усматривать тот мистический элемент таинства, о котором говорит Церковь. Не только мистики, так сказать, профессиональные, но и самые простые верующие сплошь и рядом имеют такие восприятия, и эти специфические переживания указывают на наличность специфического же момента в таинстве. Конечно, с чисто теоретической точки зрения нужно подвергнуть эти переживания теоретико-познавательному рассмотрению и оправдать их объективную значимость и ценность, как это необходимо сделать со всякого рода переживаниями. Такое рассмотрение не входит в наш план, но я не могу не заметить, что тут задача проще, чем кажется с первого взгляда. A priori17, независимо от теоретико-познавательных убеждений рассматриваемого, можно утверждать, что предмет этих специфических переживаний не может лежать в области предметов переживаний обычных; если это – галлюцинация, то – что бы под галлюцинацией мы ни разумели, – причина, галлюцинацию вызывающая, лежит в области мистической, в области новой сравнительно с той, которую мы узнаем в эмпирии; ведь не может эмпирическое, каково бы оно ни было, само по себе, без привхождения мистического выстроить мистическое, принципиально разнящееся от него.
Можно было бы привести сколько угодно примеров таких переживаний. Вот, например, что пишет в частном письме одна учительница-девушка, воспитанная в традициях шестидесятых годов, потом пришедшая к Церкви: «Христос воскресе, дорогой… Я член Церкви Христовой, мне прощены мои грехи, и я причастилась Святых Таин. Я поражена и уничтожена всепрощением Божиим. Простил, всё простил, потому что нет больше муки в моей душе; и солнце, и небо, весна и природа – всё для меня, как и для других; любовь родных, близких и детей (моих учениц) – всё вернулось ко мне, хотя, могло казаться, никогда и не отнималось. За что такая милость Божия? И я еще смела не прощать грехи другим, когда сама хуже всех, а Бог мне всё простил… Причастие Святых Таин успокоило меня… Я почувствовала себя в общении с Богом моим Иисусом Христом. Я теперь верю, что Он взял на себя грехи мира, что Он приходил на землю, и был распят за нас всех и за меня, и искупил все прошедшие и будущие грехи людей…»