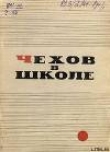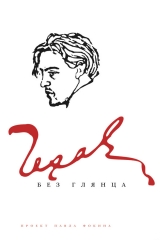
Текст книги "Чехов без глянца"
Автор книги: Павел Фокин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Вера
Исаак Наумович Альтшуллер:
Был ли Чехов верующим?
Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру. Еще недавно человек, хорошо его знавший, рассказывал мне, как раз, во время рыбной ловли, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами: «Вот любовь к этому звону – все, что осталось еще у меня от моей веры».
Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай. Как-то пришлось к разговору, я рассказал ему о слышанном много в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его: верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит: «А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь…» Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями, и то не за каждый год, дневнике отметил: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало». Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.
Иван Алексеевич Бунин:
Много раз старательно твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – сущий вздор:
– Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие – вздор.
Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
– Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это…
Михаил Осипович Меньшиков:
Религии Чехов не любил касаться. Только один раз в Ялте, на берегу моря, у нас как-то завязался разговор о Боге и быстро оборвался. «Я не знаю, – сказал Чехов, – что такое вечность, бесконечность, я себе об этом ничего не представляю, ровно ничего. Жизнь за гробом для меня что-то застывшее, холодное, немое… Ничего не знаю». Трезвая и честная душа его боялась бреда, боялась внушений, противоречащих опыту, боялась того «раздражения пленной мысли», которые многие принимают за голос свыше. Но той поэзии, которая сопровождает веру, Чехов не был чужд. Он с теплым чувством вспоминал об обычае в их семье, начиная с 1 сентября, читать ежедневно по вечерам «Жития святых», и во многих рассказах эта детская начитанность Чехова очень заметна. Звон монастырского колокола на заре вечерней, искры солнца на далеких крестах, умиление бедной человеческой молитвы, тихие восторги сердца и предание себя Высшей Воле – все это было понятно Чехову и, может быть, не так уж чуждо.
Зинаида Григорьевна Морозова:
Дело было к вечеру, окна выходили на запад, был чудесный закат. В Замоскворечьи зазвонили к вечерне.
– Люблю церковный звон. Это все, что у меня осталось от религии – не могу равнодушно слышать звон. Я вспоминаю свое детство, когда я с нянькой ходил к вечерне и заутрени.
Федор Федорович Фидлер. Из дневника:
28 июня 1904.В другой раз Михайловский и Чехов проезжали зимой мимо Исаакиевского собора; колонны были покрыты инеем, и Чехов сказал, что в таком виде храм особенно прекрасен…
Цветовод и садовник
Мария Тимофеевна Дроздова:
Антон Павлович относился ко всему растущему с радостным любопытством.
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы – «хоть палку воткни, вырастет», – говорил А.П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, «когда он не сможет больше писать», – заниматься садом.
Александра Александровна Хотяинцева:
Он очень любил цветы. В Мелихове он разводил розы, гордился ими. Гостьям-дачницам из соседнего имения (Васькина) он сам нарезал букеты. Но срезал «спелые» цветы, те, которые нужно было срезать по правилам садоводства, и «чеховские» розы иногда начинали осыпаться дорогой, к большому огорчению дачниц, особенно одной, поклонницы Чехова, которую Антон Павлович прозвал «Аделаидой». <…>
Тут же около роз находился огород с любимыми «красненькими» (помидоры) и «синенькими» (баклажаны) [4]4
«Красненькие» и «синенькие» – разговорные названия десяти– и пятирублевых купюр, но цвету ассигнаций. – Сост.
[Закрыть]и другими овощами.
– Татьяна Львовна Щепкина-Куперник:
Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни, и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем какие-то радостные ассоциации – может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
С помощью сестры, Марии Павловны, Антон Павлович сам рисует план сада (в Ялте. – Сост.),намечает, где будет какое дерево, где скамеечка, выписывает со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья, устраивает груши и яблони шпалерами, и результатом были действительно великолепные персики, абрикосы, черешни, яблоки и груши. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу северную природу, ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими, за посаженным эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же как березка: налетела буря, ветер сломал хрупкое белое деревце, которое, конечно, не могло быть крепким и выносливым в чуждой ему почве. Аллея акаций выросла невероятно быстро, длинные и гибкие, они при малейшем ветре как-то задумчиво колебались, наклонялись, вытягивались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное и тоскливое… На них-то всегда глядел Антон Павлович из большого итальянского окна своего кабинета. Были и японские деревца, развесистая слива с красными листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и пирамидальный тополь – все это принималось и росло с удивительной быстротой благодаря любовному глазу Антона Павловича. Одна беда – был вечный недостаток в воде, пока наконец Аутку не присоединили к Ялте и не явилась возможность устроить водопровод.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. П. Чеховой. Ялта, 14 марта 1899 г.:
Вчера и сегодня я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал, так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг. Я посадил 12 черешен, 4 пирамидальных шелковицы, два миндаля и еще кое-что. Деревья хорошие, скоро дадут плоды. И старые деревья начинают распускаться, груша цветет, миндаль тоже цветет розовыми цветами. Птицы, по дороге на север, ночуют здесь в садах и поутру кричат, например дрозды.
Исаак Наумович Альтшуллер:
Я думаю, что лучшими часами в его жизни были те, когда он в хорошие дни возился в саду, окруженный не отступавшими от него собачками, преемниками славных мелиховских такс Брома Исаевича и Хины Марковны, и танцующим прирученным журавлем. Занимался любимым делом, и никто не мешал думать, как на севере помогала думать удочка.
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова:
Вид срезанных или сорванных цветов наводил на него уныние, и когда, случалось, дамы приносили ему цветы, он через несколько минут после их ухода молча выносил их в другую комнату.
Борис Александрович Лазаревский:
Однажды одна ялтинская поклонница Чехова принесла ему много цветов. Антон Павлович залюбовался ими и, обращаясь ко мне, сказал:
– Вот, знаете, кто не любит цветов, детей и собак, тот – или дурак, или злой человек…
С братьями меньшими
Исаак Наумович Альтшуллер:
Чехов любил животных.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Антон Павлович любил наблюдать перелет птиц. В перерыве работы подойдет к окну, улыбнется, увидев какого-нибудь щегла, радостно подзовет всех посмотреть. Деревья, небо, птицы были для него радостью.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину. Москва, 10 декабря 1890 г.:
Из Цейлона я привез с собою в Москву зверей, самку и самца <…>. Имя сим зверям – мангус. Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Сейчас они сидят в клетке, куда посажены за дурное поведение: они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, вообще ведут себя, как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Мангусов нет нигде в зоологических садах; они редкость. Брем никогда не видел их и описал со слов других под именем «мунго».
Антон Павлович Чехов. Из письма И. Л. Леонтьеву (Щеглову). Москва, 10 декабря 1890 г.:
Ах, ангел мой, если б Вы знали, каких милых зверей привез я с собою из Индии! Это – мангусы, величиною с средних лет котенка, очень веселые и шустрые звери. Качества их: отвага, любопытство и привязанность к человеку. Они выходят на бой с гремучей змеей и всегда побеждают, никого и ничего не боятся; что же касается любопытства, то в комнате нет ни одного узелка и свертка, которого бы они не развернули; встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут посмотреть в карманы: что там? Когда остаются одни в комнате, начинают плакать.
Михаил Павлович Чехов:
Оказалось, что, кроме мангуса, брат Антон вез с собой в клетке еще и мангуса-самку, очень дикое и злобное существо, превратившееся вскоре в пальмовую кошку, так как продавший ее ему на Цейлоне индус попросту надул его и продал ее тоже за мангуса.
Александр Иванович Куприн:
Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелиховских таксах Броме и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, так вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродушной улыбкой.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину. Мелихово, 16 апреля 1893 г.:
Вчера наконец прибыли таксы, добрейший Николай Александрович. Едучи со станции, они сильно озябли, проголодались и истомились, и радость их по прибытии была необычайна. Они бегали по всем комнатам, ласкались, лаяли на прислугу. Их покормили, и после этого они стали чувствовать себя совсем как дома. Ночью они выгребли из цветочных ящиков землю с посеянными семенами и разнесли из передней калоши по всем комнатам, а утром, когда я прогуливал их по саду, привели в ужас наших собак-дворян, которые отродясь еще не видали таких уродов. Самка симпатичнее кобеля. У кобеля не только задние ноги, но и морда и зад подгуляли. Но у обоих глаза добрые и признательные. Чем и как часто Вы кормили их? Как приучить их отдавать долг природе не в комнатах? и т. д. Таксы очень понравились и составляют злобу дня.
Антон Павлович Чехов. Из письма Н. А. Лейкину Мелихово, 11 августа 1893 г.:
Таксы Бром и Хина здравствуют. Первый ловок и гибок, вежлив и чувствителен, вторая неуклюжа, толста, ленива и лукава. Первый любит птиц, вторая – тычет нос в землю. Оба любят плакать от избытка чувств. Понимают, за что их наказывают. У Брома часто бывает рвота. Влюблен он в дворняжку. Хина же – все еще невинная девушка. Любят гулять по полю и в лесу, но не иначе, как с нами. Драть их приходится почти каждый день: хватают больных за штаны, ссорятся, когда едят, и т. п. Спят у меня в комнате.
Александр Иванович Куприн:
Во дворе (ялтинского дома Чехова. – Сост.)жили: ручной журавль и две собаки. <…> Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.
Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:
– Уйди же, уйди, дурак… Не приставай.
И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:
– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.
Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:
– Ах ты, глупый, глупый… Ну, как тебя угораздило?.. Да тише ты… легче будет… дурачок…
Исаак Наумович Альтшуллер:
Когда я увидел, с какой заботливостью он ухаживал за раненым Каштаном, как внимательно, по всем правилам хирургического искусства, перевязывал его разодранную лапу и с какими при этом ласковыми словами к нему обращался, я понял, почему такой удивительной вышла у него «Каштанка». И когда он, поведя серьезную войну против мышей, брал из мышеловки осторожно за хвост попавшуюся мышь и спускал ее через низкий забор на кладбищенский участок, то я уверен, что мышь только посмеивалась и, наверное, в ближайшую же ночь перебиралась обратно на дачу к своему врагу.
Александр Иванович Куприн:
Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А.П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А.П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.
Мария Тимофеевна Дроздова:
У меня часто спрашивают: почему в письмах Антона Павловича Чехова упоминается о передаче мне почтовых марок, вложенных в письма Марии Павловне. Это собирание Антоном Павловичем марок для меня началось по следующему случаю. Как-то на каникулы я ездила домой на юг и возвращалась обратно в Москву. Провожая меня на станцию железной дороги, мой одиннадцатилетний братишка, ученик 2-го класса гимназии, прощаясь, сунул мне в карман осеннего пальто что-то аккуратно завернутое в белую бумагу с просьбой передать эту вещь Антону Павловичу. Проезжая мимо станции Лопасня, я поспешила сойти и на несколько дней заехала в Мелихово к Чеховым. Только за ужином я вспомнила о подарке моего брата и передала его Антону Павловичу. Чехов развернул пакетик – там оказался небольшой журнальчик, размером в небольшую детскую книжку. Что там было написано, я уже не помню, но все было очень тщательно, с любовью сделано, подражая настоящему журналу, со всеми его отделами. Видно было, как сильно хотелось маленькому автору сделать приятное Антону Павловичу. Антон Павлович сейчас же послал ему свой рассказ «Каштанка» со своей надписью. Как-то в феврале 1898 года, когда я гостила в Мелихове, пришли от Антона Павловича из Ниццы, где он был в то время, две посылки: одна Марии Павловне и другая на мое имя – посылочка величиной с кубический вершок, тщательно упакованная, зашитая. В посылочке, которая всех нас рассмешила своими игрушечными размерами, оказались почтовые марки со всех концов мира, откуда Антон Павлович получал письма. Все это предназначалось моему братишке.
Борис Александрович Лазаревский:
Чехов относился к детям не как к «маленьким дурачкам» и говорил с ними не как с существами, созданными для забавы взрослых, а как с людьми, у которых на все своя оригинальная точка зрения. Антон Павлович с любовью рассказывал мне об одном мальчике:
– Сидит он за столом, выводит букву за буквой и сопит…
Чехов прошелся взад и вперед по кабинету, посмотрел в окно и добавил:
– И уши у него торчат, – вот так…
Охотник, рыболов, грибник
Алексей Алексеевич Долженко:
На самом краю города (Таганрога. – Сост.)находилось кладбище, за которым начиналась степь. Здесь на земле можно было наблюдать много круглых отверстий. Это норы тарантулов. Для чего это нам было нужно, я теперь припомнить не могу, но тогда ловле тарантулов мы отдавали много энергии. Главным инициатором ловли как всегда был Антон, выдумавший для этой цели специальный способ. Все мы имели при себе аптечные баночки, наполненные деревянным маслом, и специальные удочки, состоящие из небольшой палочки, к которой была привязана довольно длинная нитка, а на конце нитки был прикреплен шарик из воска. Размер шарика был такой, чтобы он мог свободно пройти в нору тарантула.
Самая ловля заключалась в следующем: баночки с маслом ставились около норы. В отверстие опускался шарик из воска. Как только шарик доходил до дна, тарантул, разоренный появлением непрошеного гостя, с яростью цеплялся лапами в воск и тянул шарик на себя, вызывая подергивание, державший в руке удочку тотчас же вынимал шарик с вцепившимся в него тарантулом и сразу опускал его в масло.
В масле, вследствие отсутствия воздуха, тарантул сразу погибал. Большое количество наловленных тарантулов почему-то считалось у нас особенной доблестью.
Владимир Германович Тан-Богораз(1865–1936). писатель, поэт, этнограф, лингвист, соученик А. П. Чехова по таганрогской гимназии:
За Чеховским домом (в Таганроге. – Сост.)прежде находился небольшой пустырь, который в то время назывался «имение куриного царя». На краю этого пустыря ютился старик, разводивший кур. Пустырь зарос бурьяном и дикой коноплей. На этом пустыре Чехов с братьями ловил щеглов силком «на припаду». Ловля щеглов на припаду – это южный степной спорт. Чехов увлекался им, даже будучи студентом.
Алексей Алексеевич Долженко:
Будучи уже гимназистом, Антон Чехов очень любил ловить рыбу. На ужение мы ходили в Таганрогскую гавань. Обычно было нас четверо: Чеховы – Антон. Николай, Иван и я. Ловили мы преимущественно бычков. Антон умел добиваться удачной ловли. Он изобрел специальные поплавки, изображающие человека, у которого руки поднимались и опускались во время ловли рыбы. Это указывало, какого размера рыба попала на крючок. Если человек в воде по пояс, то, значит, попалась небольшая рыбка, если по плечи – то средняя, если с головой и руки подняты вверх, то, значит, крупная рыба, и ее нужно вынимать умеючи. В таком случае Антон не доверял нам и вынимал сам. Поплавки он делал из особого дерева, похожего на пробку, которое брал у местных рыбаков. Отправляясь на рыбную ловлю, мы брали с собой сковородку и все необходимое для стряпни, а иногда Антон захватывал свое любимое сантуринское вино. Такая обстановка рыбной ловли особенно нам нравилась.
Иван Алексеевич Белоусов (1863–1930), поэт, мемуарист, член литературного кружка «Среда»:
Антон Павлович Чехов любил рыбную ловлю не так, как другие, а по-своему: он не был похож на тех рыболовов-охотников, цель которых состояла в том, чтобы как можно больше и крупнее наловить рыбы. – он любил просто на солнышке посидеть с удочкой на берегу, отдохнуть, помечтать, а может быть, в тишине обдумать план какой-нибудь литературной работы, – а какая рыба ему попадется на крючок – ему было все равно; за большим он не гнался, а довольствовался окуньками, голавликами, пескарями; последних он особенно любил, и однажды учил меня, как надо поджаривать пескарей:
– Знаете, если их смазать яйцом да обвалять в сухарях и поджарить так, чтобы корочка хрустела, – это будет великолепная закуска. <…>
Куда бы ни приезжал Антон Павлович, его прежде всего интересовала вода – река, пруды, озера, где бы водилась рыба.
Александр Николаевич Тихонов:
С утра до вечера мы сидели под глинистым откосом, у темного омута, и с увлечением ловили окуней, иногда попадались и щуки. <…>
– Чудесное занятие! – говорил Чехов, поплевывая на червяка. – Вроде тихого помешательства. И самому приятно, и для других не опасно. А главное – думать не надо… Хорошо!
Николай Дмитриевич Телешов:
В Аутке, где он был уже серьезно больным и где среди красот южной природы, среди вечнозеленых кипарисов и цветущих персиков, любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, глядя на поплавок и держа в руке удочку.
Иван Алексеевич Белоусов:
Он не раз говорил мне: «Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей».
Михаил Павлович Чехов:
Большой любитель собирать грибы, Антон Павлович каждое угро обходил свои собственные места (в Мелихове. – Сост.)и возвращался домой с горстями белых грибов и рыжиков. За ним всегда важно следовали его собаки Хина и Бром.
Мария Тимофеевна Дроздова:
Вся усадьба замыкалась большой лужайкой, обсаженной старыми плакучими березами, под которыми водились белые грибы, а дальше вместо забора были еще посадки молодых елей, где в изобилии водились рыжики. Антон Павлович очень любил собирать рано по утрам грибы.
Антон Павлович Чехов. Из письма А. С. Суворину. Мелихово, в апреля 1892 г.:
У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежа. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу…» Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить.
А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать.
Антон Павлович Чехов. Из письма М. Горькому. Мелихово, 9 мая 1899 г.:
Охоту с ружьем когда-то любил, теперь же равнодушен к ней.