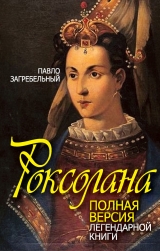
Текст книги "Роксолана. В гареме Сулеймана Великолепного"
Автор книги: Павел Загребельный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Султан похмыкивал на Ибрагимовы шуточки и упорно вгонял стрелу за стрелой в огромную тыкву, которую бегом проносили на высоком деревянном шесте скрытые за земляной насыпью чухраи. Вслед за султанской тыквой передвигались тыквы, предназначенные для Ибрагима, для великого визиря старого Пири Мехмеда, для визирей, янычарских аг, для вельмож, подхалимов и придурков. Султанская тыква была самая большая и самая яркая, его стрелы тоже были с золотым оперением и сияли даже во мглистом воздухе, тыквы для Ибрагима и визирей были намного меньше и все белые, остальные охотники должны были довольствоваться несколькими сероватыми круглыми тыквочками, в которые вгонялось сразу по десятку с лишним злых стрел. Сулейман овладел высоким искусством лучника во время своего наместничества в Крыму, куда его еще маленьким отсылал дед – султан Баязид. И хоть османские султаны считали лук оружием трусов, отдавая всегда предпочтение мечу, Сулейман после Крыма уже никогда не мог избавиться от искушения метать стрелы то в дикого зверя, то в перелетную птицу, то в такую вот тыкву чести и умения.
Султан по своему обычаю молчал, знаками показывая «безъязыким» дильсизам, чтобы подавали стрелы или напитки промочить им с Ибрагимом горло. Ибрагим старался не отставать от Сулеймана, метко вгоняя в свою тыкву стрелу за стрелой, посмеивался над старым Пири Мехмедом, попадавшим редко, неспособным как следует натянуть тетиву, из-за чего его стрелы не долетали, бессильно падали. И вдруг чья-то чужая стрела с хищным свистом впилась в султанскую тыкву, чуть не пронзив ее насквозь. Даже Ибрагим, помертвев лицом, поглядел на свой колчан и на ту злосчастную пришелицу, словно бы хотел удостовериться, что это не его с сине-белым оперением стрела, а воистину чужая, неведомо чья и откуда. Торчала в яркой тыкве, черная, с грязными бусинами, прицепленными к ней. Чухраи и аджемы, пораженные неслыханным святотатством, замерли в своем укрытии, тыквы покачивались на высоких шестах, словно бы им тоже передалась дрожь страха, охватившего всех придворных.
Учитель и воспитатель султана, седоголовый визирь Касимпаша, который знал Сулеймана с малолетства, ездил с ним повсюду, жил все годы в Манисе, терпеливо передавал ему все тайны придворных обычаев, теперь с некоторой встревоженностью наблюдал за Сулейманом. Сам Аллах послал это испытание молодому султану. Вот случай проявить и свою власть, и свой нрав, и свою выдержку, которой обучал Сулеймана невозмутимый Касим-паша. «Безъязыких» Сулейман привез в Стамбул тоже из Манисы. Держал своих собственных, не нуждался в дильсизах, служивших султану Селиму. Касим-паша подготовил для своего повелителя и этих молчаливых исполнителей самых неожиданных повелений, повелений тайных, безмолвных, передаваемых жестом, движением, касанием, взглядом, а то и одним вздохом султана. Моргая покрасневшими от ветра старыми своими глазами, Касим-паша удовлетворенно созерцал, как умело и незаметно отдает Сулейман приказы, как мечутся дильсизы, молча и незамедлительно выполняя его волю. Как же поведет себя султан теперь, когда неведомая рука преступно замахнулась на его высокую честь? Чужая стрела в султанской мишени все равно что чужой мужчина в Баб-ус-сааде[27]27
Баб-ус-сааде – Врата Блаженства в султанском дворце. Так назывался и султанский гарем.
[Закрыть]. Кара должна быть незамедлительной и безжалостной, но и в наказании нужно соблюдать достоинство. Касим-паша не принимал участия в состязаниях, его не заставляли, над ним не насмехался даже Ибрагим, но если старый визирь не метал стрел, то обеспокоенные взгляды на своего воспитанника он метал еще чаще, чем тот стрелы, и теперь напрягся всем своим старым жилистым телом, как туго натянутая тетива.
Султан не обманул надежд своего верного воспитателя. Не вырвался у него из груди крик возмущения, ничего он не спросил, только гневно указал рукой на ту дерзкую стрелу, и дильсизы мгновенно бросились на поиски виновника и почти сразу же поставили перед султаном какого-то старого бея, закутанного в толстые рулоны ткани и мехов, в огромной круглой чалме, растерянного и одуревшего от содеянного его нетвердой рукой. Дильсизы, показав султану лицо преступника, накинули ему на голову черное покрывало, изготовляясь совершить неминуемую кару, но Сулейман движением указательного пальца левой руки задержал их.
– Где кадий[28]28
Кадий – мусульманский судья.
[Закрыть] Стамбула? – спросил спокойно.
Хотел быть справедливым, руководствоваться не гневом, а законами. Не интересовался, как зовут преступника и кто он. Ибо преступник из-за своего преступления становится животным, а животное не имеет ни имени, ни положения. Только смерть может вновь сделать преступника, посягнувшего на султанскую честь и нанесшего наивысшее оскорбление падишаху, человеком, и тогда ему будет возвращено его имя, и семья сможет забрать его тело, чтобы предать земле согласно обычаю.
Кадий прибыл и поклонился султану.
– Воистину всевышний Аллах любит людей высоких помыслов и не любит низких, – тонко пропел он, поглаживая клочья седой бороды и надувая ставшие от холода сиреневыми щеки. – «Ведь Господь твой – в засаде».
После этого кадий обрисовал все коварство и тяжесть злодеяния виновного и в подтверждение привел высказывание Абу Ханифы, Малики и Несая[29]29
Абу Ханифа, Малика, Несай – известнейшие авторитеты в отрасли мусульманского права – шариата.
[Закрыть]. Не могло быть злодеяния более тяжкого, чем посягательство на честь властителя, те же, кто вгоняет стрелы в тыкву счастья его величества, теряют право на жизнь, ибо «пролил на них Господь твой бич наказания». Воистину мы принадлежали Богу и возвращаемся к нему.
Султан и все его визири признали исключительность знаний кадия, красоту его речи и убедительное построение доказательств. Сулейман показал «безъязыким» пальцем, что они должны делать, те мигом накинули на шею несчастному черный шнурок, ухватились за концы – и вот уже человека нет, лежит труп с выпученными глазами, с прокушенным, посиневшим языком, и сам султан, Ибрагим, визири, вельможи убеждаются в его смерти, проходя мимо задушенного и внимательно всматриваясь в него. Сулейман подарил кадию султанский халат и, подобревший, сказал Ибрагиму, что хотел бы сегодня с ним поужинать.
– Я велю приготовить румелийскую дичь, – поклонился Ибрагим. Сладостей на четыре перемены.
– Сегодня холодно, – передернул плечами Сулейман, – не помешает и анатолийский кебаб.
– Не помешает, – охотно согласился Ибрагим.

Султан Сулейман Великолепный. Венецианская гравюра
– И что-нибудь зеленое. Без сладостей обойдемся. Мы не женщины.
– В самом деле, ваше величество, мы не женщины.
Впервые за день султан улыбнулся. Заметить эту улыбку под усами умел только Ибрагим.
– Мы сегодня хорошо постреляли.
– Ваше величество, воистину вы метали сегодня стрелы счастья.
– Но ты не отставал от меня!
– Опережать вас было бы преступно, отставать – позорно.
– Надеюсь, что наш великий визирь сложит газель об этом празднике стрельбы.
– Не слишком ли стар Пири Мехмед, ваше величество?
– Стар для стрельбы или для газелей? Как сказано в Коране: и голова покрылась сединой…
– Мехмед-паша суфий[30]30
Суфий – мусульманский ученый, последователь одной из мусульманских сект.
[Закрыть], а суфии осуждают все утехи. Я мог бы сложить бейт[31]31
Бейт – двустишие.
[Закрыть] для великого визиря.
– Зачем же отказываться от такого намерения? – Султан забрал поводья своего коня у чаушей[32]32
Чауш – нижний чин в армии, а также слуга.
[Закрыть], тронулся шагом с Ок-Мейдана.
Ибрагим, держась возле его правого стремени, чуть наклонился к Сулейману, чтобы тому было лучше слышно, проскандировал ему:
Имеешь обычай, о суфий, осуждать вино, отрицать флейту!
Пей вино, будь человеком, оставь этот дурной обычай, о суфий!
– Это надо записать, – одобрительно заметил султан и пустил коня вскачь. Ибрагим скакал рядом, как его тень.
Они ужинали в покоях Мехмеда Фатиха, расписанных венецианским мастером Джентиле Беллини: белокурые женщины, зеленые деревья, гяурские строения, звери и птицы – все то, что запрещено Кораном. Но вино пили также запрещенное Кораном, хоть и сказано: «Поят их вином запечатанным», зато с султана постепенно сходила его обычная хмурость, он становился едва ли не тем шестнадцатилетним шах-заде из Маниси, который признавался Ибрагиму в любви и уважении на всю жизнь. Хмельной верблюд легче несет свою ношу. Пили и ели много, но еще больше выбрасывали, ибо челяди вход сюда был воспрещен, убирать было некому.
– Что не съедается – выбрасывается! – небрежно сказал султан. Сегодня вечером мне все особенно вкусно. А тебе?
– Мне тоже.
Ибрагим подливал Сулейману густой мускат, а у самого не выходило из головы: «Что не съедается – выбрасывается». А он бы не выбросил никогда и ничего – был ведь сыном бедных родителей. Но здесь, возле султана, уже не съедал всего, несмотря на всю свою ненасытность. Вот и Рушен не съел. Так что же теперь – выбросить? Но куда?
Смотрел на Сулеймана, на его печально поникшую на длинной тонкой шее голову, отягченную высоченным тюрбаном, пытался определить истинные свои чувства к этому человеку – и не мог. Не хотел. Кривить душой перед самим собой не привык, а признавать правду?.. Пусть будет, как было доныне. Он живет не для себя, а для темнолицего правителя. И Рушен купил, отдав бешеные деньги, удивив Грити, а потом не тронул и пальцем, когда евнух втолкнул девушку в ложницу, – не для себя, а для султана, для его царственного гарема, для Баб-ус-сааде в четвертом дворе дворца Топканы, за Золотыми вратами наслаждений. Что им руководило? Любовь? Жалость? Благодарность за все, что Сулейман сделал для него? Разве он знал? Действовал неосознанно, сам до поры не ведая, что творит, лишь теперь постиг и обрадовался невероятно, и захотелось рассказать султану, какой дивный дар приготовил для него, но вовремя сдержался. Была у него привычка: сдерживал свои восторги, как коня на скаку. Остановись и подумай еще! Подумал, и осенило его: валиде! Надо посоветоваться с матерью султана, валиде Хафсой, всемогущественной повелительницей гарема падишаха.
После ужина Сулейман попросил почитать ему «Тасаввурат»[33]33
«Тасаввурат» – «Метафизика» Аристотеля в мусульманской обработке.
[Закрыть], слушал, подремывая, не прерывал и не переспрашивал, а Ибрагим, не вдумываясь в то, что читал, забыв о самом султане, вертел и вертел в голове только одно слово: «Валиде, валиде, валиде!». «Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее великий трон».
А потом вдруг вздрогнул, неведомо почему вспомнив мрачную легенду, связанную с венецианцем Джентиле Беллини, который расписывал эти покои для Мехмеда Фатиха. Художник весьма удивил султана, привезя ему в дар несколько своих работ, на которых были изображены прекрасные женщины, показавшиеся Мехмеду даже живее его одалисок из гарема. Султан не верил, что человеческая рука способна создать такие вещи. Тогда художник написал портрет самого Фатиха. Кривой, как ятаган, нос, разбойничье лицо в широкой бороде, звероватый взгляд из-под круглого тюрбана, и над всем властвует цвет темной, загустевшей крови. Султан был в восторге от искусства венецианца. Но когда тот показал Мехмеду картину, изображающую усекновение головы Иоанна Крестителя, султан расхохотался над неосведомленностью художника.
– Эта голова слишком живая! – воскликнул он. – Не видно, что она мертвая. На отрубленной голове кожа стягивается! Она стягивается, как только голова отделена от тела. Вы, неверные, несведущи в этом!
И, чтобы не оставить никаких сомнений касательно своих знаний, тут же велел отсечь голову одному из чаушей и заставил художника смотреть на мертвую голову, пока венецианцу не стало казаться, словно он и сам умирает.
Не было ничего невозможного для Османов. Особенно в жестокости. Не накличет ли он на себя жестокости своим даром? Поступку должен предшествовать разговор. А разговор – это еще не подарок.
Хотя Ибрагим считался главным смотрителем султанских покоев и хотя Баб-ус-сааде тоже был в его ведении, пройти за четвертые ворота, которые охраняли белые евнухи, без риска утратить голову не мог так же, как и любой мужчина, кроме самого султана. Евнухи не принимались во внимание, ибо евнух не может воспользоваться одалисками так же, как неграмотный книгами. Но с высоты своего положения Ибрагим видел, что творится в гареме, он должен был удовлетворять все потребности этого маленького, но всемогущего мирка; каждое утро к нему приходил главный евнух, передававший веления валиде, Высокой Колыбели, великой правительницы Хафсы, драгоценное время которой не могло растрачиваться на вещи низкие и подлые, для них и был приставлен здесь он, Ибрагим, а ее время экономно распределялось между устремлениями приблизиться к Аллаху, возвеличиванием улемов, бедных чалмоносцев. Ибрагим терпеливо слушал разглагольствования черного кизляр-аги, хорошо ведая, что ее величество валиде кроме приготовления даров для мечетей и священных тюрбе, шитья драгоценных пологов, вышивок и плетения кружев большую часть своего времени тратит на сплетни, на выслушивания доносов евнухов и своих верных одалисок, на подавление раздоров, а то и настоящих бунтов, которыми так и кипит гарем, и, ясное дело, на выведывание и слежку каждого шага султана, его визирей, всех приближенных, прежде всего самого Ибрагима, хотя к нему валиде питала особую благосклонность, о чем не раз говорила открыто. И не просто благосклонность, но и любила его, как сына. О чем он тоже слышал из уст самой валиде. Из царственных уст, затмевавших красотой что-либо виденное. Не сочные, не ярко-красные, не нежные той тонкой нежностью, от которой безумствуют мужчины, а скорее строгие, темные, точно запекшиеся, словно бы затвердевшие, но очерченные с таким высоким совершенством, что ждал от них уже и не просто слов, а самой красоты. Не многим из мужчин выпало счастье видеть те уста. Ибрагим принадлежал к этим немногим.
– Передай валиде, – сказал он утром кизляр-аге, – что я просил бы ее выслушать меня.
Кизляр-ага молча поклонился.
– Иди, – снова сказал Ибрагим.
Евнух, кланяясь, попятился к двери. Был могущественнее Ибрагима, потому что держал в своих черных, страшной силы руках и весь гарем, и самого султана, но никогда не проявлял открыто своего могущества, ибо за ним стояли целые поколения таких же евнухов, которые творили свое дело тайно, набрасывали петлю, подкрадываясь сзади, а на глазах заискивающе кланялись, унижались и подхалимничали.
Человек, став на ноги и возвысившись над миром животных, сразу как бы раздвоился на часть верхнюю, где дух и мысль, и нижнюю, которую телесность тянет к земле, толкает к низменному, к первобытной грязи. Верхней служат мудрецы и боги, нижней – подхалимы. Они из человеческих отбросов самые древние. Покончить с ними невозможно. Единственный способ – снова встать на четвереньки?
Ибрагим никогда не считал себя подхалимом. Может, и полюбился он Сулейману тем, что не присоединился к толпе лакеев, окружавшей шах-заде в Манисе, а теперь, когда Сулейман стал султаном, он, Ибрагим, тоже не сломался, удержался на своей человеческой высоте, поднялся еще выше над лакеями Высокой Порты, коим тут не было числа. Валиде Хафса поначалу опасливо присматривалась к шустрому греку, остерегаясь, как бы он не навредил ее сыну. Но, обладая необходимым терпением, которое с полным правом можно было назвать целительным, она вскоре убедилась, что между юношами началось нечто вроде состязания в достоинствах, и это ей понравилось. Теперь должна была лишь следить, чтобы Ибрагим, оставаясь напарником Сулеймана, не вознамерился стать его соперником. Малейшие намеки на соперничество валиде замечала если и не сама, то благодаря ушам и глазам, предусмотрительно расставленным повсюду, и своевременно устраняла их незаметно для Сулеймана, часто и для Ибрагима.
Теперь в просьбе Ибрагима валиде заподозрила какой-то подвох, наверное поэтому несколько дней не отвечала, не то торопливо собирая о нем все возможное, не то готовясь соответственно к предстоящему разговору. Готовиться к разговору, не зная, о чем этот разговор? Странно для всех других людей, но не для валиде. Ибо если человек задумал что-то недоброе, а то и подлое, то он не выдержит, выдаст себя хоть намеком, каким-то незначительным пустяком, хотя бы в сонном бреду или в опьянении, когда они с Сулейманом запираются в гяурских покоях Фатиха, – и тогда она немедленно узнает, догадается обо всем и соответственно приготовится к отпору. Если же у Ибрагима в мыслях нет ничего дурного, напротив, он хочет доставить ей приятное, то и тогда не следует торопиться, ибо торопливость к лицу только людям низкого происхождения, ничтожным, ничего не стоящим. Величие человека в спокойствии, а спокойствие в терпеливости и медлительности. Без промедления следует расправляться только с врагами. Поднятая сабля должна падать, как ветер. Валиде Хафса происходила из рода крымских Гиреев. В ее жилах не было крови Османов. Но, вознесенная ныне до положения хранительницы добродетелей и достоинств этого царского рода, она изо всех сил пыталась вобрать в себя его многовековой дух. Гигантские просторы дышали в ее сердце, медленные, как движение караванов; ритмы песков и пустынь пульсировали в крови, прогнанные с небес большими ветрами тучи стояли в ее серых искрящихся глазах, ее резные губы увлажнялись дождями, которые падали и никак не могли упасть на землю. Империя была беспредельным простором, простор был ею, Хафсой. Странствуя по велению султанов Баязида Справедливого и Селима Грозного (ее мужа) со своим сыном то в Амасию, то в отцовский Крым, скрытый за высокими волнами сурового моря, то в Эдирне, то в Стамбул, то в Манису, а теперь, соединив и объединив все просторы здесь, в царственном Стамбуле, во дворце Топкапы, она успокоенно воссела на подушку почета и уважения, став как бы тогрой[34]34
Тогра – печать, в которой зашифровано имя султана.
[Закрыть] на султанской грамоте достоинств целомудреннейших людей всего света.

Хуррем Султан. Венецианская гравюра
Валиде позвала Ибрагима тогда, когда у него стало исчезать желание поделиться с нею своим намерением. Намерение ценно, пока оно еще не потускнело, когда оно идет от горения души и не имеет на себе ничего от холодного разума. Но откуда же было знать валиде о странном намерении Ибрагима?
Она приняла его в просторном покое у Тронного зала ночью, когда султан уже спал, а может, утешался со своей возлюбленной женой Махидевран. Лишь неширокий переход и крутые ступеньки отделяли их от того места, где находился сейчас Сулейман, и это невольно накладывало на их разговор печать недозволенности, чуть ли не греховности.
Валиде сидела на подушках вся в белых мехах, лицо ее закрывал белый яшмак, сквозь продолговатые прорези которого горели огромные, черные в полумраке глаза. Лишь один светильник, стоявший далеко в углу, освещал лицо валиде несмелыми желтоватыми лучами, но и от него она, пожалуй, хотела заслониться, ибо с появлением в покое Ибрагима подняла свою легкую руку так, что тень упала ей на лицо, но только на миг, валиде сразу же убрала руку, а в ней держала яшмак. Ибрагим относился к мужчинам, уже видевшим лицо валиде, поэтому она не хотела скрывать его и сегодня, и еще потому, что между ними должен был состояться разговор, а для разговора недостаточно одних глаз, тут нужны также уста, да еще если уста такие неповторимые, как у нее.
– Садись, – пригласила она, показывая Ибрагиму на подушки, которые он мог подложить под бока.
Он поздоровался и сел на расстоянии, почтительно полусклонившись в сторону, где утопала в белой нежности мехов маленькая фигурка, которая, даже сидя, успокоенная, неподвижная, была как бы соткана вся из живости, подвижности, беспокойства. Остро поблескивали черно-серые глаза, то ли умело подсурьмленные, то ли в таких причудливых прорезях, маленький ровный носик, казалось, трепетал не одними только ноздрями, но всем своим четким очертанием, губы темно вырисовывались на бледном нервном лице и, казалось, говорили с тобой даже крепко сжатые. Дыхание времени еще не коснулось этого лица. Оно жило, дышало и вдохновляло каждого, кто имел счастие на него взглянуть. Странный был султан Селим – отослал от себя такую женщину и до самой своей смерти не хотел больше ее видеть. Может, и правду передавали шепотом друг другу гаремные стражи, будто Сулейман рожден не Хафсой, а любимой рабыней Селима, сербиянкой родом из Зворника в Боснии. А Хафса, мол, в ту самую ночь родила девочку. Разве могла она вынести, что наследник трона будет от рабыни? Сербиянку задушили евнухи еще до утра, а Сулейман стал сыном Хафсы. Было ли это так на самом деле, и узнал ли об этом Селим, и знает ли ктонибудь наверняка? Гарем навеки хоронит все свои тайны, его ворота заперты так же крепко, как крепко сжаты эти прекрасные уста, которые не хотят промолвить Ибрагиму ни слова, а первым он заговорить не смеет.
Наконец валиде решила, что молчание затянулось.
– Вы хотели со мной поговорить. О чем же? Я слушаю.
Ее манера говорить шла к ее внешности: порывистость, небрежность, слова налетают одно на другое, словно бы губы стремятся как можно быстрее вытолкнуть их на волю, чтобы снова замкнуться в молчании длительном и упорном.
В вопросе валиде Ибрагим мог учуять что угодно: недовольство тем, что ее потревожили, гнев на человека столь низкого в сравнении с ее собственным положением, обыкновенное равнодушие. Не было там только любопытства, истинного желания узнать, что же он ей скажет.
Ибрагим пытался уловить хотя бы отдаленное сходство между валиде и Сулейманом. Не находил ничего. Даже совсем чужие люди, длительное время проживая вместе, перенимают друг от друга то какой-то жест, то улыбку, то взмах брови, то какое-нибудь слово или восклицание. Тут не было ничего, либо двое напрочь чужих и враждебных друг другу людей, либо уж такие сильные личности, что не могут принять ни от кого ни достоинств, ни недостатков. Он чувствовал отчужденность валиде и понял, что она приготовилась в случае чего и к отпору, и к мести, хотя внешне была сплошная доброжелательность. «Они замышляли хитрость, и мы замышляли хитрость, а они и не знали». Женщины не читают Корана. Но женщинам можно читать Коран, приводя высказывания из него. Ибрагим как раз вовремя, чтобы его молчание не перешло в непочтительность, нашел нужные слова:
– «Кто приходит с хорошим, тому еще лучше…»
А поскольку валиде молчала, то ли не желая отвечать на слова Корана, то ли выжидая, что Ибрагим скажет дальше, добавил:
– «А кто приходит с дурным, лики тех повергнуты в огонь». Она продолжала молчать, еще упрямее сжимала свои темные губы, бросала на Ибрагима взгляды, острые, как стрелы, обстреливала его со всех сторон быстро, умело, метко.
– «Только вы своим дарам радуетесь», – снова обратился он к спасительным словам из книги ислама.
– Так, – наконец нарушила она невыносимое свое молчание. – Подарок? Ты хочешь получить какой-то подарок? Какой же?
– Не я, ваше величество. Не для меня подарок.
Ощущал необычную скованность. Намного проще было бы тогда, ночью, сказать по-мужски Сулейману: «Приобрел редкостную рабыню. Хочу тебе подарить. Не откажешься?» Как сам Сулейман еще в Манисе подарил ему одну за другой двух одалисок, довольно откровенно расхваливая их женские достоинства.
– Для кого же? – спросила валиде, и теперь уже не было никакого отступления.
– Я хотел посоветоваться с вами, ваше величество. Мог ли бы я подарить для гарема светлейшего султана, где вы властвуете, как львица, удостоенная служения льву власти и повелений, подарить для этого убежища блаженств редкостную рабыню, которую я приобрел с этой целью у почтенного челеби, прибывшего из-за моря?
– Редкостную чем – красотой?
– Нравом своим, всем существом.
– Такие подарки – только от доверенных.
– Я пришел посоветоваться с вами, ваше величество.
Она не слушала его.
– Доверенными в делах гарема могут быть только евнухи.
Он пробормотал:
– «…а если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас…» Она и дальше не слушала его. А может, делала вид, что не слушает?
Спросила вдруг:
– Почему ты захотел подарить ее султану?
– Уже сказал о ее редкостном нраве.
– Этого слишком мало.
– Ходят слухи, что она королевская дочь.
– Кто это сказал? Она сама?
– Люди, которым я верю. И ее поведение.
– Какое может быть поведение у рабыни?
– Ваше величество, это необычная рабыня!
Она была упряма в своем упорстве:
– Когда куплена рабыня?
Ибрагим смутился:
– Недавно.
– Все равно ведь я узнаю. Негоже с Бедестана вести рабыню в Баб-ус-сааде. Она должна быть должным образом подготовлена, чтобы переступить этот высокий порог.
Валиде долго молчала. Нечего было добавить и Ибрагиму. Наконец резные губы темно шевельнулись:
– Она нетронута?
– Иначе я не посмел бы, ваше величество! «И вложи руку свою за пазуху, она выйдет белой без всякого вреда…»
Валиде снова погрузилась в молчание, теперь особенно длительное и тяжелое для Ибрагима. Наконец встрепенулась и впервые за все время глянула на него лукаво, подлинно по-женски:
– Ты не справился с нею?
У Ибрагима задергалась щека.
– Уже покупая, я покупал ее для его величества! Заплатил двойную цену против той, какую запросил челебия. Бешеную цену! Никто бы не поверил, если назвать.
Она его не слушала и уже смеялась над ним.
– Тебе надо для гарема старую, опытную женщину. Иначе там никогда не будет порядка. Помощи от евнухов ты не хотел, потому что ненавидишь евнухов. Я знаю.
Помолчала – и потом неожиданно:
– Я пошлю проверить ее девственность. Ты возьмешь с собой евнухов.
– Сейчас?
– Откладывать нельзя.
– Я бы мог попросить вас, ваше величество?
– Ты уже попросил – я дала согласие.
– Кроме того. Чтобы об этом знали только мы.
– А рабыня?
– Она еще совсем девочка.
Валиде строптиво вскинула голову. Пожалела о своей несдержанности, но уже не поправишь. Может, вспомнила, что и ее привезли в гарем шах-заде Селима тоже девочкой. До сих пор еще не была похожей на мать султана Сулеймана. Скорее старшая сестра. Всего лишь шестнадцать лет между матерью и сыном. В сорок два года она уже валиде.
Память начинается в человеке намного раньше всех радостей и несчастий, которые суждено ему пережить.
Она встала. Была такого же роста и так же тонка и изящна, как Рушен. Ибрагим почему-то подумал, что они должны понравиться друг другу. Поклонился валиде, проводил ее до перехода в святая святых.
Волочить за собой евнухов было противно, но доверить это дело никому не посмел. Молча проехал со своей свитой сквозь врата янычар, мимо темной громады Айя-Софии, мимо обелисков ипподрома. Дома прогнал слуг, свел евнухов валиде со своими, пошел от них на мужскую половину, ждал пронзительного девичьего крика, стонов, рыданий, но наверху царила тишина, и он не вытерпел, пошел туда. Черные евнухи с одеждой Рушен в руках ошалело гонялись за ней по тесной полутемной комнате, а девушка, встряхивая своими небрежно распущенными волосами, изгибаясь спиной и бедрами, убегала от них, из груди ее вырывался не то смех, не то всхлип, глаза пылали зеленым огнем, точно хотели испепелить нечестивцев, ноздри трепетали в изнеможении и отчаянье. Увидев Ибрагима, Рушен показала на него пальцем, затряслась в нервном смехе.
– И этот пришел! Чего пришел?
– Посмотреть на тебя в последний раз! – спокойно сказал Ибрагим.
– В первый!
– Да. Но и в последний!
– Так гляди. Те уже глядели! Искали во мне. Чего они искали?
Вели теперь удушить меня, как это у вас водится. – Не угадала. Пришли взять тебя в подарок.

Бассейн гарема. Художник Рудольф Эрнст
– Подарок? Разве я неживая?
– Имей терпение дослушать. Хочу тебе большого счастья.
– Счастья? Здесь?
– Не здесь. Поэтому и дарю тебя самому султану. В гарем падишаха.
– В гарем султана? Ха-ха-ха! Тогда зачем же раздевал?
– Посмотреть на твое тело.
– А что скажет султан?
– Должна молчать об этом. А теперь прощай. И оденься.
Он отвернулся и направился к ступенькам.
«И порядочные женщины благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Аллах».








