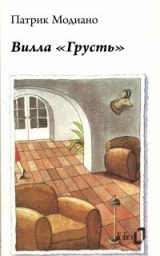
Текст книги "Вилла "Грусть""
Автор книги: Патрик Модиано
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Перед уходом она нежно погладила его и бросилась мне на шею:
– Мы как будто попали в сказку, тебе так не кажется? – спросила она.
И потребовала, чтобы я вставил монокль. Я не стал возражать ради такого случая.
Мейнт надел светло-зеленый костюм очень нежного, приятного оттенка. Всю дорогу до Вуарена он издевался над членами жюри. Кудрявого звали, оказывается, Раулем Фоссорье, он ведал туристическим обслуживанием. Брюнетка была женой президента шавуарских игроков в гольф и действительно неровно дышала к "жирной свинье" Дуду Хендриксу. "Этот тип, – возмущался Мейнт, – уже тридцать лет строит глазки прекрасным лыжницам". (Совсем как герой Ивонниного фильма, подумал я.) Хендрикс в 1943 году был чемпионом сборной и соревнований "Серны" в Межеве, но в пятьдесят лет и он из Аполлона превратился в сатира. Рассказывая, Мейнт то и дело обращался к Ивонне с неприятной насмешливой улыбкой: "Верно я говорю? Ведь верно?" Будто на что-то намекая. На что? И откуда они с Ивонной знают такие подробности об этих людях?
Мы поднялись на террасу "Святой Розы". Здесь Ивонну встретили довольно жидкими аплодисментами. Хлопали лишь несколько человек за одним из столиков, во главе которого сидел Хендрикс. Он приветственно махал нам. Фотограф ослепил нас вспышкой. Хозяин, вышеупомянутый Пулли, почтительно усадил нас и через некоторое время преподнес Ивонне орхидею. Она поблагодарила.
– В такой знаменательный день я должен благодарить за оказанную мне честь, мадемуазель. Ура! – проговорил он с сильным итальянским акцентом. Затем поклонился Мейнту.
– Господин?.. – он улыбнулся одной стороной рта, как бы прося прощения за то, что не может назвать меня по имени.
– Виктор Хмара.
– Ах... Хмара?.. В самом деле?
Он удивленно сдвинул брови.
– Господин Хмара?
– Да.
Он как-то странно взглянул на меня.
– Одну минуту, и я буду к вашим услугам, господин Хмара!
Он поспешно спустился в бар.
Ивонна сидела рядом с Хендриксом, а мы с Мейнтом напротив них. Среди сидящих за столом я узнал брюнетку, Тунетту и Жаки Ролан-Мишель, седого коротко остриженного мужчину с решительным лицом. Он – то ли летчик, то ли военный в отставке, а ныне скорей всего глава игроков в гольф. Рауль Фоссорье на другом конце стола ковырял в зубах спичкой. Всех остальных, в том числе и двух очень загорелых блондинок, я видел впервые.
Посетителей в "Святой Розе" было мало. Они соберутся попозже, после полуночи. Оркестр наигрывал мотив очень популярной в то время песни, и один из музыкантов тихонько напевал слова:
Любовь к нам на день лишь приходит
Любовь проходит
Любовь проходит...
Хендрикс правой рукой обнял Ивонну за плечи, и я не мог понять, к чему он клонит. Я обернулся к Мейнту. Его глаз не было видно за темными стеклами новых очков в массивной роговой оправе. Он нервно барабанил пальцами по столу. И я не решился ни о чем его спросить.
– Так ты довольна, что получила кубок? – ласково говорил Хендрикс. Ивонна смущенно взглянула на меня.
– Я ведь тут тоже руку приложил...
Да нет, он не так уж плох. Вечно я отношусь ко всем с предубеждением.
– Фоссорье был против. Эй, Рауль? Ты же правда был против?
И Хендрикс захохотал. Фоссорье с подчеркнутым достоинством покуривал сигарету.
– Да нет же, Даниэль, нет. Ты не так понял...
В его манере говорить мне послышалось что-то отвратительное.
– Врешь! – гаркнул Хендрикс, причем без малейшей злобы.
Чем рассмешил брюнетку, обеих блондинок (я сейчас вдруг вспомнил, что одну из них звали Мэг Девилье) и даже отставного офицера-кавалериста, Ролан-Мишели тоже засмеялись вместе со всеми, но как-то принужденно. Ивонна подмигнула мне. Мейнт по-прежнему барабанил по столу.
– Твои любимчики, – продолжал Хендрикс, – Жаки и Тунетта. Верно, Рауль? – и прибавил, обращаясь к Ивонне: – Ты должна как победительница подать руку проигравшим соперникам, нашим уважаемым Ролан-Мишель...
Ивонна так и сделала... Жаки изобразил на лице веселую улыбку, но Тунетта Ролан-Мишель взглянула на Ивонну мрачно, с видимой неприязнью.
– Это что, один из твоих поклонников? – спросил Хендрикс, указывая на меня.
– Мой жених, – отрезала Ивонна.
Мейнт вскинул голову. Левая скула и угол рта снова дернулись.
– Мы позабыли представить тебе нашего друга, – жеманно протянул он. Знакомься, граф Виктор Хмара.
Он произнес это с ударением на слове "граф", предварительно выдержав эффектную паузу.
– Перед вами, – обернулся он ко мне, – один из мастеров французского лыжного спорта: Даниэль Хендрикс.
Хендрикс улыбался, но я почувствовал, что он опасается какой-нибудь неожиданной выходки со стороны Мейнта. Он ведь знал его не первый год.
– Разумеется, дорогой Виктор, вы так молоды, что это имя вам ничего не говорит, – продолжал Мейнт.
Все насторожились.
Хендрикс с притворным равнодушием готовился к схватке.
– Я полагаю, вас еще и на свете не было, когда Даниэль Хендрикс одержал первую победу.
– Ну зачем вы так, Рене? – спросил Фоссорье вкрадчивым сладеньким голоском, причмокивая, словно ел на ярмарке восточные сладости.
– Я сама присутствовала на этих соревнованиях, – заявила одна из загорелых блондинок, а именно Мэг Девилье, – это было не так уж давно.
Хендрикс пожал плечами и, воспользовавшись тем, что оркестр заиграл фокстрот, отправился с Ивонной танцевать. Фоссорье с Мэг Девилье последовали за ними. Директор гольф-клуба пригласил вторую загорелую блондинку. Ролан-Мишели, взявшись за руки, тоже вышли на танцплощадку. Мейнт подал руку брюнетке:
– Что ж, давайте и мы потанцуем?..
За столом остался я один. Я все смотрел на Ивонну с Хендриксом. Издалека он выглядел довольно представительным: в нем было метр восемьдесят – метр восемьдесят пять росту, и при мягком освещении на сиреневой танцплощадке его лицо казалось не таким одутловатым и пошлым. Он из кожи вон лез, увиваясь за Ивонной. Как поступить? Врезать ему? У меня задрожали руки. Я, конечно, мог бы напасть на него внезапно и, воспользовавшись замешательством, надавать по морде. Или подойти сзади и разбить об его голову бутылку. Но зачем? Во-первых, ей я буду смешон. А во-вторых, такие поступки мне несвойственны: я человек смирный, угрюмый и довольно-таки малодушный.
Оркестр заиграл другую мелодию, помедленнее, пары продолжали танцевать. Хендрикс так и льнул к Ивонне: как может она ему все это позволять? Я ждал, что она потихоньку подмигнет мне, улыбнется, даст понять, что мы с ней заодно. Но ждал напрасно. Пулли, деликатный толстяк-хозяин, неслышно подошел к моему столику и остановился рядом, опершись на спинку соседнего стула. Он хотел заговорить со мной, но не решался. Меня тяготило его присутствие.
– Господин Хмара... Господин Хмара...
Из вежливости я обернулся.
– Скажите, вы не из семьи александрийских Хмара?
Он склонился и буквально пожирал меня глазами, и тут я понял, откуда взялась эта фамилия, хотя мне казалось, что я выдумал ее сам: она принадлежала одному семейству в Александрии, о котором отец мне часто рассказывал.
– Да. Это мои родственники, – ответил я.
– Так вы египтянин?
– Да, отчасти.
Он растроганно улыбнулся. Ему так хотелось еще расспросить меня, и я мог бы, конечно, рассказать ему о вилле Сиди-Бирш, в детстве я прожил там несколько лет, о дворце Абадина и таверне "Пирамиды", обо всем этом я сохранил довольно смутное воспоминание. Мог бы и сам спросить его, не родственник ли он одному из сомнительных знакомых моего отца, некоему Антонио Пулли, доверенному лицу и "секретарю" короля Фарука. Но я был слишком увлечен наблюдением за Ивонной и Хендриксом.
Она все танцевала с крашеным перестарком – волосы он красит, это точно! Может быть, она делает это с какой-то конкретной целью, и, когда мы останемся одни, она мне все объяснит? А может быть, просто так, без всякой цели. А если она обо мне забыла? Моя личность казалась мне такой недостоверной, что даже мелькнула мысль, а вдруг она сделает вид, что мы с ней незнакомы. Пулли сел на стул Мейнта.
– Я в Каире знавал Анри Хмару... Мы виделись каждый вечер "У Гроппи" или в "Мена-Хаусе".
Можно подумать, он доверяет мне тайну государственной важности.
– Постойте... Как раз в том году король появлялся повсюду с одной французской певицей... Знаете эту историю?
– Да, конечно...
Он перешел на шепот, боясь каких-то невидимых соглядатаев.
– А вы тоже бывали там?
Слабый розовый свет освещал теперь танцплощадку. На мгновение я потерял из виду Ивонну с Хендриксом, но вот они снова показались. Их закрывали от меня танцующие: Мейнт, Мэг Девилье, Фоссорье и Тунетта Ролан-Мишель. Последняя, выглядывая из-за плеча мужа, сделала им какое-то замечание. Ивонна рассмеялась в ответ.
– Вы же знаете, о Египте невозможно забыть. Невозможно... Иногда по вечерам я вообще не могу понять, зачем остался здесь...
Я тоже вдруг перестал понимать, зачем я здесь, а не в "Липах" с моими старыми газетами и телефонными справочниками? Он положил мне руку на плечо:
– Я готов отдать что угодно за то, чтобы вновь очутиться на террасе "Паструдиса"... Разве можно забыть о Египте?
– Но "Паструдиса", наверно, больше нет, – пробормотал я.
– Вы уверены?
На площадке Хендрикс, воспользовавшись темнотой, гладил Ивонну пониже спины.
Мейнт направился к нашему столику. Без дамы. Брюнетка уже танцевала с другим кавалером. Рухнул на стул.
– Ну, о чем мы тут болтаем? – сняв в темноте очки, он посмотрел на меня с ласковой улыбкой. – Держу пари, Пулли рассказывал вам свои арабские сказки.
– Этот господин родом из Александрии, так же как и я, – сухо парировал Пулли.
– Правда, Виктор?
Хендрикс пытался поцеловать ее в шею, но она не давалась. Отклонялась назад.
– Пулли уже десять лет хозяин этого заведения, – сказал Мейнт. – Зимой он работает в Женеве. И, представляете, до сих пор не привык к горам.
Он заметил, что я наблюдаю за тем, как Ивонна танцует, и пытался меня отвлечь.
– Приезжайте как-нибудь зимой в Женеву, Виктор, и я обязательно свожу вас к нему. Пулли в точности воспроизвел обстановку одного каирского ресторанчика. Как там он назывался?
– "Хедиваль".
– В "Хедивале" Пулли чувствует себя как в своем любимом Египте, а здесь у него на душе кошки скребут. Правда, Пулли?
– Чертовы горы!
– Кошки скребут, – напевал Мейнт, – кошек прогнать... Брысь, кошки, брысь! Брось свою грусть!
Начался новый танец. Мейнт склонился ко мне:
– Не обращайте на них внимания, Виктор.
Вернулись Ролан-Мишели. Потом Фоссорье и Мэг Девилье. Наконец, пожаловали Ивонна с Хендриксом. Она села рядом со мной и взяла меня за руку. Стало быть, не забыла обо мне. Хендрикс с любопытством меня разглядывал.
– Так, значит, вы жених Ивонны?
– Именно так, – ответил за меня Мейнт, – и если ничего не случится, она в скором времени станет графиней Ивонной Хмара. Что скажешь?
Он подначивал Хендрикса, но тот продолжал улыбаться.
– Звучит неплохо, получше, чем Ивонна Хендрикс, не так ли? – добавил Мейнт.
– А чем, собственно, занимается молодой человек? – с важностью вопросил Хендрикс.
– Ничем, – ответил я, вставляя в левый глаз монокль, – ничем, абсолютно ничем.
– А ты уж думал, что молодой человек непременно тренер по лыжному спорту или делец, как ты? – продолжал нападать Мейнт.
– Заткнись, или я изорву тебя на мелкие кусочки, – сказал Хендрикс, и непонятно было, в шутку он угрожает или всерьез.
Ивонна указательным пальцем водила по моей ладони и думала о чем-то своем. О чем? Когда одновременно пришли брюнетка, ее муж с решительным лицом и вторая блондинка, напряжение не ослабло. Все искоса поглядывали на Мейнта, ожидая, что он выкинет. Обругает Хендрикса? Съездит ему по лицу пепельницей? Устроит скандал? Глава игроков в гольф наконец спросил его со светской непринужденностью:
– Вы по-прежнему практикуете в Женеве, доктор?
Мейнт, как примерный ученик, сейчас же отозвался:
– Да, господин Тессье.
– Вы ужасно напоминаете мне вашего отца...
– О нет, что вы, – возразил Мейнт с печальной улыбкой. – Мой отец был гораздо лучше меня.
Ивонна прислонилась ко мне плечом, и это простое прикосновение очень меня взволновало. А кем был ее отец? Хотя Хендрикс относился к Ивонне неплохо (точнее, лапал ее во время танцев), я обратил внимание, что Тессье с супругой и Фоссорье просто не замечают ее. Так же, как и Ролан-Мишели. Я даже уловил, с какой презрительной усмешкой взглянула на Ивонну Тунетта Ролан-Мишель, когда та подала ей руку. Ивонна явно не их круга. К Мейнту они, напротив, относились как к равному и даже готовы были многое ему простить. А ко мне? Быть может, они считали меня тинейджером, поклонником рок-н-ролла? А может, и нет. Мой важный вид, монокль и дворянский титул пробуждали в них некоторое любопытство. Особенно в Хендриксе.
– Вы были чемпионом по лыжному спорту? – спросил я его.
– Да, – сказал Мейнт, – когда-то в незапамятные времена.
– Представьте, – начал Хендрикс и взял меня за локоть, – я знал этого молокососа (он указал на Мейнта), когда ему было пять лет. Он играл в куклы...
К счастью, в этот момент оркестр грянул "ча-ча-ча". Время перевалило за полночь, и заведение наполнилось посетителями. На танцплощадке толклась куча народу. Хендрикс подозвал Пулли:
– Принеси нам шампанского и дай знак оркестру.
Он подмигнул Пулли, а тот в ответ приставил руку ко лбу, как бы отдавая честь.
– Скажите, доктор, аспирин помогает при нарушении кровообращения? спросил глава игроков в гольф. – Я что-то читал об этом в "Науке и жизни".
Мейнт не расслышал вопроса. Ивонна положила мне голову на плечо. Музыка смолкла. Пулли принес поднос с бокалами и две бутылки шампанского. Хендрикс встал и поднял руку. Танцующие и все прочие обернулись в нашу сторону.
– Дамы и господа, – провозгласил Хендрикс, – мы пьем за здоровье счастливой обладательницы кубка "Дендиот" мадемуазель Ивонны Жаке.
Он знаком попросил Ивонну встать. Мы все чокались стоя. На нас устремилось столько глаз, что от смущения я закашлялся.
– А теперь, дамы и господа, – торжественно продолжил Хендрикс, – я прошу вас поприветствовать юную и очаровательную Ивонну Жаке.
Вокруг нас раздались крики: "Браво!" Она, застеснявшись, прижалась ко мне. Я уронил монокль. Пока аплодисменты не стихли, я стоял совсем неподвижно, уставившись на густые волосы Фоссорье, причудливо переплетавшиеся бесчисленными серебристо-голубыми кольцами, словно чеканка на искусно выделанном шлеме.
Оркестр снова заиграл. Нечто среднее между неторопливым "ча-ча-ча" и мотивом песни "Весна в Португалии".
Мейнт поднялся:
– Если вы не возражаете, Хендрикс (он впервые обращался к нему на "вы"), я вас покину, вас и все это изысканное общество, – он обернулся к нам с Ивонной, – я подвезу вас?
Я покорно кивнул. Ивонна тоже поднялась. Пожала руку Фоссорье и главе игроков в гольф, но не осмелилась попрощаться с Ролан-Мишелями и загорелыми блондинками.
– Так когда они поженятся? – спросил Хендрикс, указывая на нас пальцем.
– Как только уедем из этой сраной, поганой французской деревеньки! вдруг выпалил я.
У них всех глаза на лоб полезли.
Зачем я так глупо и грубо обругал французскую деревню? Мне до сих пор это непонятно и до сих пор стыдно. Даже Мейнт, казалось, не ожидал от меня такого и огорчился.
– Идем, – сказала Ивонна и взяла меня за руку.
Хендрикс, онемев от изумления, таращился на меня.
Я нечаянно толкнул Пулли.
– Вы уже уходите, господин Хмара?
Он сжал мою руку и пытался удержать.
– Я еще приду к вам, приду, – бормотал я.
– Да-да, пожалуйста! Мы поговорим обо всем этом, – и он неопределенно взмахнул рукой.
Мы прошли через танцплощадку. Мейнт шел за нами. Из-за световых эффектов казалось, что на танцующих крупными хлопьями падает снег. Ивонна тащила меня за собой, и мы с трудом пробрались сквозь толпу.
Перед тем как спуститься вниз, я в последний раз оглянулся на оставшихся.
Я остыл и теперь раскаивался, что не смог совладать с собой.
– Ну что, идем? Идем? – торопила меня Ивонна.
– О чем вы задумались, Виктор? – спросил Мейнт, похлопав меня по плечу.
Я стоял на верхней ступеньке и снова, как завороженный, глядел на шевелюру Фоссорье. Такую блестящую. Должно быть, он обрызгивал волосы каким-то фосфоресцирующим лаком. Каким терпением и трудолюбием надо обладать, чтобы каждое утро возводить этот серебристо-голубой фигурный торт.
В машине Мейнт сказал, что мы глупейшим образом провели этот вечер. А виноват во всем Даниэль Хендрикс, который советовал Ивонне прийти – мол, будет присутствовать все жюри и куча журналистов. "Этому подонку ни в чем нельзя верить".
– И нечего оправдываться, милая моя, ты это прекрасно знала, – с раздражением добавил Мейнт. – Он хотя бы призовой чек тебе дал?
– Конечно, дал.
И они поведали мне всю закулисную сторону этого торжественного мероприятия: Хендрикс открыл соревнования на кубок "Улиган" пять лет назад. И устраивал их зимой, то в Альп-д'Юезе, то в Межеве. Занялся он этим из снобизма, пригласив в жюри несколько знаменитостей, и из тщеславия (газеты, рассказывая о соревнованиях, упоминали и о нем, Хендриксе, и о его спортивных подвигах), а также потому, что был лаком до красивых девочек. Какая дурочка устоит, пообещай ей кубок? Призовой чек был на восемьсот тысяч франков. В жюри Хендрикс распоряжался как у себя дома. Фоссорье же очень хотелось, чтобы конкурс на изысканный вкус, проходящий ежегодно с неизменным успехом, привлекал побольше внимания к "Турсервису". Потому эти достойные люди втайне подсиживали друг друга.
– Так-то вот, дорогой мой Виктор, – заключил Мейнт, – видите, какие это провинциальные ничтожества.
Он обернулся и одарил меня печальной улыбкой. Мы проезжали мимо казино. Ивонна попросила Мейнта остановиться и высадить нас здесь, а до гостиницы мы дойдем пешком.
– Пусть кто-нибудь из вас позвонит мне завтра. – Кажется, Мейнт огорчился, что остается в одиночестве. Высунувшись наружу, он добавил: Забудьте об этом гнусном вечере.
Потом резко завел мотор и уехал, будто хотел поскорей скрыться с глаз долой. Когда он свернул на улицу Руаяль, я задумался: где-то он проведет ночь?
Некоторое время мы любовались фонтаном с меняющейся подсветкой. Мы подошли к нему совсем близко, и водяная пыль обрызгала наши лица. Я хотел столкнуть Ивонну в фонтан. Она отбивалась и визжала. Затем тоже попыталась внезапно столкнуть меня. Наш смех отдавался эхом на пустынной площади. Неподалеку в "Таверне" официанты расставляли последние столики. Было около часа ночи. Меня пьянили теплый воздух и мысль о том, что еще только начало лета и впереди у нас много-много времени, чтобы гулять по вечерам или сидеть в своем номере, слушая, как мерно скачет глупый теннисный мяч.
На втором этаже казино за оконным стеклом горел свет. В зале для игры в баккара мелькали силуэты людей. Мы обошли вокруг здания, на фасаде которого было выведено округлыми буквами: "Казино", и постояли у входа в бар "Бруммель", откуда доносилась музыка. В то лето повсюду играла музыка и все пели песни, причем одни и те же.
Мы шли по левой стороне проспекта д'Альбиньи мимо городского парка. Мимо нас изредка то туда, то сюда проезжали машины. Я спросил Ивонну, зачем она позволяла Хендриксу хватать себя за попу. "Подумаешь!" ответила она. Надо же было как-то отблагодарить Хендрикса, за то что он дал ей кубок и чек на восемьсот тысяч франков. Я сказал, что, по-моему, свою попу следует ценить дороже восьмисот тысяч франков, тоже мне, большая важность – кубок "Дендиот" за изысканный вкус! Тьфу! Никто и не слыхал о таком кубке, кроме горстки каких-то провинциалов, затерявшихся на берегах забытого Богом озера. Смешно сказать! Жалкая награда! Разве я неправ? К тому же какой изысканный вкус может быть в этой "савойской дыре"? А? Она ядовито прошипела, что Хендрикс "очень сексуален" и с ним было приятно танцевать. Я ответил, стараясь говорить отчетливо, но все равно от волнения глотая слова, что Хендрикс – набитый дурак, плюгавый, как все французы. "Ты и сам француз", – сказала она. – "Нет! Нет! Я не имею с вами ничего общего. У французов нет настоящей знати, настоящего..." Она расхохоталась. Я нисколько ее не смутил. Тогда я ей заявил нарочито ледяным тоном, что впредь ей лучше не особенно хвастаться кубком "Дендиот" за изысканный вкус, иначе ее засмеют, а ей это вряд ли понравится. Сотни девушек получили такие смехотворные призы и канули в Лету. Сколько их снималось в бездарных фильмах вроде "Liebesbriefe auf dem Berg". И на этом заканчивало карьеру киноактрисы. Много званых. Мало избранных. "Ты считаешь этот фильм бездарным?" – спросила она. "Конечно". На этот раз, кажется, мое замечание ее задело. Она умолкла. Мы сели на скамейку в шале и стали ждать фуникулера. Она тщательно порвала пустую пачку от сигарет. На пол полетели мелкие, как конфетти, клочки бумаги. Меня так растрогала ее старательность, что я стал целовать ей руки.
Фуникулер застрял, не дойдя до остановки "Сен-Шарль-Карабасель". Наверно, сломался, и в такой час чинить его некому. Она была страстной, как никогда. Мне показалось, что все-таки я ей небезразличен. Изредка мы выглядывали в окно и видели небо, а далеко внизу – крыши и озеро. Светало.
На следующий день на третьей странице "Эко-Либерте" появилась большая статья под названием: "Кубок "Дендиот" за изысканный вкус присужден в пятый раз".
"Вчера около полудня в "Спортинге" многочисленная публика с интересом следила за соревнованиями на кубок "Дендиот". В прошлом году они проходили зимой в Межеве, а теперь устроители перенесли их на летний курорт. Еще ни разу соревнования не проходили в такой радостный солнечный день. Большинство зрителей пришло в купальниках. Среди них был господин Жан Марша из "Комеди-Франсез", приехавший поставить на сцене театра казино спектакль "Послушайте же, господа...".
Жюри, по обыкновению, состояло из различных знаменитостей. Опытнейший знаток изысканного вкуса господин Андре де Фукьер любезно согласился его возглавить; не будет преувеличением сказать, что последние пятьдесят лет господин де Фукьер – и в Париже, и в Довиле, и в Каннах, и в Туке – душа изысканнейшего общества и мерило вкуса.
Под его началом объединились: Даниэль Хендрикс, всем известный чемпион и попечитель соревнований, Фоссорье, глава "Турсервиса", Гамонж, деятель кино, г-н и г-жа Тессье из гольф-клуба, г-н и г-жа Сандоз из "Виндзора", г-н супрефект П.А.Рокевильяр. Все сожалели об отсутствии танцовщика Хосе Торреса, который в последний момент не смог приехать.
В соревнованиях участвовали достойнейшие, в частности, г-н и г-жа Ролан-Мишель, каждое лето приезжающие из Лиона в наши края и отдыхающие на своей вилле в Шавуаре. Они обратили на себя всеобщее внимание и были встречены бурными аплодисментами.
Но после нескольких туров голосования пальму первенства присудили мадемуазель Ивонне Жаке, очаровательной двадцатидвухлетней девушке в белом платье, с рыжими волосами, появившейся в сопровождении огромного дога. Ее изящество и оригинальность произвели глубокое впечатление на судей.
Мадемуазель Ивонна Жаке родилась и выросла в нашем городе. Ее родители тоже уроженцы наших мест. Она недавно дебютировала в фильме, снимавшемся неподалеку отсюда одним австрийским режиссером. Пожелаем мадемуазель Жаке, нашей землячке, счастья и успехов.
Ее спутником был г-н Рене Мейнт, сын доктора Генри Мейнта. Это имя для многих из нас столько значит... Доктор Генри Мейнт принадлежал к старинному савойскому роду и был одним из настоящих героев и мучеников Сопротивления. Его именем названа одна из улиц нашего города".
К статье прилагался большой снимок. Нас сфотографировали в "Святой Розе", как раз когда мы входили. Мы с Ивонной оказались на первом плане, Мейнт чуть поодаль. Подпись под снимком поясняла: "Мадемуазель Ивонна Жаке, г-н Рене Мейнт и их друг граф Виктор Хмара". Снимок получился очень четким, хотя и был напечатан на газетной бумаге. Мы с Ивонной очень серьезные. Мейнт улыбается. Все трое уставились куда-то за горизонт. Эту фотографию я носил с собой многие годы. Однажды вечером я с грустью смотрел на нее и вдруг схватил красный карандаш и вывел наискось: "Герои дня".
8
– Наисветлейшего портвейну, малыш... – повторяет Мейнт.
Барменша в недоумении:
– Наисветлейшего?
– Да, самого-самого светлого.
Но звучит это как-то неубедительно.
Он отирает ладонью свои небритые щеки. Двенадцать лет тому назад он брился два-три раза в день. В бардачке "доджа" всегда валялась электробритва, по его словам, она ему не годилась, слишком уж у него жесткая щетина. Самые прочные лезвия не берут. Ломаются.
Барменша возвращается с бутылкой "Сандемана" и наливает ему рюмку:
– У меня нет наисветлейшего... – она произносит "наисветлейшего" шепотом, словно это неприличное слово.
– Не беда, малыш, – отвечает Мейнт с улыбкой.
И мгновенно молодеет. Он дует в стакан и смотрит на рябь в нем.
– Малыш, а у вас соломинки не найдется?
Она нехотя, насупившись, приносит ему соломинку. Ей лет двадцать – не больше. Она, должно быть, думает: "До каких пор этот болван собирается здесь торчать? А вон тот, клетчатый, в углу?" Каждый вечер в одиннадцать часов она заступает на место Женевьевы, которая еще в начале шестидесятых стояла весь день за стойкой в "Спортинге". Миниатюрная блондинка. Кажется, у нее были шумы в сердце.
Мейнт оглянулся на клетчатого. Самое примечательное в нем – это пиджак в клетку. В остальном – полное ничтожество. Носатый, с черными усиками и темными волосами, зачесанными назад. Только что казалось, что он в дымину пьян, а теперь сидит как ни в чем не бывало, с едва заметной самодовольной ухмылкой.
– Прошу соединить меня, – говорит он неуверенно, с трудом ворочая языком, – с номером 233 в Шамбери...
Барменша набирает номер. На том конце провода кто-то берет трубку. Но клетчатый сидит не шелохнувшись.
– Послушайте, там ведь подошли, – беспокоится барменша.
Но он замер, вытаращив глаза и слегка выставив подбородок.
– Эй!
Застыл как изваяние. Она вешает трубку. Ей, наверное, не по себе. Эти двое какие-то странные... Мейнт смотрит на клетчатого нахмурившись. Через некоторое время тот произносит еще невнятней:
– Прошу меня соединить...
Барменша только фыркает. Тогда Мейнт сам набирает номер. Ему отвечают, и он протягивает трубку клетчатому, но тот по-прежнему неподвижен. Смотрит на Мейнта, вытаращив глаза.
– Берите, берите трубку, – бормочет Мейнт.
Наконец кладет трубку на стойку и недоуменно разводит руками.
– Вам, должно быть, спать хочется, малыш? – спрашивает он барменшу. Простите, если задержал вас.
– Да нет. Мы все равно раньше двух не закроем... Еще придет куча народу.
– Куча народу?
– Какой-то конгресс. Все сюда явятся.
Она наливает себе кока-колы.
– Тут скучновато зимой, да? – замечает Мейнт.
– Я-то в Париж уеду! – злобно заявляет она.
– И правильно сделаете.
Клетчатый позади них щелкает пальцами.
– Будьте добры, налейте мне еще стаканчик и наберите, пожалуйста, номер 233 в Шамбери.
Мейнт опять набирает номер и, не оборачиваясь, кладет трубку рядом с собой на табурет. Девица истерически хохочет. Мейнт поднимает глаза и видит пожелтевшие фотографии Эмиля Алле и Жана Кутте над бутылками аперитива. К ним прибавился портрет Даниэля Хендрикса, погибшего несколько лет назад в автомобильной катастрофе. Его повесила, конечно, Женевьева, другая барменша. Она была влюблена в Хендрикса в те времена, когда работала в "Стортинге". Во времена соревнований на кубок "Дендиот".
9
Где теперь валяется этот кубок? В каком шкафу? Среди какого хлама? В последнее время он служил нам пепельницей. Танцовщица стояла на подставке с небольшим бортиком. Мы туда стряхивали пепел. Должно быть, мы забыли кубок в гостинице, не могу понять, как я, с моей привязчивостью к вещам, умудрился его не взять.
Впрочем, поначалу Ивонна им вроде бы дорожила. Поставила его на самое видное место, на стол в гостиной. Все-таки первая ее награда. Потом пойдут "Виктории" и "Оскары". Когда-нибудь она с умилением вспомнит о нем в интервью – я не сомневался, что Ивонна станет кинозвездой. А пока что мы прикололи на стену в ванной большую статью из "Эко-Либерте".
Мы целыми днями ничего не делали. Вставали довольно рано. В утреннем тумане, вернее, в голубоватой дымке, нам казалось, что мы преодолели земное притяжение. Мы становились такими легкими... Спускаясь по бульвару Карабасель, едва касались тротуара. Девять часов. Скоро солнце рассеет эту нежную дымку. На пляже "Спортинга" ни души. Только мы и еще молодой человек в белом, выдающий зонтики и шезлонги. Ивонна надевала раздельный отливающий розовым купальник, а я – ее полосатый красно-зеленый халат. Она бросалась вплавь. Я смотрел на нее. Пес тоже не отрывал от нее глаз. Она смеялась, махала мне рукой, кричала: "Плыви ко мне!" А я думал о том, что такое счастье не может длиться вечно и завтра неминуемо случится беда. 12 июля 1939 года, соображал я, парень вроде меня, в таком же купальном полосатом халате, смотрел, как его невеста плавает в бассейне в Эден-Роке. Он тоже боялся слушать радио. Но даже здесь, на Лазурном берегу, ему не спастись от войны.
Он знал множество мест, куда можно спрятаться, но уже поздно! На мгновение меня охватывал дикий ужас, но тут Ивонна выходила из воды и ложилась рядом со мной, чтобы позагорать.
В одиннадцать часов, когда в "Стортинге" становилось очень людно, мы уходили купаться в бухточку. Спускались с террасы ресторана по шаткой подгнившей лесенке, сохранившейся со времен Гордон-Грамма, на усыпанный галькой и ракушками пляжик. Здесь было маленькое шале со ставнями на окошках. На скрипучей двери вырезаны готическим шрифтом две буквы "Г" Гордон-Грамм – и дата: 1903. Он, наверное, собственноручно построил этот игрушечный домик и приходил сюда поразмыслить в одиночестве. Чуткий, предусмотрительный Гордон-Грамм! Когда начинало слишком припекать, мы уединялись в шале. Сумерки, ярко освещенный порог. Еле слышный запах плесени, к которому мы в конце концов привыкли. Снаружи – шум прибоя, такой же непрерывный и успокаивающий, как звук отскакивающих теннисных мячей. Мы прикрывали дверь.
Она плавала и загорала. Я зачастую сидел в тени, как все мои восточные предки. После полудня мы возвращались в гостиницу и часов до семи-восьми не выходили из номера. Ивонна возлежала в шезлонге на лоджии, я пристраивался рядом в белой "колониальной" панаме, я очень дорожил ею, она – одна из немногих вещей – досталась мне от отца, к тому же мы с ним вместе ее покупали в магазине "Спорт и климат" на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Доминик. Мне тогда было восемь лет. Отец собирал вещи перед отъездом в Браззавиль. Зачем он туда ездил, он мне так и не объяснил.
Я спускался в вестибюль за журналами. Поскольку в гостинице останавливалось много иностранцев, там продавались почти все издания Европы; я скупал все сразу: "Оджи", "Лайф", "Штерн", "Конфидансиаль", "Мир кино". Бегло просматривал напечатанные жирным шрифтом заголовки свежих газет. Что-то все время происходило в Алжире, в метрополии и во всем мире. Мне не хотелось ничего об этом знать. Я надеялся, что в иллюстрированных журналах нет обзора событий. Не надо мне никаких новостей. Я снова впадал в панику. Чтобы немного успокоиться, я выпивал в баре рюмку чего-нибудь крепкого и поднимался в номер с целой кипой журналов. Мы листали их, развалившись на кровати или прямо на полу перед раскрытой балконной дверью, и заходящее солнце бросало на нас золотистые блики. Дочь Ланы Тернер зарезала любовника матери. Эррол Флинн умер от сердечного приступа. Его юная любовница как раз спрашивала, куда ей стряхнуть пепел, и он успел перед смертью указать ей на разинутую пасть чучела леопарда. Анри Гара умер под забором. Принц Али-Хан погиб в автомобильной катастрофе в Сюренах. Радостные сообщения мне не запомнились. Некоторые фотографии мы вырезали и наклеивали на стены. Администрация гостиницы, кажется, не была на нас в претензии.








