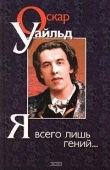Текст книги "Замыслы"
Автор книги: Оскар Уайлд
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Пока что нам это недоступно. Иногда, написав страницу прозы, которую по скромности своей считаю абсолютно безупречной, я вдруг со страхом думаю: а не повинен ли я в этом безнравственном сюсюканье, появляющемся вместе с трохеями и трибрахиями, в этом преступлении, за которое просвещенный критик эпохи Августа безжалостно и справедливо карал блистательного, хотя и несколько парадоксального Эгезия. Когда промелькнет такая мысль, я весь холодею и задаюсь вопросом, не будет ли со временем полностью предан забвению наш превосходный автор, как-то в безудержном порыве щедрости пожелавший разъяснить малообразованной части общества свою ужасную идею, будто жизнь на три четверти состоит из правил поведения, – и только оттого, что выяснилось неверное расположение пеонов в его повествовательных строфах.
Эрнест. А вы, однако, злы.
Гилберт. Как не разозлиться, когда меня с серьезным видом уверяют, что у греков не было художественной критики! Я мог бы понять утверждения вроде того, что творческий гений греков весь ушел в критику, но, если мне говорят, что народ, которому мы обязаны духом критики, сам был к критике неспособен, – это уж слишком. Вы ведь не потребуете от меня, чтобы я прочел вам лекцию о греческой художественной критике от Платона до Плотина. Ночь эта слишком прекрасна для таких занятий, и, если бы нас сейчас слышала луна, лик ее покрылся бы от слез новыми пятнами, хотя довольно и тех, что есть. Вспомните всего лишь об одном эстетическом трактате, небольшом, но совершенном, – об Аристотелевой «Поэтике». Он несовершенен по форме, потому что скверно написан да, видимо, и представляет собой только заметки к лекции об искусстве или разрозненные записи к какой-то большой книге; но высказанные в нем мысли, как и общий тон рассуждений, – это совершенство. Платон раз и навсегда определил нравственное воздействие искусства, его значение для культуры в целом и для воспитания человеческой личности, а у Аристотеля искусство рассматривается не с моральной, а с чисто художественной точки зрения. Конечно, и Платон коснулся многих собственно художественных категорий, как то: важность единства в произведении искусства, необходимость определенной тональности и гармонии, эстетическое значение внешних форм, отношение зрительных искусств к сущему миру и вымысла – к действительности. Он, быть может, первым пробудил в душе человеческой стремление, которое и мы ощущаем неутоленным, – стремление познать связь между Красотой и Истиной и место Красоты в Космосе нравственной и интеллектуальной жизни. Идеальное и действительное, как он их характеризует, многим могут показаться до некоторой степени абстракциями, если ограничиваться тем метафизическим бытием, в границах которого у него заключены эти категории, но перенесите их в сферу искусства, и сразу же откроется, что они по-прежнему полны живого содержания. И быть может, Платону суждено жить и дальше именно как критику Красоты, а мы найдем для себя новую философию, дав иное обозначение всей той области, которая была предметом его размышлений. Аристотель же, как и Гёте, рассматривает искусство по преимуществу в его конкретных проявлениях, обращаясь, например, к трагедии и анализируя материал, из которого она строится, – ее язык, ее предмет, каким является жизнь, ее метод, каким оказывается драматическое действие, условия ее осуществления, каковые создает представление на театре, ее логику, проступающую в сюжете, и ее конечное эстетическое значение, заключающееся в чувстве красоты, запечатленном в ощущениях сострадания и смирения. То очищение, одухотворение природы, которое он именует катарсисом, по сути своей является художественным, как это понимал и Гёте, а не этическим, как полагал Лессинг. Задавшись целью подвергнуть анализу прежде всего впечатление, оставляемое художественным произведением, Аристотель исследует это впечатление вплоть до его первоистоков. Как физиолог и психолог, он знает, что нормальное осуществление каждой функции определяется энергией. Быть способным к какой-то страсти и отказаться от нее – значит добровольно ограничить и обузить самого себя. Миметическое воспроизведение жизни в трагедии освобождает душу от «многих опасностей», способствуя очищению и одухотворению человека, создавая достойный, высокий повод для того, чтобы пришли в действие его эмоции, – происходит не только одухотворение, но еще и прикосновение к области тех благородных переживаний, о которых человек мог бы и вовсе не знать, и, таким образом, катарсис, как мне порой представляется, непосредственно подразумевает обряд посвящения, если не обозначает именно и только этот обряд, что мне иногда тоже приходило в голову. Я, разумеется, касаюсь «Поэтики» лишь в самом общем виде. Но вы могли убедиться, какой это превосходный образец эстетической критики. Подумайте, кто, кроме философа-грека, мог бы столь глубоко анализировать искусство? Познакомившись с Аристотелем, уже не удивляешься тому, что александрийцы уделяли художественной критике такое огромное внимание, и каждый из них, кто питал склонность к творчеству, задумывался над вопросами стиля и манеры, размышляя о больших академических школах живописи, – к примеру, о школе в Сикионе, стремившейся сохранить строгие традиции древности, и о школах реалистического или импрессионистского толка, старавшихся воспроизводить действительную жизнь, да и о многом другом: о допустимой степени идеализации в портрете, о художественной ценности эпических форм в столь позднюю эпоху, как та, в какую они жили, о том, каков должен быть предмет искусства. Да похоже, и тех, кто лишен художественных наклонностей, тоже влекло в ту пору к вопросам, сопряженным с литературой, с искусством, – вспомните только, как часты тогда были обвинения в плагиате, так и сыпавшиеся либо из уст бездарностей с их злобой и немочью, либо из уст тех, кто не мог создать ничего своего и поэтому всего громче кричал о грабеже в надежде, что такие вопли создадут впечатление, будто у них и впрямь было что украсть. Уверяю вас, Эрнест, о художниках греки судачили ничуть не меньше, чем судачат в наше время, и у них тоже были свои пристрастия, свои грошовые выставки, свои гильдии художников и подмастерьев, свои прерафаэлиты и свои реалисты, как и лекции об искусстве, трактаты об искусстве, историки искусств, археологи и все прочее. Что говорить, ведь даже руководители странствующих театральных трупп брали с собой в дорогу драматического критика и оплачивали его хвалебные отзывы очень щедро. Все то, что мы считаем современным в современной жизни, идет от греков. А все, что почитается анахронизмом, идет от Средневековья. Не кто иной, как греки, создали для нас всю систему художественной критики, а насколько у них было развито критическое чутье, можно судить уже по тому факту, что с наибольшей тщательностью они критически осмысляли, как я уже сказал, сам язык. Ведь материал, с которым имеет дело живописец или ваятель, по сравнению со словом скуден. Потому что слово обладает музыкой столь же пленительной, как та, что возникает при игре на скрипке или на лютне, и красками столь же живыми и богатыми, как те, что предстают перед нами на полотне венецианской или испанской работы, и пластикой не менее завершенной и выверенной, как та, какой мы любуемся, разглядывая работу в мраморе или бронзе, но еще оно обладает мыслью, и страстью, и духовностью, которые принадлежат ему, и только ему. Если бы художественная критика греков ограничилась исключительно языком, они все равно были бы величайшими критиками в мире. Постичь принципы самого высокого из искусств – значит постичь принципы всех искусств.
Однако! Луна уже прячется за этими облаками фосфорного цвета. Из рыжеватой этой гривы или кучи осенних листьев она смотрит, словно глаз скрывающегося в засаде льва. Она опасается, что я сейчас заговорю о Лукиане и Лонгине, о Квинтилиане и Дионисии, о Плинии, Фронтоне и Павсании – всех тех, кто во времена Античности писал или высказывался об искусстве. Но ей незачем этого бояться. Меня утомила прогулка по мрачной, мрачной и безликой, пещере, где свалены факты. И теперь мне ничего не остается, как прибегнуть к божественному µονόχρονος ηδονή[18]18
Исключительному наслаждению (греч.).
[Закрыть] еще одной сигареты. У сигарет есть хоть то достоинство, что они никогда не дают чувства полного удовлетворения.
Эрнест. Пожалуйста, вот мой портсигар. Сигареты недурны, я их получаю прямо из Каира. Наши дипломаты тем лишь и хороши, что посылают друзьям превосходный табак. Ну, поскольку луна спряталась, продолжим наш разговор. Охотно признаю, что я был не прав, говоря о греках. Как вы убедительно доказали, они все были художественными критиками. Согласен, и мне их немного жаль. Творческая способность выше, чем критическая. Их просто нельзя сопоставлять.
Гилберт. А противопоставлять их – это чистый произвол. Без критической способности невозможно никакое художественное творчество – серьезное, конечно. Вы упомянули о тонком даре отбора и отточенной способности подмечать существенное, с помощью которой художник доносит до нас жизнь и придает ей на мгновение вид совершенства. Ну, так этот дар отбора, эта безупречная тактичность умолчаний, это все и есть критическая способность в одном из своих наиболее характерных проявлений, и кто лишен ее, тот ничего не создаст в искусстве. Определение, которое дал Арнольд: литература – это Критика жизни, – не верх совершенства, если говорить о форме, но зато оно свидетельствует, как ясно он понимал значение критического элемента во всяком творческом акте.
Эрнест. Мне бы следовало сказать еще и о том, что великие художники творят бессознательно, что они «умнее, чем сами понимают», – кажется, так где-то выразился Эмерсон.
Гилберт. На деле все по-другому, Эрнест. Творческая работа воображения всегда осознанна и контролируема. Нет таких поэтов, у которых песня просто лилась бы из души. Во всяком случае, великих поэтов. Великий поэт создает песни, потому что решает их создать. Так в наши дни, и так было всегда. Подчас мы склонны думать, будто голоса, звучавшие в раннюю пору поэтического искусства, были проще, были свежее и естественнее, чем сегодня, и будто мир, постигнутый и исхоженный поэтами древности, сам по себе заключал нечто поэтическое, не требуя почти никаких изменений, чтобы сделаться песней. Теперь на Олимпе лежит толстый слой снега, а его крутые, обрывистые склоны голы и невыразительны, но нам кажется, что когда-то белоногие Музы на рассвете ступали здесь по лепесткам покрытых росой анемонов, а вечерами Аполлон пел пастухам, скитавшимся в горных долинах. Мы при этом видим реальным в былых веках то, чего желаем – или нам кажется, что желаем, – для нашего времени, вот и все. Чувство истории изменяет нам. Любое столетие, создавая свою поэзию, в этом смысле становится временем искусственности, а его художественное наследие, в котором нам видится самое простое и естественное порождение эпохи, в действительности предстает порождением совершенно осознанных усилий. Поверьте, Эрнест, неосознанного искусства не существует, а осознанность – это то же самое, что дух критики.
Эрнест. Понимаю, что вы имеете в виду, и здесь немало верного. Но не станете же вы отрицать, что великие поэмы, созданные на заре мира, эти явившиеся в первобытные времена, лишенные авторства, коллективно слагавшиеся поэмы, порождены воображением целых народов, а не отдельных лиц.
Гилберт. Только до той черты, пока эти поэмы не становятся истинной поэзией. Пока они не приобретают прекрасной формы. Потому что искусства нет там, где нет стиля, а стиля нет, если нет единства, единство же создает личность. Конечно, у Гомера были под рукой старые сказания и сюжеты, как и у Шекспира были исторические хроники, пьесы и новеллы, из которых он мог черпать, но ведь это всего лишь грубый материал. Их брали и создавали форму, чтобы они стали песней. Они становились достоянием того, кто их сделал прекрасными. Они являлись из духа музыки,
И потому являлись ниоткуда.
И потому являлись навсегда.
Чем глубже погружаешься в изучение жизни и поэзии, тем отчетливее сознаешь, что за всем достойным восхищения стоит творческая индивидуальность и не время создает человека, а человек создает свое время. Я даже склонен полагать, что любой миф или легенда, в которых нам видятся недоумения, страхи и фантазии племени или страны, в истоке своем являются творением какой-то определенной личности. Мне кажется, к такому заключению приводит удивительно небольшое число известных нам мифов. Но не следует нам погружаться в область сравнительной мифологии. Будем и дальше говорить о критике. Вот о чем я хочу сказать. Эпоха, лишенная критики, – это либо эпоха, в которую искусство не развивается, становясь неприкосновенным и ограничиваясь копированием тех или иных форм, либо та, что вообще лишена искусства. Были и эпохи, оказавшиеся нетворческими в обыкновенном значении слова, такие эпохи, когда человек прилагал свои усилия к тому, чтобы навести порядок в собственной сокровищнице, отделив золото от серебра, а серебро от свинца, пересчитав бриллианты и дав имена жемчужинам. Но не было творческой эпохи, которая вместе с тем не стала бы и эпохой критики. Ибо не что иное, как критическая способность, создает свежие формы. Критическому инстинкту обязаны мы каждой возникающей новой школой и каждым новым участком, предоставляемым искусству, чтобы оно его взрыхляло. По сути, среди ныне используемых искусством форм нет ни одной, которая не досталась бы нам как наследие критического сознания Александрии, где эти формы сложились как определенные типы, или были придуманы, или доведены до совершенства. Говорю об Александрии не оттого лишь, что здесь греческая духовная традиция в наибольшей степени обрела свое самосознание, в конечном счете переходя в скептицизм и в теологию, а еще и потому, что не к Афинам, а к Александрии обращался за примерами Рим; а культура и вообще-то сохранилась лишь благодаря тому, что в известной степени сохранилась латынь. Когда во времена Ренессанса Европу одухотворили произведения греков, для этого почва была уже отчасти готова. Впрочем, копаться в истории – дело утомительное и обычно чреватое ошибками, так что скажем просто: искусство своими формами обязано критическому сознанию греков. Ему мы обязаны и эпосом, и лирикой, и – целиком – драмой во всех ее воплощениях, включая и бурлеск, а также идиллией, романтическим романом, романом приключений, эссе, диалогом, ораторским жанром, лекциями (за которые греков, наверно, надо бы предать суду) и эпиграммой во всем широком значении этого слова. В общем, мы их должники во всем, за исключением сонета, – хотя, любопытным образом, в антологии обнаруживается нечто сходное, если иметь в виду характер развития мысли, – и еще американской журналистики, ибо с нею не сравнится ничто на свете, а также баллад на шотландском просторечье, относительно которых один из наших самых прилежных писателей недавно высказался в том духе, что вот жанр, где второстепенные поэты должны дружными усилиями добиться по-настоящему романтического звучания своих виршей. Любая новая школа, едва возникнув, принимается поносить критику, а меж тем она и не возникла бы, не будь человек наделен критической способностью. Один творческий импульс создает не новаторство, а подражание.
Эрнест. Вы характеризуете критику как существенную часть творчества, и эту вашу идею я полностью принимаю. Но что есть критика сама по себе? У меня выработалась глупая привычка читать периодику, и сдается мне, что современная критика большей частью лишена всякого смысла.
Гилберт. Как большей частью и современное искусство. Посредственность в гармонии с посредственностью и немощность в союзе с невежеством – вот зрелище, которое нам порою дарит английская художественная жизнь. Я, впрочем, не совсем справедлив. Как правило, критики – понятно, я имею в виду лучших из них, тех, кто пишет для шестипенсовых газет, – люди куда более просвещенные, чем те, которым они должны посвящать свои статьи. Но иного ждать нельзя, ведь критика требует куда больше культуры, чем творчество.
Эрнест. В самом деле?
Гилберт. Я вполне серьезно. Всякому по силам сочинить трехтомный роман. Просто надо ровным счетом ничего не знать ни о жизни, ни об искусстве. А у рецензентов, я полагаю, есть особые трудности, и они в том, что необходимо поддерживать определенный литературный уровень. Когда нет стиля, никакой уровень невозможен. Бедные рецензенты оказываются в положении репортеров при полицейском участке, расположившемся в стане литературы, и вынуждены информировать о новых преступлениях рецидивистов от искусства. Их подчас корят тем, что они не дочитывают произведений, о которых должны отзываться. Да, не дочитывают. И уж, во всяком случае, не должны их дочитывать. Не то они превратятся в неизлечимых мизантропов или, да позволено мне будет воспользоваться словечком одной из хорошеньких выпускниц Ньюнэма, в неизлечимых женофобов. Да и зачем читать до конца? Чтобы узнать возраст и вкус вина, никто не станет выпивать весь бочонок. В полчаса можно безошибочно установить, стоит книга чего-нибудь или нет. Хватит и десяти минут, если обладать инстинктивным чувством формы. Кому охота тащиться через весь скучный волюм? Довольно и первой пробы – я думаю, более чем довольно. Знаю, и в живописи, и в литературе подвизается немало кустарей, которые вообще отрицают критику. И они правы. Их произведения по интеллектуальному уровню никак не связаны со своим веком. Они не доставляют нам никакого прежде не изведанного наслаждения. Они не намечают новых мыслей, не пробуждают новых страстей, не добавляют новой красоты. Так к чему о них толковать? Лучше предоставить их забвению, которого они заслуживают.
Эрнест. Но, дорогой мой, – простите, что я вас прерываю, – не слишком ли далеко вас заводит это пристрастие к критике? В конце концов и вы не можете оспаривать, что создать нечто куда труднее, нежели говорить об уже созданном.
Гилберт. Создать труднее, чем говорить о созданном? Ничего подобного. Это обычное и глубокое заблуждение. Говорить о чем-то гораздо труднее, чем это «что-то» создать. В обыденной жизни мы это видим совершенно ясно. Каждый может создавать историю. Лишь великие люди способны ее писать. Нет ни поступков, ни переживаний, которые не роднили бы нас с низшими животными. Возвышает нас над ними, как и друг над другом, только язык – язык, являющийся родителем, а не детищем мысли. Право же, деяние всегда незамысловато, и, когда оно перед нами является в своем наиболее тягостном, иначе сказать, наиболее последовательном виде, каковым, на мой взгляд, нужно признать деловую жизнь, мы видим, что это всего лишь прибежище для людей, которым больше решительно некуда себя деть. Увольте, Эрнест, не говорите мне о деянии. Это занятие слепое, подвластное внешним воздействиям и двигаемое побуждениями, природа которых неясна. Занятие неполноценное по самой своей сущности, поскольку оно во власти случая, и не ведающее собственного смысла, ибо оно всегда не в ладу со своей же целью. В основе его нехватка воображения. Оно вроде соломинки для тех, кто не умеет мечтать.
Эрнест. Вы, Гилберт, обращаетесь с миром так, точно это стеклянный шарик. Вертите его в пальцах, как угодно вашей фантазии. Вы только и делаете, что ставите историю с ног на голову.
Гилберт. В том и состоит наша единственная обязанность перед историей. И это не последняя задача из тех, что должен решить дух критики. Полностью постигнув управляющие жизнью научные законы, мы поймем, что только у людей действия больше иллюзий, чем у мечтателей. Они не представляют себе ни почему они что-то делают, ни что из этого выйдет. Им кажется, что на этом вот поле ими посеяна сорная трава, для нас же оно оказывается великолепной житницей, а вот здесь для наших наслаждений разбили они пышный сад, но появились заросли чертополоха, если не хуже. Ни минуты не представляя себе, куда оно идет, Человечество сумело отыскать свой путь только поэтому.
Эрнест. Так вы находите, что в деятельной жизни всякая осознанная цель – мираж?
Гилберт. Хуже чем мираж. Доживи мы до возможности наглядно убедиться в том, к каким результатам привели наши действия, очень вероятно, что тех, кто себя называет высоконравственными, мучило бы бессмысленное раскаяние, а те, кого именуют порочными, преисполнились бы умиления своим благородством. Каждый мелкий наш поступок перерабатывается грандиозной машиной жизни, которой ничего не стоит обратить в ненужный прах наши добродетели или же преобразовать наши прегрешения в элементы новой цивилизации, более великолепной и поразительной, чем все предшествующие. Но ведь люди – рабы слов. Они обрушиваются на то, что окрестили материализмом, и забывают, что не было ни одного материального усовершенствования, которое не помогло бы росту духовности в мире, тогда как едва ли найдутся, если вообще отыщутся, такие духовные устремления, которые не завершались бы пустыми надеждами, напрасно истощавшими заложенные в мире силы, и бесплодными начинаниями и ничему не способствующими или попросту вредными поверьями. То, что обозначили как Грех, есть существенный элемент прогресса. Без него мир начал бы загнивать, дряхлеть, обесцвечиваться. Пробуждая любопытство, Грех обогащает человеческий опыт. Благодаря ярко выраженному в нем тяготению к индивидуализму, спасает нас от монотонности типичного. Противостоя ныне принятым понятиям о морали, он оказывается един с высочайшей этикой. А эти превозносимые всеми добродетели! Что это такое? Природе, как пишет господин Ренан, мало дела до чистоты нравов, и, может быть, позор Магдалины, а не собственное целомудрие избавило от поругания наших современных Лукреций. Благодеяния влекут за собой вереницу зол, и это должны были признать даже те, для кого филантропия стала частью жизненного кредо. Само существование такого человеческого качества, как совесть, о которой теперь говорится столько вздора и которой по невежеству так гордятся, указывает только на несовершенство нашего развития. Совесть должна слиться с инстинктом, если мы разовьемся достаточно тонко. Самообуздание – не более как средство задержать собственное развитие, а самопожертвование – это остаток дикарского ритуала членовредительства, напоминание о том преклонении перед болью, которое в истории принесло столько зла, да и сейчас каждый день требует новых жертв, воздвигнув свои алтари. Добродетели! Кто знает, в чем они? Не вы. И не я. И никто. Мы тешим свое тщеславие, отправляя на казнь преступника, потому что, допусти мы, чтобы он жил, он мог бы нам показать, как много от его преступления выиграли мы сами. Блажен святой подвижник в муках своих. Ему не придется ступать по стерне своей жатвы.
Эрнест. Вы излишне резки, Гилберт. Вернемся на литературные пастбища, здесь куда приятнее. Так с чего вы начали? С того, что говорить о созданном труднее, нежели создавать?
Гилберт (помедлив). Да, кажется, я начал с этой простой истины. Теперь-то вы убедились, что я прав? Действуя, человек уподобляется марионетке. Описывая, он становится поэтом. В этом вся тайна. На песчаных равнинах под Илионом было не бог весть как трудно пускать заостренные стрелы, натянув узорчатый лук, и ударять длинным, каленным на огне копьем в огнеподобную медь и щит из сырой кожи. Царице-изменнице было не так уж сложно расстелить для своего супруга финикийские ковры и потом, когда он дремал в мраморной ванне, набросить ему на голову пурпурную сеть, позвав ничем не примечательного своего любовника, чтобы сквозь ячейки он пронзил ножом сердце, которое лучше бы разорвалось еще в Авлиде. Самой Антигоне, пусть женихом ожидала ее Смерть, было легко взобраться в полдень на холм, где царило зловоние, и доброй землей засыпать нагое тело несчастного, которого лишили даже могилы. Но что сказать о тех, кто все это описал? О тех, кто всем этим людям дал живой облик и вечную жизнь? Разве мы не назовем их более великими, чем те, кого они воспели? «Повержен божественный Гектор», и Лукиан рассказывает, как в мрачном подземном мире Менипп увидел иссохший череп Елены, поразившись, что ради столь ничтожной награды снаряжались все эти боевые корабли, и гибли все эти закованные в кольчуги прекрасные юноши, и величественные города обращались в развалины. Но день за днем подобная лебедю дщерь Леды выходит на окружившие город стены и смотрит, как под ними кипит война. Седобородые мудрецы восхищены ее красотой, и она стоит рядом с царем. Возлюбленный ее почиет на точеном ложе, отделанном слоновой костью. Он испытывает свой праздный меч и расчесывает пышные кудри. Сопровождаемый оруженосцем и слугой, обходит палатки воинов первый ее муж. Ей видны его блестящие на солнце волосы, и кажется ей, что она слышит – может, и впрямь слышит – этот властный, бестрепетный голос. А рядом с нею, во дворе, сын Приама застегивает свои кованые доспехи. Обвились вокруг его шеи нежные руки Андромахи. Он снимает шлем и кладет его на землю, чтобы не напугать младенца-сына. Ахилл в благоухающем одеянии сидит за расшитыми занавесями своего шатра, а друг души его уже готов к бою – позвякивает золото и серебро на его сбруе. Из великолепного ларца, который дала Ахиллу его мать Фетида, достает царь Мирмидонский прекрасный кубок, чьих краев никогда не касались губы мужей, очищает его серою и, охладив светлоструйной водой, омыв руки, наполняет заблестевший сосуд черным вином, а затем расплескивает густую виноградную влагу по земле в честь Того, кого чтили в хладной Додоне не моющие ног пророки, и возносит Ему мольбу, не ведая, что моление его напрасно, ибо храбрый как лев Патрокл, этот первый из друзей, должен встретить свой конец в схватке с двумя троянцами, Эвфорбом Пантоидом, чьи локоны перевиты златой нитью, и сыном Приама. И это все фантомы? Бесплотные фигуры, исчезающие, словно туман в горах? Тени, что живут лишь в песне? О нет, это люди во плоти. А вы толкуете о деяниях. Да много ли они значат? Они исчезают, едва иссякнет энергия, которая для них потребна. Они лишь недостойная уступка прозе жизни. Мир создают певцы, и создают его для мечтателей.
Эрнест. В ваших устах все это звучит так убедительно.
Гилберт. Потому что это правда. На разрушенных стенах Трои возлежит ныне ящерица, словно статуэтка из зеленоватой бронзы. Сова свила себе гнездо во дворце Приама. По опустевшей равнине гонят пастухи своих овец и коз, а там, где под солнцем поблескивали на темном, как вино, спокойном, точно бы на него вылили масло, море, на οίυοψ πόντος[19]19
Винного цвета море (греч.).
[Закрыть], как говорит Гомер, обшитые с носа медью, выкрашенные в огненный цвет громадные галеры данайцев, теперь качается в своей утлой лодке одинокий рыбак и посматривает за поплавками заброшенной сети. Но все так же каждое утро открываются врата твердыни, и пешими или в колесницах, влекомых конями, выступают на битву бойцы, из-под железных своих масок бросая гордый вызов врагам. И весь день кипит яростный бой, а когда падает ночь, зажигаются у палаток огни и факел полыхает при входе. Живущим в мраморе или на фреске дано испытать из всей жизни лишь один высокий миг, и в своей красоте он вечен, но все же сказалось в нем всего одно-единственное переживание или единственный раз постигнутое чувство покоя. Тем же, кому дал жизнь поэт, доступны бесконечные переживания радости и страха, мужества и отчаяния, наслаждения и страдания. Искрометным или печальным карнавалом проходят весны и осени, годы летят перед ними, как на крыльях, или плетутся, точно с кандалами на ногах. Им знакома и юность, и взрослость, они были когда-то детьми, и вот они уже старики. Для святой Елены, какой увидел ее у окна Веронезе, всегда будет стоять рассвет. Всегда будут нести ей ангелы в этом спокойствии утра знак божьего страдания. Прохладный утренний ветерок век за веком будет развевать златотканый платок, укрывший ее лицо. А для любовников Джорджоне, лежащих на невысоком холме вблизи города Флоренции, вечным останется жгучее солнце полудня и то оцепенение пылающего лета, когда грациозная обнаженная девушка едва соберется с силами, чтобы поднести к мраморной чаше свой закругленный сосуд чистейшего стекла, и длинные пальцы музыканта так и будут неподвижно покоиться на лютне. Вечны ранние сумерки, в которых танцуют у Коро нимфы вокруг серебряных французских тополей. Они всегда будут кружиться в сумерках, эти хрупкие, прозрачные фигурки, чьи трепетные ножки словно бы и не касаются намокших от росы трав, по которым они ступают. Но те, кому судьба ступать по жизни в эпической поэме, драме или романе, увидят, как месяц за месяцем сначала круглится, а затем меркнет луна, и как первую вечернюю звезду сменяет последняя, предутренняя, и как от восхода до заката переливается красками день со всеми его ослепительными бликами и всеми тенями. Для них, как и для нас, распускаются и вянут цветы, а земля, эта зеленокосая богиня Колриджа, для их наслаждения меняет свои уборы. Скульптора влечет к концентрированности, чтобы достичь мига совершенства. Образ, схваченный живописцем, лишен начал духовного роста и перемены. Если этим образам неведома смерть, то оттого лишь, что им слишком мало ведома жизнь, ибо тайны жизни и смерти доступны тем, и только тем, кто подвластен движению времени и располагает не одним настоящим, но и будущим и способен встать над прошлым, обретая величие, так же как низринуться в прошлое, в котором невзгоды и горе. Движение, эта главная проблема для зрительных искусств, в сущности, может быть передано одной Литературой. Она одна показывает нам тело в его стремительности и душу в ее беспокойстве.
Эрнест. Да-да, я вас понимаю. Однако же чем выше мы ставим художника, тем ниже должны оценить роль критика.
Гилберт. Отчего так?
Эрнест. Оттого, что лучшее, что он нам способен дать, окажется не более чем отголоском богатой музыки, бледной тенью ясно очерченной формы. Очень возможно, что жизнь и впрямь хаос, как вы утверждаете, что ее муки ничтожны, а героика недостойна; что дело Литературы из грубого материала непосредственного бытия создавать иной мир, более чудесный, нетленный и истинный, чем тот, что открывается обыденному зрению и побуждает обыденную душу искать в нем для себя совершенства. Но ведь, если этот иной мир создан прикосновением великого художника, он окажется столь целостным и совершенным, что критику просто нет в нем занятия. Теперь я понимаю, что говорить о созданном гораздо труднее, чем создавать, и охотно с этим соглашаюсь. Но мне кажется, что эта здравая и разумная мысль, кстати, весьма утешительная для наших чувств и пригодная в качестве девиза для любой литературной академии мира, применима только к отношениям, существующим между Искусством и Жизнью, но никак не к отношениям, связывающим Искусство и Критику.