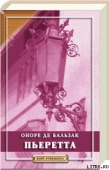Текст книги "Банкирский дом Нусингена"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Все эти побасенки, которыми ты нас развлекаешь, ничуть не объясняют нам, откуда все-таки взялось состояние у Растиньяка. Ты, видно, принимаешь нас за Матифа, помноженных на шесть бутылок шампанского! – воскликнул Кутюр.
– Мы у цели, – возразил Бисиу. – Я дал вам возможность проследить за всеми ручейками, слившимися в сорок тысяч франков ренты Растиньяка – предмет зависти стольких людей. Он дергал тогда за ниточки все эти фигурки.
– Дероша, Матифа, Боденора, д'Альдригеров, д'Эглемона?..
– И сотню других!.. – сказал Бисиу.
– Допустим! Но как? – воскликнул Фино. – Я услышал много нового, а разгадки пока не вижу.
– Блонде рассказал вам в общих чертах о первых двух банкротствах Нусингена; вот вам подробности третьего банкротства, – продолжал Бисиу. – Еще в 1815 году, когда был заключен мир, Нусинген понял то, что нам стало понятным только теперь, а именно: что деньги могучая сила лишь тогда, когда их бесконечно много. В глубине души он завидовал братьям Ротшильдам. У него было пять миллионов, а он жаждал иметь десять! С десятью миллионами он сумел бы заработать тридцать, а с пятью – всего лишь пятнадцать. И он решил в третий раз прибегнуть к ликвидации. Этот великий финансист намеревался расплатиться с кредиторами ничего не стоящими бумажками, а их денежки оставить себе. На бирже такая идея не облекается в столь четкую математическую формулу. Сущность подобной ликвидации состоит в том, что взрослым детям предлагают пирожки по луидору за штуку, а они, словно настоящие дети, – не теперешние, конечно, – предпочитают пирожок золотой монете, не догадываясь, что за свой золотой могли бы получить сотни две пирожков.
– Ну так что ж? – воскликнул Кутюр. – Это вполне законно. Ведь сейчас недели не проходит без того, чтобы публике не предлагали пирожки по луидору за штуку. Разве публика обязана выкладывать свои денежки? Разве она не имеет права наводить необходимые справки?
– Вы предпочли бы, чтоб ее принуждали покупать акции, – заметил Блонде.
– Вовсе нет, – ответил Фино, – что осталось бы тогда на долю таланта?
– Ай да Фино! Здорово сказано! – воскликнул Бисиу.
– Где он только взял это словцо? – отозвался Кутюр.
– Дело в том, – продолжал Бисиу, – что Нусинген дважды, сам того не желая, продавал пирожки, которые, как оказалось, стоили больше, чем он за них получил. Он, не переставая, грыз себя из-за этого злополучного везения. Такое везение может вогнать человека в гроб. И барон десять лет ждал случая, чтобы на сей раз уж наверняка пустить в ход ценности, которые якобы что-то стоят, а на самом деле...
– Ну, – сказал Кутюр, – если так рассматривать банковские операции, всякая деловая жизнь станет невозможной. Многим честным банкирам, с разрешения честных правительств, удавалось уговорить самых ловких биржевиков приобретать бумаги, которые через некоторое время оказывались обесцененными. Больше того! Разве не выпускались в продажу с одобрения и даже при поддержке правительства облигации лишь для того только, чтобы из вырученных сумм оплатить проценты по другим облигациям, поддержать таким образом их курс и под шумок от них отделаться? Операции эти более или менее сходны с банкротством Нусингена.
– Когда цифры ничтожны, – вмешался Блонде, – дело может показаться странным; но когда пахнет миллионами – операция уже достойна высших финансовых кругов. Некоторые самовольные акты считаются преступными, если отдельный человек совершает их в отношении своего ближнего. Но они теряют преступный характер, если направлены против массы людей, подобно тому как капля синильной кислоты становится безвредной в чане воды. Вы убиваете человека – вас гильотинируют. Но если в силу каких-либо соображений государственного порядка убивают пятьсот человек, такое политическое преступление уважают. Вытащите пять тысяч франков из моего стола, и вы пойдете на каторгу. Но если вы, искусно раздразнив аппетиты тысячи биржевиков запахом будущей наживы, заставите их приобрести государственную ренту любой обанкротившейся республики или монархии, хотя новые облигации, как справедливо заметил Кутюр, выпускаются для того, чтобы оплатить проценты по старым облигациям этой же ренты, – никто и пикнуть не посмеет! Таковы истинные принципы золотого века, в который мы живем.
– Чтобы пустить в ход столь сложную машину, – снова заговорил Бисиу, – Нусингену потребовались, конечно, марионетки. Прежде всего банкирский дом Нусингена умышленно и вполне сознательно вложил пять миллионов в одно предприятие в Америке, причем все было рассчитано так, чтобы прибыль начала поступать слишком поздно. Нусинген опустошил свою кассу с заранее обдуманным намерением. Для ликвидации надо подыскать причины. У банкирского дома имелось тогда наличных денег на счетах разных лиц и ценных бумаг около шести миллионов. Среди вкладов были, между прочим, триста тысяч баронессы д'Альдригер, четыреста тысяч Боденора, миллион д'Эглемона, триста тысяч Матифа, полмиллиона Шарля Гранде, мужа мадмуазель д'Обрион, и так далее. Если бы Нусинген сам создал промышленное предприятие, акциями которого собирался рассчитаться с кредиторами, пустив в ход те или иные ловкие маневры, он все же не был бы свободен от подозрений. И он поступил хитрее: заставил другого создать ту машину, которая должна была сыграть для него такую же роль, какую играла «Миссисипи»[10]10
«Миссисипи» – акционерная компания, основанная в спекулятивных целях финансистом Лоу.
[Закрыть] в системе Лоу. Особенность Нусингена состоит в том, что он умоет принудить самых ловких дельцов служить своим целям, не открывая им своих планов. Нусинген как бы невзначай нарисовал перед дю Тийе грандиозную и соблазнительную картину акционерного общества, обладающего достаточно крупным капиталом, чтобы в первое время выплачивать акционерам весьма солидные дивиденды. Будучи первым примером своего рода, и притом в момент, когда простаков с капиталами имелось сколько угодно, эта комбинация должна была неминуемо повысить курс акций и принести хорошую поживу банкиру, который занимался их выпуском. Помните, что дело происходило в 1826 году. Хотя и увлеченный этой блестящей и многообещающей идеей, дю Тийе сообразил все же, что, если предприятие не будет иметь успеха, оно вызовет нарекания. Он предложил поэтому выдвинуть на первый план какую-нибудь подставную фигуру в качестве директора, заправляющего этой коммерческой машиной. Вы ведь уже знаете секрет банкирского дома Клапарона, основанного дю Тийе. Это – одно из лучших его изобретений!..
– Да, – сказал Блонде, – Клапарон – это своего рода ответственный редактор от финансов, платный агент, козел отпущения. Но теперь мы стали умнее и пишем на бланках: «Обращаться к администрации предприятия, такая-то улица, номер такой-то»; там публика застает служащих с зелеными козырьками, важных, как понятые.
– Нусинген поддержал банкирский дом Шарля Клапарона всем своим кредитом, – продолжал Бисиу, – можно было спокойно выбросить на любую биржу акций Клапарона хоть на миллион. И дю Тийе предложил пустить в ход банкирский дом Клапарона. Принято. В 1825 году акционеры еще слабо разбирались в различных коммерческих ухищрениях. Об оборотном капитале они понятия не имели. Учредители тогда еще не были лишены права пускать в обращение свои учредительские акции, ничего не вносили в банк и ничего не гарантировали. Они не снисходили до того, чтобы объяснять акционерам сущность дела, но лишь советовали им быть благодарными за то, что с них не требуют больше чем тысячу, пятьсот или даже двести пятьдесят франков. Тогда не объявляли, что операции «in aere publico»[11]11
С доверенными капиталами (лат.).
[Закрыть] продлятся не более семи, пяти или даже трех лет и, таким образом, развязка не заставит себя ждать. То были младенческие годы банковского искусства! В те времена не прибегали даже к рекламе в виде грандиозных афиш, разжигающих воображение публики и требующих у всех и каждого деньги...
– Так делают, когда уже никто не хочет их давать, – сказал Кутюр.
– И, наконец, в такого рода делах еще не существовало конкуренции, – продолжал Бисиу. – Фабриканты папье-маше, набивного ситца, владельцы цинкопрокатных заводов, театры и газеты еще не набрасывались на загнанного акционера, как свора псов – на дичь. Крупнейшие дела акционерных обществ, как говорит Кутюр, пользующихся ныне откровенной рекламой и опирающихся на заключение экспертов (светочей науки!..), в те времена стыдливо заключались в укромных уголках биржи, под покровом мрака, в молчании. Хищники исполняли на финансовый лад арию клеветы из «Севильского цирюльника». Они действовали piano, piano[12]12
Тихо, тихо (итал.).
[Закрыть], распространяя слухи насчет надежности предприятия. Они обрабатывали страдальца-акционера у него дома, на бирже или в обществе с помощью одних только ловко пущенных слухов, звучавших как tutti[13]13
Хор (итал.).
[Закрыть], когда курс акций достигал четырехзначной цифры...
– Хотя мы в своей компании и можем болтать, что вздумается, я настаиваю на своем, – сказал Кутюр.
– «Вы ювелир, господин Жосс?»[14]14
Вы ювелир, господин Жосс? – фраза из комедии Мольера «Любовь-целительница» (1665), вошедшая во Франции в поговорку и указывающая на наличие личной заинтересованности у человека, дающего совет. Действующее лицо этой комедии, ювелир Жосс, советует для излечения больной девушки приобрести бриллиантовый или рубиновый убор.
[Закрыть] – вставил Фино.
– Фино – неисправимый классик, конституционалист и сторонник старых предрассудков, – заметил Блонде.
– Да, – ответил Кутюр, – я ювелир, из-за которого Серизе был предан суду исправительной полиции. Я утверждаю, что новый метод бесконечно менее коварен, гораздо честнее и не такой грабительский, как прежний. Реклама позволяет подумать и вникнуть в дело. Если какого-нибудь акционера и проглотят, он сам в этом виноват, ему ведь не продавали кота в мешке. Промышленность...
– Ну вот промышленность! – воскликнул Бисиу.
– Промышленность и торговля от этого только выигрывают, – продолжал Кутюр, не обращая внимания на слова Бисиу. – Всякое правительство, как только оно начинает вмешиваться в коммерцию, вместо того чтобы предоставить ей полную свободу, делает глупость, за которую приходится дорого платить: дело неизбежно кончается либо режимом «максимума», либо монополией. По-моему, ничто так не соответствует принципам свободной торговли, как акционерные общества! Посягать на них – значит брать на себя ответственность и за капитал, и за прибыль, а это – бессмыслица. В любом деле прибыль пропорциональна риску. Что государству до того, каким именно образом осуществляется денежное обращение, ему важно лишь, чтобы деньги постоянно находились в обороте! Что ему до того, кто именно богат и кто беден, если всегда остается столько же людей, достаточно богатых, чтобы платить налоги! Вот уже лет двадцать, как различные акционерные общества и товарищества на паях получили широкое распространение в стране с наиболее развитой торговлей – в Англии, где все вызывает споры, где палаты высиживают от тысячи до тысячи двухсот законов в каждую сессию, но еще ни разу ни один член парламента не поднял там голоса против акционерных обществ...
– ...этого лечения набитых сундуков новым патентованным средством – очисткой, – вставил Бисиу.
– Послушайте! – распалился Кутюр. – Допустим, у вас десять тысяч франков, вы приобретаете десять акций по тысяче франков каждая, в десяти различных предприятиях. В девяти случаях из десяти вас обкрадывают... (Так, конечно, не бывает: публика не так уж глупа. Но допустим...) Все же одно из предприятий преуспело! (Случайно? Согласен. Нарочно это не делается. Смейтесь, смейтесь!) Так вот, понтер, который достаточно благоразумен, чтобы распределить свои ставки, находит великолепное помещение для своего капитала, подобно тем, кто купил акции Ворчинских копей. Признаемся, господа, что крик поднимают только лицемеры, обозленные тем, что у них нет ни деловых идей, ни возможности протрубить о них, ни уменья пустить их в ход. За доказательствами дело не станет. Вы вскоре увидите, как наши аристократы, придворные, министерские сановники сомкнутыми колоннами ринутся в спекуляцию, вцепятся в добычу мертвой хваткой, изобретут еще более хитроумные идеи, чем наши, хотя они и не столь выдающиеся люди, как мы с вами. Какую нужно иметь голову, чтобы основать предприятие в эпоху, когда алчность акционера равна алчности учредителя? Каким великим магнетизером должен быть человек, создающий Клапарона, человек, который находит новые ходы и выходы? О чем все это говорит? Наше время не лучше нас! Мы живем в эпоху корыстолюбия, когда никто не заботится о действительной ценности вещи, если может на ней заработать, подсунув ее соседу; а соседу ее подсовывают потому, что жадность акционера, стремящегося к наживе, не уступает жадности учредителя, который ему эту наживу сулит!
– Ну, разве он не великолепен, наш Кутюр? – обратился Бисиу к Блонде. – Он того и гляди потребует, чтобы ему воздвигли памятник как благодетелю человечества.
– Он еще заявит, пожалуй, что деньги дураков на основании божественного права – законное достояние людей с головой, – подхватил Блонде.
– Господа, – продолжал Кутюр, – смейтесь сейчас, и прибережем всю нашу серьезность для тех случаев, когда мы будем слушать всеми почитаемую бессмыслицу, освященную наспех созданными законами.
– Он прав, господа, – сказал Блонде. – В какое время мы живем! Стоит только вспыхнуть искорке рассудка, как ее тотчас же гасят на основании соответствующего закона. Законодатели, – почти сплошь выходцы из захолустных округов, где они изучали общество по газетам, – безрассудно усиливают давление в паровом котле. А когда котел взрывается, раздается плач и скрежет зубовный! В наше время издаются одни лишь налоговые и уголовные законы! Хотите знать, в чем разгадка всего, что происходит! Нет больше религии в государстве!
– Браво, Блонде! – воскликнул Бисиу. – Ты вложил перст в зияющую рану Франции, – я говорю о налоговой системе, направленной к увеличению податей и отнявшей у Франции больше завоеваний, чем все превратности войны. В министерстве, где я в одной упряжке с буржуа семь лет тянул лямку, был один чиновник, талантливый человек, который задумал переделать всю нашу финансовую систему... Ну что ж, мы его просто-напросто выжили. Франция стала бы слишком счастливой, она бы развлечения ради вновь завоевала Европу, а мы стремились дать народам покой. Я убил этого чиновника карикатурой: его звали Рабурден (см. «Чиновники»).
– Когда я говорю: религия, – продолжал Блонде, – я не имею в виду ханжество, я подхожу к этому вопросу как политик.
– Объяснись, – попросил Фино.
– Изволь, – ответил Блонде. – У нас много говорилось о событиях в Лионе, о Республике, расстрелянной из пушек на улицах[15]15
У нас много говорилось о событиях в Лионе, о Республике, расстрелянной из пушек на улицах... – Бальзак имеет в виду восстание ткачей в Лионе в первые годы Июльской монархии – одно из ранних столкновений между пролетариатом и буржуазией. Восстание, проходившее под лозунгом «Жить, работая, или умереть, сражаясь», было жестоко подавлено правительственными войсками.
[Закрыть], но истины никто не высказал. Республика схватилась за мятеж, как повстанец хватается за ружье. Я вам открою истину – она куда сложнее и глубже. Лионская промышленность бездушна: лионский фабрикант не согласится соткать ни единого локтя шелка без предварительного заказа и без надежных гарантий платежа. Когда заказы прекращаются, рабочий умирает с голоду, да и работая, он еле сводит концы с концами. Любой каторжник счастливее его. После Июльской революции нищета дошла до таких пределов, что рабочие шелковых фабрик написали на своем знамени: «Хлеб или смерть!» – один из тех лозунгов, над которыми правительству следовало бы призадуматься, ибо он был порожден дороговизной жизни в Лионе. Лион хочет настроить театров и стать столицей, отсюда – чрезмерные местные пошлины на съестные припасы. Республиканцы, предвидя, что может вспыхнуть хлебный бунт, организовали ткачей, которые дрались под двойным лозунгом. Лион пережил знаменитые три дня, но затем порядок был восстановлен, и ткачи вернулись в свои лачуги. Рабочий, который до тех пор добросовестно сдавал в виде ткани весь шелк-сырец, отпускавшийся ему по весу, отбросил теперь честность, поняв, что купцы выжимают из него все соки, и стал макать пальцы в масло: он по-прежнему сдавал фунт за фунт, но теперь это был шелк, пропитанный маслом; французская торговля шелком была таким образом заражена «жирными тканями», что могло повлечь за собой крах Лиона и тем самым одной из отраслей французской промышленности. Фабриканты и правительство, вместо того чтобы устранить корень зла, пошли по стопам некоторых врачей и при помощи сильно действующих наружных средств загнали болезнь внутрь. В Лион следовало послать ловкого человека, одного из тех, кого у нас называют людьми без моральных устоев, кого-нибудь вроде аббата Террея, но там, как мы видели, применили оружие! В результате лионских волнений появился на свет гроденапль по два франка локоть. Гроденапль сейчас уже продан, и об этом деле можно теперь говорить, а фабриканты, надо думать, изобрели какой-нибудь способ контроля. И такая недальновидная система производства должна была возникнуть в стране, где Ришар-Ленуар, один из величайших граждан, которых когда-либо знала Франция, разорился, потому что, не имея заказов, дал возможность шести тысячам ткачей продолжать работу и кормить свои семьи; потом он наткнулся на дураков министров, допустивших, чтобы Ришар-Ленуар в 1814 году пал жертвой резкого колебания цен на ткани. Это – единственный коммерсант, заслуживающий памятника. Что ж, в его пользу открыта подписка – подписка без подписавшихся, тогда как для детей генерала Фуа собрали целый миллион. Лион последователен: он знает Францию, знает, что у нее нет никакого религиозного чувства. История Ришар-Ленуара – одна из тех ошибок, которые, по словам Фуше, хуже преступления.
– Если в теперешнем способе ведения дел, – сказал Кутюр, возобновляя свое прерванное рассуждение, – есть оттенок шарлатанства, – слово это превратилось в клеймо и находится на грани между честным и бесчестным, – то где, я спрашиваю, начинается и где кончается шарлатанство и что, собственно, такое – шарлатанство? Будьте так добры и скажите мне, кто не шарлатан? Ну! проявите немного добросовестности, этой наиболее редкой общественной добродетели! Торговля, которая ищет ночью то, что продается днем, была бы бессмыслицей. У любого продавца спичек есть инстинкт скупщика. Скупить товар – вот о чем мечтает и слывущий добродетельным лавочник с улицы Сен-Дени, и самый отчаянный спекулянт. А когда склады полны – необходимо продавать. Но чтобы продать, нужно заманить покупателя, – отсюда и средневековые вывески, и нынешние проспекты! Зазывать покупателей в лавку или вынуждать их войти – разница небольшая. Может случиться, должно случиться и часто случается, что торговцам попадаются товары с браком, так как продающий постоянно обманывает покупающего. Так вот, расспросите самых честных людей в Париже, скажем – наших виднейших коммерсантов... и все они с торжеством расскажут вам, к каким уловкам они прибегали, чтобы сбыть с рук подпорченный товар. Знаменитый торговый дом Минара начал именно с операций такого рода. На улице Сен-Дени вам продают платье только из «жирного шелка», иначе они не могут. Самые добродетельные коммерсанты с самым простодушным видом провозглашают заповедь самого бесстыдного жульничества: «Каждый выпутывается из беды как умеет». Блонде нарисовал вам картину событий в Лионе, их причины и последствия. Я же иллюстрирую свою теорию анекдотом. Один ремесленник, честолюбивый и обремененный многочисленным семейством, так как он пылко любил свою жену, верит в Республику. Предприимчивый малый накупает красной шерсти и изготовляет каскетки, которые можно было видеть на головах у всех парижских мальчишек, вы сейчас узнаете – почему. Республика побеждена. После событий на улице Сен-Мерри[16]16
После событий на улице Сен-Мерри... – Речь идет о республиканском восстании 5 – 6 июня 1832 года. Восстание, охватившее рабочие кварталы Парижа, было подавлено войсками правительства Луи-Филиппа и частями буржуазной национальной гвардии. Последняя баррикада на улице Сен-Мерри пала 6 июня. Бальзак несколько раз упоминает в своих произведениях о событиях на улице Сен-Мерри. «Единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, – писал Энгельс о Бальзаке, – это его самые ярые политические противники, республиканцы – герои улицы Cloitre Saint-Merri, люди, которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс».
[Закрыть] каскетки не имеют никакого сбыта. Когда у человека на руках жена, дети и десять тысяч каскеток из красной шерсти, от которых отказываются все парижские шляпочники, ему приходит в голову не меньше хитроумных планов, чем банкиру, если у того на десять миллионов акций и их предстоит поместить в дело, не внушающее ему доверия. Знаете, что сделал мой ремесленник, этот Лоу из предместья, этот каскеточный Нусинген? Он отыскал какого-то трактирного франта, из породы шутников, которые изводят полицейских на балах под открытым небом у городских застав, и уговорил его разыграть роль американского капитана, скупщика бракованных товаров, остановившегося в гостинице Мерис, и пойти спросить десять тысяч каскеток из красной шерсти у богатого шляпного торговца, в витрине которого случайно завалялась одна такая каскетка. Шляпочник, почуяв крупные дела с Америкой, мчится к ремесленнику, набрасывается на его каскетки и платит ему наличными. Об остальном не трудно догадаться: никакого американского капитана, но множество каскеток. Нападать на свободу торговли из-за подобных фактов – все равно что нападать на правосудие за то, что бывают проступки, которых оно не наказует, или обвинять общество в том, что оно плохо организовано, потому что в его недрах рождаются несчастья. От каскеток и улицы Сен-Дени перейдите сами к акциям и банку!
– Кутюр, венчаю тебя! – воскликнул Блонде, надевая ему на голову скрученную салфетку. – Я, господа, иду дальше. Если в современной теории есть порок, то кто, спрашивается, в этом виноват? Закон! Совокупность законов! Вся система законодательства! Виноваты великие люди из избирательных округов, посылаемые в Париж провинцией и начиненные моральными идеями, необходимыми в обыденной жизни, – дабы не вступать в конфликт с правосудием, – но становящимися нелепыми, когда они мешают человеку подняться на ту высоту, на которой должен стоять законодатель! Пусть законы кладут предел разгулу тех или иных страстей, запрещая азартную игру, лотереи, уличных Нинон, все что хотите, – искоренить страсти они бессильны. Убить страсти – значило бы убить общество, ибо если оно их и не порождает, то, во всяком случае, – выращивает. Наложите путы на страсть к игре, которая живет во всех сердцах, – и в сердце молодой девушки, и в сердце провинциала, и в сердце дипломата, ибо всякому хочется из ничего сделать состояние, – и игра немедленно перекинется в другие сферы. Вы по недомыслию запрещаете лотереи, но кухарки по-прежнему обкрадывают своих хозяев и относят деньги в сберегательные кассы, только ставка в игре поднимается с сорока су до двухсот пятидесяти франков, ибо место лотереи занимают теперь различные акционерные общества, товарищества на паях; игра идет без зеленого сукна, но с невидимой лопаточкой у банкомета и ловким передергиванием. Игорные дома закрыты, лотереи запрещены, и глупцы кричат, что Франция стала теперь более нравственной, как будто они уничтожили азарт! Игра продолжается по-прежнему, только доходы получает уже не государство, которое вынуждено заменить охотно уплачивавшийся налог другим, стеснительным налогом; а число самоубийств не уменьшается, ибо погибает-то не игрок, а его жертвы! Я не говорю уже о капиталах, уплывающих за границу и потерянных для Франции, ни о франкфуртских лотереях; за распространение билетов этих лотерей Конвент грозил смертной казнью, а билеты продавались даже прокурорами-синдиками. Вот к чему приводит неумная филантропия нашего законодательства. Поощрение сберегательных касс – также серьезное политическое недомыслие. Предположите какую-нибудь заминку в делах, и тотчас появятся «хвосты» за деньгами, как во времена революции были «хвосты» за хлебом. Сколько касс – столько очагов беспорядка. Если где-нибудь трое юнцов поднимут одно-единственное знамя, вот вам и революция. Но как бы ни была велика эта опасность, она, по-моему, все же меньшее зло, чем развращение населения; сберегательная касса прививает алчность людям, у которых ни воспитание, ни благоразумие не служат сдерживающим началом для их скрыто преступных махинаций. Вот вам еще результат филантропии. В принципе великий политик должен быть злодеем, иначе он будет плохо управлять обществом. Порядочный человек в роли политика – это все равно что чувствующая паровая машина или кормчий, который объясняется в любви, держа рулевое колесо: корабль идет ко дну. Разве премьер-министр, награбивший сто миллионов, но сделавший Францию великой и счастливой, не лучше премьера, которого приходится хоронить за счет государства, но который разорил свою страну? Разве стали бы вы колебаться в выборе между Ришелье, Мазарини и Потемкиным, каждый из которых имел в свое время миллионов по триста, с одной стороны, и добродетельным Робером Ленде, не сумевшим извлечь для себя никакой выгоды ни из ассигнаций, ни из национальных имуществ, или добродетельными болванами, погубившими Людовика Шестнадцатого, с другой стороны? Продолжай, Бисиу.
– Я не стану вам объяснять, – начал Бисиу, – характер предприятия, порожденного финансовым гением Нусингена; это тем более неудобно, что оно существует и сейчас и акции его котируются на бирже; замысел этот был столь реален, а само предприятие столь живуче, что акции, выпущенные согласно королевскому декрету по номинальной цене в тысячу франков и упавшие затем до трехсот франков, вновь поднялись до семисот франков и, пережив бури 1827, 1830 и 1832 годов, несомненно, достигнут номинального курса. Финансовый кризис 1827 года поколебал их, Июльская революция повлекла за собой падение их курса, но дело чревато действительными возможностями (Нусинген, видно, не в состоянии придумать безнадежное дело). Многие первоклассные банки принимают в нем участие, а потому не стоит входить в дальнейшие подробности. Номинальный капитал составлял десять миллионов, реальный – семь: три миллиона достались учредителям и банкам, взявшим на себя выпуск акций. Расчет строился на том, чтобы в первые же шесть месяцев каждая акция принесла двести франков дохода благодаря распределению мнимого дивиденда. Словом – двадцать процентов с десяти миллионов! Доля дю Тийе составляла пятьсот тысяч франков. На языке банкиров такой куш называется лакомым куском! Нусинген собирался пустить в ход свои миллионы, оттиснутые на дести розовой бумаги с помощью литографского камня, – приятные на вид акции, которые предстояло разместить и которые пока что заботливо хранились в его кабинете. Акции солидные должны были дать средства, чтобы основать дело, купить роскошный особняк и начать операции. Нусинген располагал еще акциями какого-то свинцово-серебряного рудника, каменноугольных копей и двух каналов; это были акции, полученные при пуске в ход всех четырех предприятий, акции, высоко поднявшиеся и пользовавшиеся большим спросом благодаря выдаче дивиденда за счет основного капитала; Нусинген мог бы положить в карман разницу в случае дальнейшего повышения курса этих акций, но барон в своих расчетах пренебрег такой мелочью – он оставил их плавать на поверхности, чтобы приманить рыбку. Он собирал в кулак свои ценности, как Наполеон собирал в кулак своих гренадеров, и решил объявить себя несостоятельным во время кризиса, который уже намечался и в 1826 и 1827 годах потряс до основания все биржи Европы. Если бы у Нусингена был свой князь Ваграмский, банкир мог бы сказать ему, как Наполеон с высот Сантона: «Присмотритесь хорошенько к бирже в такой-то день, в такой-то час – там будут разбросаны ценные бумаги!» Но кому мог он довериться? Дю Тийе и не подозревал, что невольно играет роль адъютанта в этом деле. Две первые ликвидации показали нашему могущественному барону, что ему необходим человек, который служил бы рычагом для воздействия на кредиторов. У Нусингена не было племянников, он не решался довериться первому встречному, ему требовался преданный человек, – своего рода умный Клапарон, – человек с хорошими манерами, настоящий дипломат, достойный министерского портфеля, достойный самого Нусингена. Такие знакомства не завяжешь в один день – даже в один год. Барон к тому времени совсем опутал Растиньяка, который, играя в доме банкира роль принца Годоя, пользовавшегося одинаковой любовью и короля и королевы Испании, думал, что нашел в лице Нусингена необычайно удобного простофилю. Сначала Растиньяк потешался над человеком, чей истинный размах долго оставался для него тайной, но в конце концов стал искренне и серьезно поклоняться ему, признав в нем силу, единственным обладателем которой он почитал до тех пор только себя.
С первых же своих дебютов в Париже Растиньяк научился презирать всех и вся. Начиная с 1820 года он, подобно Нусингену, полагал, что человеческая честность – всего лишь видимость, и усматривал в светском обществе лишь скопище всяческих зол и пороков. Если он и допускал исключения, то обществу в целом выносил беспощадный приговор. Растиньяк верил не в добродетели, а лишь в обстоятельства, при которых человек ведет себя добродетельно. Этот вывод был делом одного мгновенья; Растиньяк пришел к нему на кладбище Пер-Лашез в тот день, когда провожал в последний путь несчастного, но порядочного человека – отца своей Дельфины, ставшего жертвой нашего общества и обманутого в своих лучших чувствах, покинутого дочерьми и зятьями. Он решил провести всех этих господ, драпируясь в тогу добродетели, честности и изысканных манер. Сей юный дворянин заковал себя с ног до головы в броню эгоизма. Когда молодчик обнаружил, что Нусинген одет в те же доспехи, он проникся к нему уважением, подобно тому как средневековый рыцарь в латах с золотыми насечками, верхом на берберийской жеребице, проникся бы на турнире уважением к своему противнику в таких же доспехах и на таком же коне. Правда, наслаждения в Капуе[17]17
...наслаждения в Капуе... – выражение, служащее во французском языке для обозначения беззаботной жизни; примерно то же, что «сибаритство».
[Закрыть] заставили Растиньяка на некоторое время растаять. Дружба такой женщины, как баронесса Нусинген, способна привести к отказу от всякого эгоизма. После того как она обманулась в своей первой привязанности, обнаружив в лице покойного де Марсе бирмингамскую механическую куклу, Дельфина должна была почувствовать безграничную нежность к молодому человеку, преисполненному провинциальных верований. Ее нежность оказала свое воздействие на Растиньяка. Когда Нусинген надел на приятеля своей супруги хомут, который всякий эксплуататор надевает на эксплуатируемого, – произошло это как раз в момент подготовки к третьему банкротству, – он обрисовал Растиньяку свое положение и дал ему понять, что долг дружбы обязывает Эжена в виде возмещения взять на себя и сыграть до конца роль его пособника. Барон счел неосторожным посвящать в свои планы человека, разделявшего с ним его супружеские обязанности. Растиньяк поверил, что стряслась беда; а барон позволил ему утешаться мыслью, что он спасает дело. Но когда в мотке слишком много ниток, в нем образуются узлы. Растиньяк дрожал за состояние Дельфины; он потребовал раздела имущества, стремясь обеспечить Дельфине независимость, и поклялся в душе полностью рассчитаться с нею, утроив ее состояние. Так как для себя Эжен ничего не требовал. Нусинген сам упросил его принять в случае полного успеха двадцать пять тысячефранковых акций свинцово-серебряного рудника. И Растиньяк взял их, чтобы не оскорбить барона! Нусинген обработал Растиньяка накануне того вечера, когда наш приятель уговаривал Мальвину выйти замуж. При виде сотни счастливых семейств, разгуливавших по Парижу и спокойных за свое состояние, всех этих Годфруа де Боденоров, д'Альдригеров, д'Эглемонов и других, Растиньяк почувствовал дрожь, словно молодой генерал, окидывающий взглядом армию перед своим первым сражением. Бедняжка Изора и Годфруа, игравшие в любовь! Как походили они на Ациса и Галатею под скалой, которую циклоп Полифем готовился на них обрушить!..