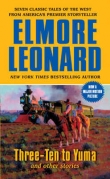Текст книги "Страсть в пустыне"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Оноре де Бальзак
Страсть в пустыне
– Жуткое зрелище, – воскликнула она, выходя из зверинца Мартэна, где только что посмотрела выступление этого смельчака, «работающего», выражаясь стилем афиши, со своей гиеной... – Как ему удалось, – продолжала она, – до такой степени приручить этих тварей, чтобы настолько быть уверенным в их привязанности и...
– То, что кажется вам трудно выполнимым, – перебил я ее, – на самом деле вполне естественно.
– О! – воскликнула она, и улыбка недоверия коснулась ее губ.
– Вы считаете, что животные совершенно лишены страстей? – спросил я ее. – Так знайте, мы способны сообщать им любые пороки, порождаемые нашей цивилизацией.
Она посмотрела на меня с крайним удивлением.
– Но признаюсь, – продолжал я, – когда мне впервые довелось увидеть Мартэна, то, как и вы, я не смог сдержать удивления. Тогда рядом со мной случайно оказался старый солдат, у которого была ампутирована правая нога. Вид его поразил меня. Война оставила свою печать на его лице, и наполеоновские битвы начертали на его лбу свои письмена. Но его открытое лицо имело то выражение непосредственности и добродушия, которое всегда действовало на меня располагающе. Без сомнения, он был одним из тех служивых, которые ничему не удивляются; находят смешное даже в предсмертных конвульсиях товарища и предают его земле с таким же легким сердцем, как и грабят. Такие люди бесстрашно стоят под пулями, не тратят время на долгие раздумья и, не колеблясь, сведут дружбу хоть с самим дьяволом. Внимательно посмотрев на выходящего из своей ложи владельца зверинца, мой случайный спутник сморщил губы одновременно и насмешливо, и презрительно. Лицо его приобрело то особое выражение, которым высокомерные люди показывают, что их не так-то легко провести. Когда же я стал распространяться насчет храбрости Мартэна, он улыбнулся и, мотнув головой, воскликнул: «Дело известное!».
«Как «дело известное»? – удивился я. – Я буду вам весьма признателен, если вы разъясните мне эту загадку».
Представившись друг другу, мы направились пообедать в первую попавшуюся ресторацию. Во время десерта бутылка шампанского освежила и прояснила память этого странного солдата. Он поведал мне свою историю, и я убедился, что он был прав, когда воскликнул «дело известное!».
Когда мы вернулись домой, она стала так мило меня подзадоривать, была так обворожительна и дала столько обещаний, что я в конце концов согласился открыть ей признание старого солдата. Назавтра она получила следующий эпизод из эпопеи, которую можно было бы назвать «Француз в Египте».
* * *
Во время экспедиции в Верхний Египет под командованием генерала Десекса, один провансальский солдат был захвачен магрибцами и уведен в пустыню, лежащую за нильскими водопадами.
Стараясь держаться на безопасном расстоянии от французской армии, магрибцы двигались форсированным маршем и остановились только на ночлег. Они стали лагерем вокруг колодца, укрытого тенью пальмовых деревьев, под которыми была заранее припрятана провизия. Не предполагая, что их пленнику придет в голову мысль о побеге, они посчитали достаточным связать ему руки. Поев немного сушеных фиников и дав овса лошадям, магрибцы улеглись спать.
Увидев, что враги больше за ним не следят, храбрый провансалец зубами вытащил скимитар[1]1
Скимитар – арабская сабля; это древнее оружие, сыгравшее важную роль в истории Ближнего Востока; упоминание о нем восходит к 1600 г. до н.э.
[Закрыть], зажал его лезвие между колен и, перерезав веревки, в одно мгновение оказался на свободе. Он схватил ружье, кинжал, сушеных фиников, небольшой мешок с овсом, порох и пули и заткнул за пояс саблю. Вскочив на коня, он поскакал в ту сторону, где, по его мнению, должна была находиться французская армия. Ему не терпелось вновь увидеть свой бивуак, и он так пришпоривал уже и без того порядком вымотавшегося рысака, что изодрал до мяса бока несчастной лошади. В конце концов бедное животное свалилось замертво, оставив француза одного в пустыне. Проделав пешком путь по пескам с отчаянной неутомимостью осужденного беглеца, на исходе дня он вынужден был остановиться. Несмотря на редкую красоту восточного ночного неба, он больше не чувствовал в себе сил продолжать путь. К счастью, ему удалось найти небольшой холм, на вершине которого высились несколько пальмовых деревьев; их кроны, заметные издалека, вселили в его сердце надежду. Измученнный он прилег на гранитный камень, форма которого по странности напоминала походное ложе, и уснул, даже не позаботившись о своей безопасности. Он отдавал свою жизнь в жертву, и последней мыслью его было раскаяние. Он казнил себя за то, что убежал от магрибцев, чья кочевая жизнь теперь, когда он был далеко от них и лишен помощи, стала казаться ему даже привлекательной.
Его разбудили безжалостные лучи солнца, которые, падая вертикально вниз, нестерпимо раскалили гранит. По собственной глупости он расположился на стороне противоположной той, на которую отбрасывали тень зеленые кроны величавых пальм. Он посмотрел на эти одинокие деревья и невольно вздрогнул – до того напомнили ему их изящные увенчанные листвой стволы сарацинские колонны в Арльском соборе.
Провансалец обхватил руками ствол пальмы, словно это было тело друга, и, опустившись на землю там, где падала ее скудная прямая тень, горестно зарыдал. С неописуемой тоской смотрел он на лежавшую перед ним картину безысходности. Затем он закричал. Он кричал так, будто хотел измерить всю глубину своего одиночества. Но его голос, затерявшись в расселинах холма, прозвучал слабо и эхо не отозвалось на него – эхо жило в его собственном сердце. Провансальцу было двадцать два года, и он зарядил свое ружье.
«Это я всегда успею», – сказал он сам себе и положил рядом оружие, свое единственное спасение.
Глядя то на мрачный простор пустыни, то на голубую вышину неба, солдат грезил о Франции. С наслаждением он вызывал в памяти запах парижских сточных канав, вспоминал городки, через которые когда-то проходил, лица своих товарищей – самые ничтожные детали своей жизни. Очень скоро из марева, дрожавшего над необъятной пустыней, его воображение южанина выткало картину родного Прованса. Понимая опасность этого жестокого миража, он спустился к подножию холма по склону, противоположному тому, к которому подходил прошлой ночью.
С ликованием обнаружил он в огромных обломках гранита, составлявших основание холма, природное углубление, похожее на пещеру. Остатки плетеной подстилки указывали на то, что это укромное место раньше было обитаемо. В нескольких шагах от пещеры росли пальмы, увешанные финиками. Инстинкт, привязывающий нас к жизни, снова очнулся в его сердце. В нем вспыхнула надежда, что он проживет достаточно долго, чтобы дождаться проходящих мимо магрибцев, или, быть может, услышать грохот орудий, ибо в этот самый момент Бонапарт пересекал границу Египта.
Эти мысли вернули его к жизни. Он натряс немного фиников с пальмы, которая, казалось, гнулась от груза спелых плодов, и попробовал эту нежданную манну небесную. Приятная на вкус, свежая мякоть фиников говорила о том, что его предшественник ухаживал за деревьями. Внезапно недавнее беспросветное отчаяние солдата сменилось граничащей с помешательством радостью. Он снова поднялся на вершину холма и всю оставшуюся часть дня рубил лишенное плодов пальмовое дерево, служившее ему укрытием прошлой ночью. Смутные воспоминания заставили его задуматься о диких животных пустыни, которые могли прийти на водопой к источнику, журчащему между камней у подножия холма. Он решил оградить себя от их непрошенного визита и забаррикадировать вход в свое убежище.
Несмотря на все его упорство и усилия, придаваемые ему страхом быть сожранным во сне, он не смог разрубить пальму на части, но ему удалось ее повалить. Когда под вечер королева пустыни рухнула, звук от ее падения разнесся далеко вокруг, словно вздох самого Одиночества. Солдат вздрогнул, услышав в нем голос, пророчащий несчастье. Но подобно наследнику, недолго оплакивающему своего умершего родственника, он оборвал с верхушки гордого дерева широкие зеленые листья, его поэтичное украшение, и пустил их на починку старой подстилки, на которой собирался провести ночь. Утомленный жарой и работой, он уснул под красной крышей темной пещеры.
Ночью его разбудил странный звук. Он сел и посреди мертвой тишины услышал дыхание какого-то существа; звук его не имел ничего общего с человеческим. От ужаса, усиливаемого мраком, безмолвием и фантасмагориями только что очнувшегося от сна разума, кровь заледенела в его жилах. Он до предела напряг зрение и, различив в темноте два мерцающие желтых огонька, ощутил как волосы зашевелились у него на голове. На мгновение ему показалось, что огоньки были отражениями его собственных зрачков. Но когда в прозрачном ночном воздухе пещеры он начал различать предметы, то увидел, что в двух шагах от него лежал огромный зверь!
Кто это? – лев?.. тигр?.. крокодил?.. Провансалец не был достаточно образован и не знал, к какому виду животного царства могла принадлежать эта тварь. Его невежество лишь распаляло фантазию и удесятеряло страх. Солдат подвергался жестокой пытке – он должен был прислушиваться к ничтожным капризам звериного дыхания и при этом не сметь пошевелиться. Запах такой же сильный, как у лисы, но более резкий наполнил пещеру. Когда он коснулся обоняния провансальца, его страх достиг своего предела. Сомнений не было – он сделал своим бивуаком царственное логово какого-то ужасного зверя. В этот момент опустившаяся к горизонту луна заглянула в пещеру; и тогда в лунном сиянии высветилась пятнистая шкура леопарда.
Лев Египта спал, улегшись, словно огромный пес, какой-нибудь беззлобный хозяин роскошной конуры у ворот особняка. Его морда была повернута к французу.
Леопард на мгновение открыл глаза и тут же закрыл их вновь.
Тысячи тревожных мыслей проносились в голове пленника леопарда. Вначале он хотел застрелить его, но расстояние между ними было короче ружья. И что если он разбудит его? Одна мысль об этом повергала его в оцепенение. Провансалец прислушивался к стуку своего сердца. Он проклинал свой пульс, казавшийся ему слишком громким, и боялся, что он может нарушить сон зверя, дававший ему время подумать о средствах к спасению. Дважды он брался за скимитар с намерением отрубить своему врагу голову, но каждый раз отказывался от этой безумной затеи, опасаясь, что не сможет сразу пробить плотную шерсть; неудача же привела бы к неминуемой смерти. Предоставив всё случайности поединка, он решил ждать рассвета.
И рассвет не заставил себя долго ждать. Теперь провансалец мог лучше рассмотреть леопарда. Его морда была в крови. «Он, должно быть, как следует набил брюхо и не будет голоден, когда проснется», – мелькнуло в голове у солдата, и он старался не думать о том, что трапеза зверя могла состоять из человеческой плоти.
Это была самка. Мех на ее животе и боках был ярко-белого цвета; множество маленьких пятен образовывали красивые бархатистые браслеты вокруг лап; упругий хвост тоже был белым, но заканчивался черными кольцами. Ближе к голове ее наряд был золотистого цвета и мех здесь очень мягкий и гладкий имел особенные пятна, по которым леопарда отличают от других кошачьих. Внушавшая ужас хозяйка пещеры посапывала так же безмятежно, как котенок, уютно свернувшийся на кушетке. Она лежала, вытянув вперед мускулистые лапы, вооруженные мощными когтями, и на них покоилась голова с прямо торчащими серебристыми усами.
Будь леопардица заключена в клетку, провансалец несомненно восхитился бы ее грацией и нарядом, которому поразительное сочетание ярких цветов придавало царское великолепие; но теперь ее грозный вид не вызывал в нем ничего кроме ужаса. Даже спящая она повергла француза в оцепенение, подобное тому, в которое впадает соловей под гипнотическим взглядом змеи. На время храбрость изменила ему, хотя она несомненно бы воскресла, окажись он перед жерлом заряженной пушки.
Дневной свет вызвал у солдата отчаянную мысль, осушившую источник холодной влаги, катившейся у него по лбу. Как человек, доведенный до последней черты, он решил бросить вызов судьбе и сыграть свою роль в этой трагедии с достоинством и до конца. «Два дня назад, – говорил он себе, – меня могли убить арабы». Считая себя уже мертвецом, он осмелел и стал ждать пробуждения зверя с беспокойным любопытством.
Когда взошло солнце, леопардица вдруг открыла глаза и энергично вытянула вперед лапы, потягиваясь и разминая суставы. Потом она зевнула, показав шероховатый, как наждак, язык и грозный оскал зубов. Глядя на то, как она плавно и кокетливо перекатилась, он подумал: «А ведь она ведет себя как настоящая женщина». Затем леопардица вылизала пятна крови на своих лапах и морде, потерлась головой – и все это движениями, полными очарования. «Вот так! Приведем себя немного в порядок! – мысленно усмехнулся француз, чувствуя, как веселость возвращается к нему вместе с храбростью. – Теперь скажем друг другу «доброе утро», – подумал он и сжал в руке короткий кинжал, украденный у магрибцев.
В этот момент леопардица повернула голову и, замерев, посмотрела на него в упор. Ее жестокий взгляд и невыносимый блеск глаз заставили его содрогнуться. Он смотрел на огромную кошку, приближавшуюся к нему, ласково и прямо в глаза, словно хотел загипнотизировать. Француз позволил ей подойти к себе почти вплотную и провел рукой по всему ее телу, от головы до хвоста, слегка почесывая гибкий позвоночник, разделявший желтую спину леопардицы. Он сделал это движением мягким и нежным, как если бы ласкал красивую женщину. Самка подняла хвост от удовольствия, и ее взгляд смягчился; когда же он в третий раз повторил свою льстивую ласку, она, как обыкновенная кошка, громко заурчала. Эхо от ее утробного урчания, отражаясь от стен пещеры, звучало, как соборный оргáн. Провансалец, увидев, что его ласки достигают цели, продолжил их с удвоенным усердием да так, что ошеломил царственную куртизанку, почти доведя ее до состояния оцепенения.
Убедившись в том, что вполне умиротворил свирепость своей своенравной компаньонки, к счастью удовлетворившей свой голод прошлой ночью, он встал и вышел из пещеры. Леопардица позволила ему это, но когда он начал подниматься на холм, она прыжками, с легкостью воробья, скачущего с ветки на ветку, догнала солдата и стала тереться о его ногу, как кошка выгибая спину. Затем она посмотрела на своего хозяина глазами, жестокий блеск которых несколько смягчился, и издала рычание, которое натуралисты сравнивают со звуком пилы.
«Однако, как она требовательна!» – воскликнул француз, улыбаясь. Он принялся играть ее ушами, ласкать ее живот и энергично чесать ей голову ногтями. Осмелев от успеха, он стал щекотать ей голову острием своего кинжала, нащупывая место для удара. Но кости черепа были очень тверды, и он испугался, представив себе что будет, если он потерпит неудачу.
Султана пустыни поощряла действия своего раба, поднимая голову, вытягивая шею и принимая позы, выражающие удовольствие. Внезапно француза осенила мысль, что если вонзить кинжал в шею дикой принцессы, то тогда ее можно было заколоть одним ударом. Но когда он уже занес кинжал, чтобы привести эту мысль в исполнение, леопардица, несомненно удовлетворенная, грациозно повалилась у его ног на землю и стала бросать на него время от времени взгляды, в которых, несмотря на всю ее звериную природу, едва заметно светилась нежность.
Прислонившись спиной к пальме, бедный провансалец ел финики и вопрошающе смотрел то на пустыню, откуда могло придти спасение, то на свою грозную спутницу, следя за ее сомнительным благодушием. Каждый раз, когда он швырял финиковую косточку, леопардица следила за ее полетом с нескрываемым недоверием. Она изучала человека с почти деловой холодностью, но результат как будто оказался в пользу француза, поскольку, когда он закончил свою жалкую еду, она облизала его сапоги своим шершавым языком и сняла набившуюся в их складки пыль.
«Интересно, когда она проголодается?» – подумал провансалец.
Несмотря на трепет, который вызвала в нем эта мысль, солдат стал с любопытством изучать пропорции леопардицы, несомненно представлявшей один из самых прекрасных экземпляров своего вида. Она была три фута в высоту и четыре фута в длину, не считая хвоста. Хвост, это мощное оружие, круглое, как дубинка, был длиной почти в три фута. Ее большую, как у львицы, голову отличала редкая изысканность; и хотя в ее облике преобладала холодная тигриная жестокость, но также просматривались черты коварной женщины. Наконец, было в повадках этой царственной отшельницы нечто от свирепой веселости пьяного Нерона: утолив жажду крови, она желала играть.
Француз попробовал ходить вверх и вниз по холму, и леопардица отпускала его, при этом провожая взглядом не столько преданной собаки, сколько ангорской кошки, не доверяющей никому, даже собственному хозяину. Осмотревшись вокруг, солдат заметил у источника останки своей лошади – леопардица приволокла ее от того места, где лошадь пала. Две трети туши было сожрано, и это его успокоило. Ему стало понятным отсутствие леопардицы и то уважение к его жизни, которое она проявляла пока он спал.
Первая удача вселила в него безумную идею: устроить приятную совместную жизнь с леопардицей, всячески ее умиротворяя и пользуясь ее расположением. Будущее уже не казалось ему таким безысходным.
Ему польстило, когда леопардица едва заметно вильнула хвостом при его приближении. Уже без страха сел он рядом и начал с ней играть. Он брал в свои руки ее лапы и морду, тянул ее за уши, переворачивал на спину и с силой поглаживал ее теплые шелковистые бока. Леопардица позволила ему все, и когда он захотел пригладить мех на ее лапах, она осторожно спрятала свои страшные когти, формой напоминавшие дамасскую саблю.
Держа руку на рукоятке кинжала, француз все еще раздумывал, а не всадить ли его в живот своей слишком доверчивой спутницы, но побоялся, что она задушит его в предсмертных конвульсиях. Кроме того, сердцем он чувствовал нечто вроде угрызений совести, призывавших его с уважением относится к существу, не причинившему ему никакого вреда. Ему казалось, что посреди этой безбрежной пустыни у него появился друг. Невольно ему вспомнилась женщина, которую он когда-то любил и которой не без сарказма дал прозвище Миньона (Милашка), потому что всегда боялся, что в припадке ревности она ударит его ножом. Эти воспоминания юности подсказали ему назвать тем же именем леопардицу, чьей ловкостью и грацией он восхищался теперь уже с гораздо меньшим страхом.
К вечеру он так свыкся со своим опасным положением, что риск, которому он постоянно подвергался, даже начал ему нравиться. А его спутница усвоила привычку поднимать на него глаза, когда он фальцетом звал ее «Миньона».
Когда солнце садилось за горизонт, Миньона несколько раз испустила низкий тоскливый вой.
«Она хорошо воспитана, – усмехнулся про себя солдат, – раз приучена совершать молитву!»
– Пойдем, моя малышка, я уложу тебя спать, – сказал он ей, решив про себя бежать, как только она уснет, и найти на ночь другое убежище.
Солдат с нетерпением дождался часа побега и со всех ног бросился в сторону Нила. Но не успел он проделать по песку и четверти лье, как услышал все тот же похожий на звук пилы рык догонявшей его леопардицы. И он показался ему ужаснее звука ее прыжков.
«О, боже! – мрачно усмехнулся он про себя, – похоже она увлеклась мной. У нее видно никогда никого не было. Довольно лестно быть ее первым возлюбленным!». В это мгновение он провалился в зыбучий песок, из которого невозможно выбраться самому. Видя, что его все сильнее засасывает, он в ужасе закричал. Леопардица схватила его зубами за воротник и, отпрыгнув назад изо всей силы, как по волшебству вытащила его из смертоносной воронки.
– Ах, Миньона! – воскликнул солдат, благодарно лаская ее. – Теперь мы связаны с тобой и на жизнь, и на смерть. Но только без шуток, ладно? – И он возвратился в пещеру по своим собственным следам.
С этого дня пустыня стала казаться ему обитаемой. В ней было существо, с которым он мог говорить и чью свирепость ему удалось смягчить, хотя он и не находил объяснения их странной дружбе.
Как ни велико было его желание оставаться бодрствующим и быть начеку, он все же уснул. Когда он проснулся, Миньоны рядом не было. Он поднялся на холм и увидел ее в отдалении. Она приближалась к нему прыжками, что свойственно этим животным, которые не могут бегать из-за слишком гибкого позвоночного столба. Когда она подошла, он увидел, что ее челюсти в крови; солдат приласкал ее, и она громко заурчала, показывая, как ей приятно. В ее глазах было еще больше, чем накануне, нежности к провансальцу, обращавшемуся с ней так же, как обращаются с домашними животными.
– Ах, ты моя мадемуазель! Ты хорошая девочка, правда же? Вы только посмотрите! Ага, мы любим быть в центре внимания, так ведь? Ну не стыдно ли тебе? Признайся, ты ведь сожрала какого-нибуль магрибца, а? Но это не имеет значения. Ведь они такие же твари как и ты. Только не вздумай сожрать француза, а то я не буду тебя больше любить.
Она играла с ним, как собака с хозяином, позволяя себя валять, сбивать с ног, расчесывать. Иногда она сама каким-нибудь жестом приглашала солдата поиграть с ней.
Так прошло несколько дней. Дружба с леопардицей открыла провансальцу величественную красоту пустыни. Теперь, когда рядом с ним было живое существо, занимавшее его мысли, достаточно еды, а состояния тревоги сменялись состояниями умиротворенности, его душа наполнилась новыми чувствами, а жизнь разнообразием.
Одиночество выдало ему свои секреты и окружило своими радостями. Глядя на восходы и закаты солнца, он открыл для себя красоты недоступные остальному человечеству. Всё его существо трепетало, когда он вдруг слышал над своей головой свист крыльев редкой птицы или когда следил за цветными облаками, этими причудливыми и изменчивыми странниками. Глубокой ночью он изучал игру лунного света на поверхности песчаного океана, волновавшейся от дуновений самума. Он проживал день Востока, изумляясь его великолепию. И часто, после того как перед его глазами проносилась грандиозная картина песчаной бури, взвивающей над землей красную смертоносную мглу, он с восторгом приветствовал ночь, несущую прохладу звезд и музыку небесных сфер. Одиночество научило его разворачивать волшебный свиток грез, и он часами мысленно перебирал самые ничтожные детали прошлого, сравнивая его с настоящим.
В конце концов в нем вспыхнула страстная привязанность к леопардице, ибо сердцу необходима любовь.
Может из-за того, что его сильная воля изменила ее дикий нрав, или потому, что она могла всегда добыть себе пищу в своих охотничьих вылазках, но она не посягала на жизнь француза, и он перестал ее бояться, считая, что совершенно приручил ее.
Он много спал, но во все остальное время, словно паук в своей паутине, был начеку, боясь упустить свой шанс на избавление. Стремясь помочь случаю, который мог совершенно неожиданно возникнуть в границах купола, очерченного линией горизонта, он смастерил из своей рубашки флаг и водрузил его на верхушку пальмы, предварительно очистив ее от листьев. Чтобы пересекающий пустыню путешественник заметил флаг и в безветрие, он придумал средство удерживать его в развернутом виде, укрепив концы с помощью маленьких палочек.
В те часы, когда надежда покидала его, он развлекал себя игрой со своей спутницей. Он научился понимать различные интонации ее голоса, выражения ее глаз; изучил причудливый рисунок на ее золотом наряде. Миньона не рычала больше, когда он брал в руки конец ее хвоста, чтобы сосчитать украшавшие его белые и черные кольца, которые блестели на солнце, как ожерелье. Ему доставляло удовольствие смотреть на ее изысканные мягкие формы, белизну ее живота и на то, как грациозно она держала голову. Но особенно он восхищался ею, когда она играла. Ловкость и юная легкость ее движений не переставали его удивлять. Он поражался гибкости, с которой она прыгала, лазила, умывалась и ухаживала за своим мехом, припадала к земле и готовилась к прыжку. Но каким бы стремительным ни был ее прыжок и каким бы скользким ни оказывался под ней камень, она всегда замирала при слове «Миньона».
Однажды огромная птица пролетела над ними в лучах яркого полуденного солнца, и он отвлекся от леопардицы, чтобы посмотреть на нового гостя; тогда покинутая султана, помедлив мгновение, зарычала.
– О, боже! Да неужто она ревнует, – воскликнул он, заметив как жестокость вернулась ее взгляду. – Душа женщины точно живет в ее теле.
Когда орел растаял в воздухе, солдат уже любовался изгибами тела леопардицы.
И впрямь, в ее формах было столько юности и грации! Она была прекрасна, как женщина! Светло-желтый мех ее наряда необыкновенно сочетался с изысканными оттенками белого на ее боках. Под ярким солнечным светом это живое золото с коричневыми пятнами сияло неописуемым блеском.
Человек и леопардица посмотрели друг на друга с пониманием. Мелкая дрожь пробежала по телу красавицы пустыни, когда она ощутила на своей голове прикосновение ногтей своего поклонника; ее глаза сверкнули, словно молния, и затем она плотно закрыла их.
– У нее есть душа, – произнес француз, глядя на неподвижную царицу песков, такую же золотую, как они, такую же белую, как их ослепительный блеск, и такую же нелюдимую и горячую.
* * *
– Что ж, – сказала она мне, – я прочла вашу апологию животных. Но чем же кончилось у этих двоих, так хорошо понимавших друг друга?
– А кончилось у них тем же, чем заканчивается любая сильная страсть – непониманием. По какой-то причине один подозревает другого в измене. Они не пускаются в объяснения из гордости и ссорятся и расстаются из одного упрямства.
– Хотя порой, в счастливых случаях, одного слова или взгляда достаточно, чтобы... Впрочем, продолжайте свою историю.
– Ужасно тяжело расказывать об этом, но вы поймете, в чем признался мне старый служивый, когда, приканчивая бутылку шампанского, он воскликнул: «Я не знаю каким образом я сделал ей больно, но она повернулась ко мне в ярости и своими острыми зубами схватила меня за ногу – мягко, я полагаю; но тогда я подумал, что она сейчас сожрет меня, и всадил свой кинжал ей в горло. Она перевернулась на спину и испустила такой вой, от которого мое сердце похолодело. Я сидел рядом и смотрел как она умирала, глядя на меня безо всякого гнева. В ту минуту я отдал бы весь мир – даже мой крест, которого я тогда еще не заслужил, – чтобы вернуть ее к жизни. У меня было такое чувство будто я убил человека; и солдаты, которые увидели мой флаг и пришли мне на помощь, застали меня в слезах».
– Вот так-то, сударь, – сказал он после паузы. – После этого я воевал в Германии, Испании, России и Франции; меня здорово помотало по свету, но никогда не видел я ничего подобного пустыне. О, да! Она прекрасна!
– Что вы чувствовали там? – спросил я его.
– Хм... это невозможно описать! Кроме того, я ведь не все время сокрушаюсь о моей леопардице и пальмах. Иначе мое сердце было бы всегда полно печали из-за всего этого. Но запомните мои слова. В пустыне есть все и ничего.
– Что это значит?..
– Ну, – продолжал он с нетерпеливым жестом, – Пустыня – это Бог без человека.