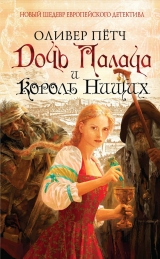
Текст книги "Дочь палача и король нищих"
Автор книги: Оливер Пётч
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Моя жизнь и так на ад похожа. – Магдалена развернулась к выходу и потащила за собой Симона.
Лекарь в последний раз взглянул на Бертхольда и насмешливо поклонился на прощание.
– Если вас снова понос или запор скрутит, – проговорил он с подчеркнутой вежливостью, – то вы знаете, где меня искать.
Они вместе вышли на улицу; за их спинами слышались приглушенные вопли Михаэля Бертхольда, осыпавшего их отборной бранью. Перед дверью до сих пор толпились зеваки. Магдалена остановилась на мгновение и оглядела собравшихся. Лица их не выражали ничего, кроме пренебрежения и отвращения.
«Дочь палача и бестолковый сын полевого хирурга. Вот так парочка…»
Девушка тут же утратила всякую уверенность, что им хоть кто-то поверит. Крестьяне и ремесленники расступились перед ними, образовав живой коридор. Все старались встать подальше от них, словно эти двое болели чем-то заразным.
Симон с Магдаленой двинулись в сторону Речных ворот, и, пока не скрылись из виду, горожане не сводили с них цепких взглядов.
3
Шонгау, ночь с 13 на 14 августа
1662 года от Рождества Христова
Поздно ночью Симона разбудил шум перед домом. Лекарь схватился за стилет, который всегда держал на сундуке возле кровати. Затем громыхнула входная дверь, и, заслышав грязную ругань, Симон понял, что это всего-навсего вернулся отец – видимо, доплелся-таки до дома из какого-нибудь кабака за городской площадью.
Симон потер глаза и потянулся. Уже с самого вечера он собирался поговорить с отцом по поводу спорыньи. Но Бонифаций Фронвизер бесследно пропал. Повода для беспокойства, в общем-то, не было. В последнее время старик все чаще начал пропадать из дому и не появлялся целыми днями – напивался в трактирах Шонгау, Альтенштадта или Пайтинга. Когда у него наконец заканчивались деньги, он высыпался где-нибудь в сарае и с распухшим с похмелья лицом возвращался домой. Успокаивался на пару недель, а потом все начиналось сначала. Симон не сомневался, что и заработанные за спорынью два гульдена отец с широкой душой спустил в ближайших кабаках.
Молодой лекарь вздохнул и взял с сундука возле кровати кружку с холодным кофе. Горький напиток поможет ему с меньшими потерями пережить причуды отца: в последнее время они жили как кошка с собакой. Бонифаций Фронвизер в прежние времена был полевым хирургом, затем подыскал себе место городского лекаря и осел в Шонгау. Мать Симона давным-давно умерла, и отец пожелал, чтобы на долю сына выпала лучшая жизнь. Поэтому он отправил Симона учиться в университет Ингольштадта, но тот вместо учебы в основном тратил деньги на модную одежду, азартные игры и красивых женщин. В конце концов он, так и не окончив университета, вернулся домой. Примерно в это же время отец и начал пить.
Бонифаций Фронвизер принялся горланить какую-то песню и вырвал Симона из раздумий. Тот отметил про себя, как отец швырнул сапоги в угол и с грохотом свалился на пол, после чего послышался звон разбитых тарелок. Симон взглянул на окно и прищурился: сквозь ставни уже пробивался тусклый утренний свет. Молодой лекарь встал и оделся. Говорить с отцом прямо сейчас, возможно, не имело никакого смысла, но в душе Симона кипела злость, и заснуть снова все равно не получилось бы.
Спустившись по крутой лестнице, Симон увидел отца уже сидящим на лавке. Старый Фронвизер осоловело уставился перед собой, разложив на столе несколько ржавых монет – видимо, все, что осталось после пьянки. Рядом стояла полупустая кружка с настойкой. Симон поднял кружку и вылил содержимое на пол. Отец, похоже, только тогда обратил внимание на сына.
– А ну оставь, – пролепетал он. – Я пока что отец тебе.
– Ты продал Бертхольду спорынью, – проговорил Симон бесстрастным голосом.
Отец устало поднял на сына маленькие глазки и, казалось, в первое мгновение решил что-нибудь соврать. Но потом просто пожал плечами.
– Ну и что. Тебе-то какое дело.
– Пекарь скормил спорынью своей служанке Резль, и вчера вечером она умерла.
Бонифаций Фронвизер явно не желал отвечать, и молчание затягивалось. В итоге снова заговорил Симон:
– Кричала так, что на весь город слышно было. Как свинья под ножом мясника. Но ты-то наверняка где-нибудь надирался и не слыхал ничего.
Старый лекарь скрестил руки на груди и задрал подбородок.
– Бертхольд выпросил у меня средство, я ему дал его, вот и все. А что он с ним собирался делать, это уже его дело и меня не касается. Коли его служанка…
– Ты советовал ему не жалеть порошка и дать побольше! – перебил его Симон. Голос его дрожал. – Ты отдал ему спорынью, словно это какой-нибудь шалфей или арника. Но это яд! Смертельный яд! Ты… коновал!
Последние слова вырвались у Симона сами по себе и для Бонифация Фронвизера оказались явно лишними.
– Коновал? – рявкнул он. – Это я-то чертов коновал? Хочешь знать, кто у нас настоящий коновал? Твой проклятый палач – вот кто! У кого еще люди покупают дьявольские зелья? В кои-то веки он уехал, я могу немного заработать – и меня тут же объявляют убийцей! И кто, собственный сын!.. – Старик вскочил и врезал по столу так, что кружки задребезжали на полках у стены. – Палач вшивый! Шарлатан проклятый! Я ему дом спалю!
Симон закатил глаза и уставился в потолок. Бонифаций Фронвизер завидовал Куизлю, и зависть эта многие годы не давала ему покоя. С любой болячкой люди, хоть и тайком, охотнее все же шли к палачу, чем к местному лекарю. Это было гораздо дешевле, к тому же палачи считались непревзойденными целителями и, как никто другой, разбирались не только в переломах и ранениях, но и в болезнях внутренних органов. Благодаря бесчисленным пыткам и казням они знали человеческое тело лучше любого ученого лекаря.
Но прежде всего старого Фронвизера злило то, что его сын водил дружбу с палачом. От Якоба Куизля Симон получил знаний больше, чем от отца и университета Ингольштадта, вместе взятых. У палача водились книги по медицине, какие найдешь не в каждой библиотеке. Он знал каждую травинку, мог распознать любой яд и сверялся с записями, которые среди ученых считались творениями дьявола. Симон почитал Куизля – и любил его дочь. Эти два обстоятельства нередко приводили Бонифация Фронвизера в бешенство.
Пока старик поносил палача и его семью, Симон подошел к очагу, над которым еще с прошлого вечера висел котелок с горячей водой. Лекарь по опыту знал: чтобы пережить такие минуты, кофе просто незаменим.
– С теми, кто делит постель с дочерью палача, я вообще разговаривать не желаю! – Неистовство отца достигло высшей своей точки. – Удивительно еще, почему ты сейчас дома, а не со своей шлюхой…
Симон едва не смял в руках нагретый котелок.
– Отец, я прошу тебя…
– Ха! Он меня просит! – передразнил его отец. – А я тебя сколько раз просил? Сколько? Чтобы ты прекратил свои позорные похождения, чтобы помог мне с работой и женился уже на дочке Вайнбергера или хоть на племяннице Харденберга, содержателя больницы… Так нет же, сыночку моему надо с палачкой обжиматься, чтобы весь город языки точил!
– Отец, прекрати! Сейчас же!
Но Бонифаций Фронвизер разошелся не на шутку.
– Знала бы только твоя мать! – не унимался он. – Да повезло, костлявая ее раньше забрала, иначе теперь померла бы со стыда. Сколько лет мы врачами за ландскнехтами таскались… Я каждый грош экономил, чтобы сыну лучше жилось и он учиться мог. А ты? Спустил в Ингольштадте все деньги и знаешься теперь с этим сбродом!
Между тем котелок в руках Симона нагрелся так, что края его обжигал ладони, но юноша все держал его над огнем, и костяшки его пальцев побелели от напряжения.
– Магдалена не сброд, – процедил он. – И отец ее тоже.
– Он чертов шарлатан и убийца, а дочь его – шлюха.
Не задумываясь, Симон сорвал котелок с очага и швырнул его в стену. Доведенная до кипения вода с шипением расплескалась по полкам, столу и стульям, по комнате заклубился пар. Бонифаций Фронвизер ошарашенно уставился на сына. Котелок едва не угодил ему в лицо.
– Да как ты смеешь… – начал он.
Однако Симон его уже не слушал, а выбежал со слезами на глазах на улицу – там уже почти рассвело. Что за бес только в него вселился? Собственного отца чуть не убил!
Он отчаянно пытался привести мысли в порядок. Нужно уезжать отсюда, подальше от этого города – здесь его задавят и окончательно превратят в лицемера. Здесь ему запрещают жениться на девушке, которую он любит, и пытаются определить каждое его действие.
По всему переулку скопились склизкие, зловонные нечистоты, сваленные в кучи. Ими провонял весь город: пометом, мочой, навозом. Симон плелся вдоль безлюдных улиц, мимо запертых дверей и ставней, а над Шонгау занимался новый, невыносимо жаркий день.
Мышь вплотную подобралась к уху Куизля. Палач почувствовал, как она проползла по его волосам и коснулась щеки крохотной мордочкой. Он старался дышать как можно тише, чтобы не спугнуть зверька. Мышь принялась обнюхивать его бороду, местами еще испачканную остатками вчерашней похлебки.
Молниеносным движением палач метнул руку к зверьку и поймал его за хвост. Мышь запищала и принялась барахтаться над лицом Куизля, пока тот задумчиво ее рассматривал.
«В ловушке, как и я. Всё брыкается, а выбраться никак…»
Якоб уже целую ночь томился в этой дыре под башней Регенсбурга. Его заперли в тесной каморке в подвале, который в иное время использовали, вероятно, в качестве кладовой. Палач сидел среди ржавых пушек и разобранных аркебуз и ждал своей дальнейшей участи.
Разыгралось ли у него воображение или за ним действительно кто-то следил? Когда его арестовывали, несколько стражников перешептывались и показывали на палача, словно бы уже знали его. Куизль то и дело вспоминал перекошенное ненавистью лицо плотогона, который наблюдал за ним всю поездку. А что насчет того крестьянина перед воротами? Уж не пытался ли он что-нибудь вызнать у палача? Что, если все они сговорились против него одного?
«А что, если это я с ума сходить начинаю?»
Якоб в очередной раз попытался вспомнить, откуда знал человека с плота. Ясным было одно: встречались они очень давно. В бою? Или подрались в трактире? А может, это один из тех, кого Куизль в далеком прошлом поставил у позорного столба, высек розгами или даже пытал? Палач кивнул. Это показалось ему наиболее вероятным. Какой-нибудь пакостник получил по заслугам, а теперь снова узнал палача. Стражники схватили его, потому что он напал на одного из них. И любопытный крестьянин был всего лишь любопытным крестьянином.
Никаких заговоров – просто несколько совпадений кряду.
Куизль осторожно опустил мышь на пол и выпустил хвост. Шустро перебирая маленькими лапками, зверек шмыгнул к стене и спрятался в норке. В следующее мгновение что-то громко скрипнуло, и Якоб вздрогнул от неожиданности. Дверь в его камеру распахнулась, и палач зажмурился от яркого света.
– Можешь идти, баварец.
В дверях стоял начальник стражи с закрученными усами и в начищенной кирасе; жестом он велел палачу выходить.
– Хватит уже за городские деньги задницу отсиживать.
– Я свободен? – удивленно спросил палач и поднялся с грязного пола.
Стражник нетерпеливо кивнул и беспокойно забегал глазами. О причинах подобного поведения Куизлю оставалось только догадываться.
– Надеюсь, поостыл теперь. Будет тебе уроком, чтобы больше не связывался со стражей Регенсбурга.
С неподвижным, словно из камня высеченным, лицом Якоб протиснулся мимо стражника, поднялся по лестнице и оказался на свободе. Стояло раннее утро, но перед воротами уже выстроилась новая очередь. С корзинами и тележками в город стекались торговцы и ремесленники.
«А плотогон со шрамами среди них есть?» – подумал Куизль и оглядел мимоходом множество лиц, но ничего подозрительного не заметил.
«Хватит выдумывать, о сестре лучше позаботься».
Ни на кого больше не оглядываясь, Куизль зашагал прочь от башни и углубился в город. Из редких писем от сестры он помнил, что Элизабет с мужем жили в купальне недалеко от Дуная, прямо у городской стены. Теперь же, шагая по широкой мощеной улице, тянувшейся от ворот, палач вдруг засомневался, будет ли такого описания достаточно. В скором времени он уже не мог толком сориентироваться в непролазной толпе. Справа и слева высились четырехэтажные дома, и извилистые переулки, что через равные промежутки отходили от главной улицы, тонули в их тени. Иногда строения теснились друг к другу настолько близко, что между крышами едва проглядывало небо. Где-то вдали слышался колокольный перезвон множества церквей. Было шесть часов утра, но народу по главной улице сновало больше, чем в Шонгау в субботний полдень. Помимо богато одетых горожан, навстречу Куизлю попадалось немало бедняков, на каждом углу сидели нищие или покалеченные ветераны и тянули руки за подаяниями. Под ногами с визгом пронеслось несколько дворняг и два поросенка. Справа показалась громадная церковь, каменный портал ее, украшенный колоннами, арками и статуями, напоминал скорее вход во дворец. На широких ступенях в ожидании дня томились батраки и бездомные. Куизль решил спросить у кого-нибудь из них дорогу.
– Купальня Гофмана, говоришь? – Заслышав растянутый говор Куизля, молодой парнишка обнажил в ухмылке два единственных зуба и потряс худым мешочком. – Нездешний, видимо? Провожу тебя, не вопрос. Но придется подкинуть пару грошиков.
Палач кивнул и протянул оборванцу несколько грязных монет. Потом резко схватил нищего за запястье и стал выворачивать, пока не послышался тихий хруст.
– Если вздумал надуть меня или улизнуть, – прошептал Куизль, – если заведешь меня в тупик, кликнешь своих дружков или хотя бы подумаешь об этом – я найду тебя и хребет сломаю. Понял?
Парень испуганно закивал и от задуманного решил все-таки отказаться.
Он повел палача прочь от церкви к следующей улице, а с нее свернул налево. Куизль в очередной раз подивился тому, сколь многолюдным был Регенсбург – даже в такой ранний час. Все куда-то спешили, словно день здесь заканчивался раньше, чем в Шонгау, и палач с трудом поспевал за своим проводником по оживленным переулкам. У него то и дело пытались стащить кошелек, но каждый раз достаточно было хмурого взгляда или хорошего пинка, чтобы впредь воришка держался от него подальше.
Наконец они добрались до искомой цели. Переулок, в котором они оказались, был шире предыдущих. В мутном ручье, медленно текущем посреди улицы, плавали экскременты и дохлые крысы. Палач принюхался. В воздухе стоял столь знакомый Куизлю едкий и гнилостный запах. По лоскутьям кожи, словно знамена развешанным под окнами и балконами, он понял, что находится на улице кожевников.
Нищий показал на высокий дом в конце левого ряда, где небольшие воротца выводили к Дунаю. Дом этот, с новой штукатуркой и свежевыкрашенным каркасом, выглядел гораздо опрятнее остальных. Над входом, словно жестяное знамя, висел, поскрипывая на ветру, герб цирюльника – зеленый попугай на золотом поле.
– Дом цирюльника Гофмана, – пробурчал юноша. – Как и обещал, костолом.
Он насмешливо поклонился и показал палачу язык, после чего скрылся в ближайшем проулке.
Приблизившись к дому, Якоб явственно почувствовал на себе чей-то взгляд – видимо, кто-то наблюдал за ним из окна напротив. Он оглянулся, но в завешанных кожей дырах ничего не увидел.
«Проклятый город, чтоб его. Вконец свихнешься тут».
Куизль постучал в массивную дверь, но она оказалась незапертой и со скрипом подалась внутрь. В доме царил полумрак.
– Лизель! – крикнул палач в темноту. – Это Якоб, твой брат! Ты дома?
Вдруг он испытал странное тоскливое чувство, на него нахлынули воспоминания детства, когда он присматривал за младшей сестренкой. Как же она рада была сбежать из Шонгау, подальше от того места, где на всю жизнь осталась бы лишь жалкой дочерью палача – какой сейчас была дочь Куизля, Магдалена. Похоже, у Элизабет все получилось. А теперь она лежала, смертельно больная, вдали от дома…
Куизль стоял в дверях, и сердце у него обливалось кровью.
Он осторожно шагнул внутрь. Потребовалось некоторое время, чтоб глаза привыкли к темноте. Просторная комната, похожая на широкий коридор, тянулась до противоположной стены. По выскобленному полу был разбросан душистый тростник. Где-то в глубине комнаты капала вода, звонко и непрестанно.
Кап… кап… кап…
Куизль медленно двинулся дальше. Справа и слева через равные промежутки стояли деревянные перегородки, делившие все пространство на отдельные ниши. В каждой из них, как заметил палач, стояли скамейки и большие, грубо вытесанные бадьи.
В самой дальней кадке, у левой стены, лежала его младшая сестра, вместе с мужем.
Элизабет Гофман и ее муж Андреас лежали, запрокинув головы и широко раскрыв глаза, словно следили за невидимым представлением на потолке. В первое мгновение Якоб решил, что супруги принимали утреннюю ванну. И только потом он заметил, что оба они были одеты. Рука Элизабет свесилась через край бадьи, и на пол с указательного пальца что-то капало расплавленным воском.
Кап… кап… кап…
Палач склонился над кадкой и помешал рукой чуть теплую воду.
Вода была густо-красной.
Палач отпрянул, и волосы у него на затылке встали дыбом. Его младшая сестра вместе с мужем лежали в собственной крови. Теперь Куизль различил и порез на шее Элизабет – словно скалился второй рот. Ее черные волосы спутанной сетью плавали на поверхности красной воды. У Андреаса Гофмана порез был таким глубоким, что голова едва держалась на туловище.
– Господи, Лизель! – Куизль обхватил голову сестры и погладил ее по волосам. – Что с тобой стало? Что же с тобой стало?
На глазах его выступили слезы – первые за долгие годы. Он поджал губы и заплакал.
«Почему? Ну почему я не пришел раньше?»
Лицо у Элизабет стало белым, словно мел. Якоб покачал ее и убрал волосы со лба, как он всегда делал в детстве, когда сестренка лежала с лихорадкой в кровати. И низким, срывающимся голосом принялся напевать детскую колыбельную.
Майский жук в вышине,
А твой папа на войне,
Мать осталась в…
Шум за спиной заставил его замолчать.
Куизль оглянулся и увидел, как в купальню осторожно вошли по меньшей мере пять стражников. Двое из них направили на палача заряженные арбалеты, а один медленно подбирался к нему с обнаженным клинком.
Это был сегодняшний начальник стражи.
Он поскреб бороду и, кивнув на два трупа, улыбнулся Куизлю.
– А ты, как я вижу, влип, баварец.
– Куда столько зверобоя! Господи, девочка моя! Ты где витаешь?
Вооружившись ложкой, Магдалена насыпала в котелок порошок из растертых трав и, когда над самым ее ухом раздался голос Марты Штехлин, испуганно вздрогнула. Девушка, конечно, знала, насколько важно соблюсти точное количество ингредиентов, но сейчас мысли ее заняты были совсем другим. И теперь, когда ее отчитала знахарка, она при всем желании не могла сказать, сколько зверобоя успела насыпать в медный котел. Зеленоватого цвета отвар кипел над очагом и распространял своеобразный аромат. Магдалена и так не могла толком сосредоточиться, а от душистого запаха становилась еще рассеяннее.
– Сколько раз тебе говорить: придерживайся рецептов!
Штехлин вырвала у нее ложку и сама принялась докладывать в котелок оставшиеся ингредиенты.
– С зеленым маслом, может, еще и ничего, – бормотала она. – А если так же будет с красавкой или ландышем? Мигом на костер угодим, как отравительницы. Так что давай-ка внимательнее!
– Я… мне жаль, – проговорила Магдалена. – Все из рук валится.
– Я уж заметила, – проворчала Марта. – Но и Резль ты таким образом вряд ли помогла бы. Остается только надеяться, что впредь люди будут приходить за спорыньей к нам, знахаркам. Лекари в этом ничего не смыслят.
Магдалена вздохнула и начала расставлять по полкам склянки и горшки. Она с самого утра рассказала Штехлин, в каких ужасных муках умерла вчера служанка пекаря. За последние два года между Магдаленой Мартой и сложилась настоящая дружба, хоть знахарка и была лет на двадцать старше. И ту и другую в городе недолюбливали, хотя многие тайком пользовались их услугами. Про них распускали всевозможные слухи, и мужчины обходили их стороной, так как считали, что женщины эти слишком уж часто вмешивались в божий промысел.
И все же Магдалене нравилась ее работа – будучи дочерью палача, она чуть ли не с рождения возилась с травами. Дочь палача знала, что хмель мог унять мужскую похоть, а манжетка помогала при беременности. Она знала средства, которые помогали женщинам забеременеть – или которые помогали вовремя избавить чрево от нежелательного плода. Магдалена и ходить толком не научилась, а отец уже начал показывать ей первые целебные и ядовитые травы. С тех пор она каждый год узнавала десятки новых – и теперь разбиралась в них едва ли не лучше самого палача. Ее знания уже не одну девушку уберегли от позорной участи стать матерью внебрачного ребенка. А кое-кого она, быть может, спасла даже от обвинений в детоубийстве – и от отцовского клинка.
Хотя в случае с Резль и она оказалась бессильна.
– Колбу, живее!
Голос Марты снова прервал ее мрачные мысли. Магдалена бросилась к сундуку, вынула высокую стеклянную колбу и осторожно поставила ее на стол. Знахарка сняла с очага котелок, и кипящий отвар тонким ручейком полился в сосуд.
Магдалена придерживала колбу и наблюдала, как зеленая жидкость медленно протекала через фильтр и капала на дно сосуда. И снова невольно подумала о служанке пекаря. Ведь Бертхольд до сих пор разгуливал на свободе – вопиющая несправедливость! На женщину тут же надели бы позорную маску, а высокие господа могли творить, что им вздумается! Магдалена в ярчайших подробностях представляла себе, как ее отец розгами выгонит пекаря из города, – но в действительности все было иначе. Может, обратиться к совету? Рассказать обо всем Лехнеру? Скорее всего, ее просто высмеют. К тому же Михаэль Бертхольд был опасен. И последние его слова пустой угрозой не назовешь.
«Идите, расскажите всему городу про меня. И тогда, клянусь, я вашу жизнь в ад превращу…»
В это мгновение в распахнутое окно залетел камень с кулак величиной, за ним второй, потом третий. Один из них угодил в колбу: стекло со звоном разлетелось, и горячее масло брызнуло знахарке в лицо. Штехлин прянула назад, качнулась на стуле и, прикрыв глаза грязным передником, с криком упала на пол. А камни все сыпались в окна, ударяясь в полки, и горшки с банками разбивались под нескончаемым градом.
Магдалена бросилась к окну, пригнулась и осторожно выглянула из-за подоконника. На улице посреди переулка собралась группа мальчишек: подмастерья и ученики, все они были не старше двадцати. Магдалена тут же заметила среди них трех сыновей Михаэля Бертхольда.
– Мешай свои гнусные зелья у себя дома, палачка! – исступленно кричал тот, что стоял посередине, и изобразил неприличный жест. Долговязому и прыщавому Петеру Бертхольду было не больше шестнадцати. – Отец сказал, это из-за тебя наша служанка померла! Ты ей отвар дала, чтобы в ведьму превратить, а она потом сдохла! Отравительница чертова!
Магдалена ощутила такой прилив ярости, какие прежде случались с ней крайне редко. Она выбежала на улицу, устремилась прямо на мальчишек и с размаху врезала Петеру между ног. Юный Бертхольд сложился пополам, лицо его стало пунцовым, и он со стоном рухнул на мостовую, не способный даже рта раскрыть, не то чтобы защищаться. Все произошло настолько быстро, что остальные не успели ничего предпринять. Магдалена уперла руки в бока и встала над сыном пекаря.
– Я вам скажу, кто тут отравитель, – прошипела она и, задыхаясь от бешенства, повернулась к двум другим братьям, стоявшим нерешительно чуть поодаль. – Отец ваш сам скормил Резль отраву, потому что обрюхатил ее. И теперь свою вину решил на меня перевесить. Верите вы или нет, но отец ваш – подлый лгун и убийца! А теперь убирайтесь, и чтоб духу вашего здесь не было! Иначе рожи вам расцарапаю, пикнуть не успеете.
Она вскинула правую руку и показала длинные грязные ногти. Петер Бертхольд до сих пор валялся у нее под ногами. Он вдруг притих, и, как показалось Магдалене, во взгляде его на краткий миг промелькнула тень сомнения. Но потом все-таки собрался с силами, выпрямился и проковылял к своим братьям.
– Ты еще пожалеешь о своих словах, – прошипел старший из братьев. – Я все передам отцу, и уж он-то все сделает, чтобы Куизль собственную дочь высек и к позорному столбу привязал.
Он сплюнул и скрестил пальцы правой руки. Мальчишки стали расходиться, а Магдалена не унималась и кричала им вслед:
– Сначала задницу подотри, засранец! Все вы, Бертхольды, трусливые негодяи!
Она подняла взгляд: из распахнутых окон высовывались соседи и наблюдали за спорщиками.
– И вы тоже ничем не лучше! Ничем! Пошли вы все к черту!
Проклиная все на свете, Магдалена вернулась в дом к знахарке. Марта Штехлин уже сидела за столом и прикладывала к обожженному лицу мокрую тряпку. Девушка с облегчением отметила, что в скором времени на коже не останется никаких следов, кроме нескольких красных пятнышек. Глаза знахарки остались нетронутыми. И все же осколки и зеленая лужа на полу все еще напоминали о недавнем переполохе. Но дело было не только в разбитых колбах и пробирках – один из камней поразил Магдалену в самое сердце. Боль и обида терзали ей душу, но только теперь она дала волю чувствам – уткнулась лицом в плечо знахарки и заплакала. Штехлин гладила ее, словно маленького ребенка, и бормотала что-то успокаивающее.
– Они нас никогда в покое не оставят. Это как закон природы: как рост или увядание. Просто попробуй смириться с этим.
Магдалена резко вскочила. Глаза у нее были красные и заплаканные, но взгляд выражал несокрушимую волю.
– Плевать мне на законы, – прошептала она. – Никогда я с этим не смирюсь. Буду жить так, как мне нравится! Тем более теперь!
Марта отодвинулась чуть в сторону и украдкой взглянула на ученицу. Истинная дочь Якоба Куизля, никаких сомнений.
Через несколько часов злость Магдалены несколько поутихла. Вместе с матерью они укладывали близнецов спать. Занятие это каждый раз увлекало ее настолько, что на мрачные мысли времени почти не оставалось.
– Магдалена, ну еще одну сказочку, – взмолилась маленькая Барбара. – Только одну! Ту, про королеву и дом в лесу! Ты ее давно уже не рассказывала!
Магдалена засмеялась и стала подниматься по узкой лестнице к спальне, и девятилетняя сестра барахталась у нее в руках. Спину ломило от тяжести: совсем скоро она Барбару и поднять-то не сможет. За последний год близнецы очень подросли – в этом они, видимо, пошли в отца.
– Ну нет, пора уже закругляться, – проговорила Магдалена с наигранной строгостью. Она уложила сестренку в кровать, накрыла ее одеялом и задула свечу в углу комнаты. – Посмотри, брат твой давно уже спит.
Она кивнула на Георга, близнеца Барбары. Тот свернулся в своей кроватке и мирно посапывал.
– Тогда хоть спой что-нибудь, – пробормотала Барбара и с трудом подавила зевоту.
Магдалена вздохнула и затянула колыбельную. Слушая ее тихий голос, сестренка закрыла глаза, дыхание девочки выровнялось, и она задремала.
Магдалена склонилась над ней и осторожно погладила по щеке. Она любила маленьких близнецов, хоть порой они и выводили ее из себя. Для Георга и Барбары отец был ворчливым медведем, который злодеям воздавал по заслугам, а в собственных детях души не чаял. Магдалена чуть ли не с завистью отмечала, что отец с годами становился все добрее. Сама она за проступок до сих пор могла хорошенько получить от отца, а в случае с близнецами дело ограничивалось лишь крепкой руганью, которая не всегда приводила к желаемым результатам.
Магдалена попыталась представить, что сейчас делал отец в далеком Регенсбурге. За спиной послышались тихие шаги. В комнату осторожно вошла мать и улыбнулась.
У Анны-Марии были те же черные локоны, что и у дочери, те же густые брови – и тот же характер. Якоб Куизль порой ворчал, что женился на самом деле сразу на двух женщинах и обе они страдали припадками бешенства. Когда они вместе напускались на палача, он запирался в своей каморке и часами просиживал над книгами.
– Ну? – шепотом спросила Анна-Мария. – Уснули сорванцы?
Магдалена кивнула и тяжело поднялась с кровати.
– Штук десять сказок и не меньше сотни колыбельных. Как раз столько им и надо.
– Ты их слишком уж балуешь, – Анна-Мария покачала головой. – Точь-в-точь как отец. Он с младшей сестрой себя так же вел.
– С Элизабет? – спросила Магдалена. – Ты ее хорошо знала?
Анна-Мария поджала губы. Магдалена чувствовала, что мама не очень-то и хотела говорить о смертельно больной тете – не в такой замечательный вечер, как этот. И все же она упрямо молчала, и мама в конце концов начала рассказывать.
– Когда родители Якоба и Лизель умерли, она жила здесь с нами, – проговорила она. – Лизель была еще очень молодой, почти ребенком. Но потом явился этот цирюльник и забрал ее в Регенсбург. Отец твой ругался на чем свет стоит, но что ему оставалось делать? Она и слушать не желала старшего брата, такая же упрямая была. Просто собрала вещи и сбежала. Прямиком в Регенсбург…
Глаза ее уставились в пустоту, как если бы в памяти ее, словно чудище из глубины, всплыли неприятные картины прошлого, и она надолго замолчала.
– Почему? – тишину в конце концов нарушила Магдалена. – Почему она убежала?
Анна-Мария пожала плечами.
– Из-за любви, наверное. Хотя мне больше кажется, что она просто не вытерпела. Вечный шепот, косые взгляды, да еще каждый встречный крестится за спиной… – Она вздохнула. – Сама знаешь, быть дочерью палача и оставаться в том же городе – тут нужны нервы покрепче.
– Или мозгов поменьше, – едва слышно проворчала Магдалена.
– Что ты сказала?
Магдалена помотала головой.
– Ничего, мамочка.
Она села на скамейку в углу и в лунном свете, льющемся в открытые окна, стала рассматривать маму. Наконец проговорила:
– Ты мне никогда не рассказывала, как впервые встретилась с отцом. Я про тебя почти ничего не знаю. Откуда ты родом? Кем были мои бабушка с дедушкой? Чем-то ведь ты жила и до отца.
Анна-Мария и вправду почти не рассказывала о своей прошлой жизни. Отец тоже не любил вспоминать свое солдатское прошлое. Магдалена смутно припоминала, что раньше мама часто плакала, а отец качал ее на руках и пытался утешить. Но воспоминание было слишком расплывчатым. По рассказам родителей выходило, что жизнь их началась лишь с рождением Магдалены. А прошлого будто и не было вовсе.
Анна-Мария отвернулась к окну и стала смотреть на Лех. Она точно состарилась на глазах.
– Много чего случилось с тех пор, как я подросла. И вспоминать мне об этом не хочется.
– Но почему?
– Не спрашивай. Когда-нибудь я, может, расскажу тебе больше. Но не сегодня. Пусть сначала отец из Регенсбурга вернется. У меня плохое предчувствие, – она покачала головой. – Он снился мне прошлой ночью. Дурной сон. Столько крови…








