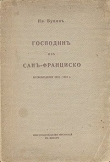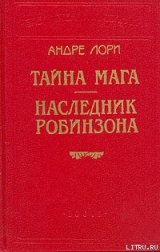
Текст книги "Наследник Робинзона"
Автор книги: Ольга Кремер
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
ГЛАВА IV. Приписка к духовной полковника Робинзона
Человек, которого приветствовали с таким радушием, был рослый индус, с бронзовым цветом лица и седыми усами, в одежде полусолдата, полутуземца зажиточного класса. Коротко остриженные волосы, посадка головы и плеч, красный мундир ясно говорили, что это бывший солдат британской армии, а между тем своеобразная форма лба, линия носа и блеск глаз, равно как и широкие белые шаровары, сандалии и широкий креповый пояс выдавали в нем уроженца берегов Бенгальского залива. И действительно, Кхаеджи был одновременно и индус, и англичанин: англичанин по отцу и индус по матери.
Вступив очень рано в ряды британской армии и сделав несколько походов с полковником Робинзоном, он привязался к нему всей душой и всегда оставался самым преданным человеком, за что и Чандос, и Флоренс были ему признательны и платили самой искренней привязанностью.
Кхаеджи не оставался у них в долгу, и лицо его осветилось широкой улыбкой, когда он вошел в комнату, но при виде мистрис О'Моллой он тотчас же вытянулся в струнку; лицо его приняло серьезное, почтительное выражение солдата в присутствии начальства, и мерным солдатским шагом подойдя к ней, он остановился на известном расстоянии и, приложив руку ко лбу, ждал, чтобы к нему обратились с вопросом.
– Ну, что, Кхаеджи? – спросила мистрис О'Моллой.
– Законоведы здесь! – коротко отозвался он.
Но это слово «законоведы» в его устах звучало так, что всякому становилось ясно, какое безграничное презрение питал этот солдат ко всем «штафиркам» вообще, а тем более к этой квинтэссенции всех штафирок, к юристам.
Мистрис О'Моллой, как ни была пропитана духом милитаризма, но все же не разделяла взглядов Кхаеджи и, по-видимому, очень оживилась при этом известии.
– Это поверенные покойного полковника Робинзона, господа Сельби и Грахам, – пояснила она своему собеседнику. – Я известила их о вашем приезде, и, вероятно, они явились представиться вам. Желаете, я прикажу просить их сюда?
– Сделайте одолжение, – ответил господин Глоаген, немного удивленный столь деловым посещением в такое время дня.
Но мистрис О'Моллой объявила, что час этот для делового визита не имеет ничего странного по местным обычаям, так как в Калькутте все дела делаются или ранним утром, или же поздно вечером, потому что в дневное время нестерпимая жара мешает всяким делам. Но чего не сказала мистрис О'Моллой, так это того, что она сгорала от нетерпения узнать все подробности завещания покойного, что наложение печатей на его бумаги особенно возбудило ее любопытство и что она отправила Кхаеджи к этим господам поверенным с настоятельной просьбой явиться сюда безотлагательно.
– Попросите этих господ сейчас сюда! – сказала она.
Кхаеджи повернулся на каблуках и, сделав полоборота, вышел мерным шагом, как будто под звуки барабана.
Вскоре в гостиную вошли и оба поверенных, которых госпожа О'Моллой тотчас же поспешила представить господину Глоагену. Как почти все юристы в мире, поверенные, адвокаты, нотариусы и прочие, эти господа были оба чисто выбриты, носили крошечные бакенбарды котлетками, длиннополые черные сюртуки новейшего покроя, туго накрахмаленные воротнички, множество увесистых брелков. У каждого из них был кожаный портфель под мышкой и любезно-заискивающая улыбка на устах, сменявшаяся, судя по обстоятельствам, строгой торжественностью. Мистер Сельби, старший из компаньонов, обладал густой белокурой шевелюрой и носил черепаховый лорнет и перстень на левой руке, тогда как мистер Грахам, младший, был лыс и носил очки.
Когда они вошли, Флоренс и Шандо вышли, а Поль– Луи счел нужным последовать их примеру. Госпожа О'Моллой также собиралась выйти, хотя и против своего внутреннего желания, но господин Глоаген попросил ее остаться, на что она, конечно, с особым удовольствием согласилась.
Первым заговорил мистер Грахам на ломаном французском языке. Он объяснил, что, согласно завещанию полковника Робинзона, он и его компаньон распорядились закрыть деревянными ставнями окна и двери кабинета покойного, в котором находились его бумаги, и наложили печати, а теперь, по требованию господина Глоагена, готовы снять эти печати в его присутствии.
– Сегодня же? – спросил археолог.
– Даже сию минуту! Мы вручим вам все его бумаги, и дело наше будет кончено!
– Но ведь при этом необходимо присутствие какого-нибудь полицейского чина! – заметил господин Глоаген.
На это ему возразили, что здесь этого вовсе не требовалось, так как поверенные уполномочивались местным законом к снятию печатей. После этого оставалось только направиться к кабинету и приступить к снятию печатей.
Осмотрев все печати и убедившись, что все они не тронуты, господа Сельби и Грахам взломали печати, Кхаеджи вставил ключ в замок и, повернув его два раза, отворил дверь.
Струя горячего воздуха пахнула в лицо присутствующим. Громадная комната с заколоченными ставнями, остававшаяся запертой в течение целых двух месяцев, производила какое-то странное впечатление, хотя все в ней оставалось в том виде, как ее оставил полковник Робинзон, то есть все вещи лежали на своих местах: книги в полном порядке – в громадных библиотечных шкафах; огромные папки и альбомы с серебряными наугольниками и застежками – на складных табуреточках; черного дерева ящики для записок и образцов – на полках и кронштейнах; высокое красивое бюро – посреди комнаты.
Прежде всего внимание господина Глоагена привлекли обломки мрамора и старинная бронза, разложенные всюду на столах и этажерках. Почти все их можно было отнести к образцам индийских археологических древностей, а некоторые даже к временам доисторического камбоджийского искусства. В общем, господин Глоаген сразу почувствовал себя в своей стихии, среди предметов, представлявших для него особый интерес, вследствие чего он следил с живейшим интересом за процедурой, проделываемой господами поверенными.
– Надо полагать, что все важнейшие бумаги покойник хранил в своем бюро, – сказал мистер Грахам, – а потому, если вы того желаете, милостивый государь, мы начнем просмотр именно с того, что находится в нем!
Господин Глоаген выразил полное согласие, и тогда господин Сельби достал из кармана связку ключей и поспешил отомкнуть бюро.
Внутренний ящик и первые два ящичка, по-видимому, не содержали ничего сколько-нибудь важного. Но, приподняв доску самого бюро, господа поверенные обнаружили потайной ящик, на дне которого лежал большого формата конверт, адресованный на имя господина Глоагена и имевший, кроме того, следующую подпись:
«Это мое археологическое завещание.
Ж. П. К. Робинзон».
Поверенные поспешили вручить конверт господину Глоагену, который тотчас же вскрыл его, подойдя к лампе, между тем как осмотр продолжался.
В конверте оказалось: во-первых, маленький сафьяновый портфель, специально сделанный для тонкой золотой пластинки величиной приблизительно около одного квадратного дециметра, с полустертыми начертаниями каких-то фигур; во-вторых, какая-то рукопись, состоящая из сотни страниц, написанных мелким почерком покойного с рисунками пером, исполненными им же; в-третьих, записка, обращенная к господину Глоагену, которую тот пробежал тотчас же.
«Г-ну Бенжамену Глоагену. Калькутта, 19 марта 1882 г.
Дорогой зять!
Если я не ошибся в вас, то вы, вероятно, лично приедете сюда, как я и просил вас о том в моем письме, принять завещанное мною вам научное наследие. Но в случае, если непредвиденные обстоятельства помешают вашему приезду, господа Сельби и Грахам, без сомнения, препроводят к вам этот пакет. Самого поверхностного взгляда на эту золотую пластинку будет совершенно достаточно, чтобы оценить ее громадное значение.
Это единственный в своем роде памятник древности, найденный мною в подземелье мечети Рам-Мохум близ Кандагара. Я убежден, что это древнейшие письмена из ныне существующих на земле.
По известным политическим причинам я был вынужден сохранять эту находку в тайне. Причины эти изложены мною подробно в рукописи, но достаточно знать, что эта золотая пластинка, заключавшаяся в особого рода каменном ящике, на которую магометане смотрят как на наследие одного из древнейших своих марабутов, является для этого народа великой святыней, известной среди магометан под названием Зраимф (Zraimph). Узнай о моей находке британское правительство, оно, вероятно, принудило бы меня возвратить этот священный в глазах афганцев предмет дикому народу, который по настоящее время не подозревает еще об исчезновении своей святыни.
Я же присвоил ее себе во имя науки с опасностью для жизни, как единственный трофей победы, одержанной моим полком над разбойниками Кандагара. Афганцы же, собственно говоря, не имеют даже никаких законных прав на обладание этой святыней.
Она относится к древнейшей цивилизации и является святыней более древней религии, чем магометанская, а потому принадлежит прежде всего истории и человечеству.
На этом-то основании я и решил удержать ее у себя, по крайней мере, до того времени, когда окончательно смогу разобрать эти начертания, а затем увезу ее в Англию и сам лично помещу в Британском музее. И вот тогда-то мы увидим, позволит ли европейский научный мир вернуть эту драгоценную историческую и археологическую редкость негодяям, перебившим у меня столько славных солдат!
Если же мне не суждено довести до конца труд по толкованию и переводу надписи, сохранившейся на этой пластинке, то поручаю довершение его вам, дорогой мой и уважаемый зять. В таком случае вы будете располагать этой золотой пластинкой, как вам заблагорассудится.
Как вы увидите из моей рукописи, при сем прилагаемой, я считаю пластинку эту золотой, относящейся ко времени всемирного потопа или какого-нибудь первобытного переворота; уверен, что это памятник халдейской письменности. Завещаю вам это сокровище, как завещаю своих детей и бумаги, а главным образом, мои записки и документы, относящиеся к древностям Камбоджи.
Подписал: Ж. П. К. Робинзон».
При чтении этой записочки сердце господина Глоагена билось от волнения и радости, понятных только ученому. Прежде чем убрать драгоценный портфель во внутренний карман своего сюртука, ему захотелось еще раз взглянуть на драгоценную пластинку, и он приблизил открытый портфель к лампе, стоявшей подле него.
С первого же взгляда господин Глоаген признал несомненную справедливость предположений покойного зятя своего. Как знаток халдейской письменности, он сразу признал знакомые линии и, что еще того важнее, успел заметить, что некоторые из знаков на золотой пластинке, казалось, были те же самые, что и знаки друидского зодиака! Какое богатое поле для всякого рода изысканий и исследований!.. Сердце археолога переполнилось радостью, он готов был простоять целый час в созерцании золотой пластинки, но спохватился, что пора и ему принять более деятельное участие в дальнейшем осмотре, и потому, бережно свернув портфель, он запрятал его в свой внутренний боковой карман.
Вдруг он совершенно случайно заметил, что взгляд Кхаеджи, устремленный на него, выражал не то жалость, не то ужас.
– Ну, что, милейший? – сказал он ему по-английски, как мог. – Разве тебе знакома эта пластинка?
Кхаеджи печально опустил голову.
– Знакома ли она мне? – сказал он глухим голосом. – Ведь я же был с полковником, когда он взял эту пластинку. Будь проклят день, когда он взял ее, потому что она была причиной его смерти, и я уверен, станет причиной смерти его детей и даже вашей!..
– Полноте, любезный! Все это суеверия, недостойные старого солдата! – ласково сказал господин Глоаген. – Как можете вы верить тому, что обладание маленькой золотой пластинкой грозит смертью тому, кто владеет ею?
– Я не могу вам объяснить, почему именно, – сказал Кхаеджи, почесывая за ухом, – я простой солдат, но что я знаю, то знаю, и никто не выбьет у меня из головы, что от этой проклятой вещицы произошла смерть полковника и произойдет еще немало несчастий…
«Бедняга! – подумал господин Глоаген, не придавая особого значения словам Кхаеджи и намереваясь при случае расспросить его о некоторых подробностях находки этой пластинки. – Как много суеверия у этих азиатов! « – и видя, что госпожа О'Моллой с особым напряженным любопытством следит за ним и за бывшим денщиком Робинзона, он подошел к ней.
Между тем оба поверенных продолжали свое дело, стараясь поскорее избавиться от возложенной на них ответственности; они, согласно установленному порядку, открывали один за другим все ящики, тетради и витрины. Самого поверхностного осмотра было достаточно, чтобы господин Глоаген мог убедиться, что здесь собраны целые сокровища образцов и материалов для археолога, особенно заинтересованного архитектурой кхмеров. Конечно, о более тщательном осмотре всех этих сокровищ в данный момент не могло быть и речи, да и, кроме того, главная цель его поездки была уже достигнута, так как добавление к завещанию полковника Робинзона было теперь найдено и вручено по назначению.
Господин Глоаген дал поверенным расписку в получении от них всего, что ему следовало получить по завещанию его покойного зятя, и затем все вернулись в гостиную, предоставив Кхаеджи вновь запереть окна и двери рабочего кабинета покойного полковника Робинзона. Вернувшись в гостиную, господин Глоаген получил из рук поверенных все денежные и иные документы покойного и, выдав им расписки, поручил препроводить все это к его нотариусу в Париж, затем, покончив с делами, все отдали должное шербетам и другим прохладительным напиткам, после чего оба поверенных вскоре откланялись и удалились.
Едва успел затихнуть шум их шагов в вестибюле, как мистрис О'Моллой поспешно подсела к господину Глоагену, как бы желая сказать этим: «Ну, наконец-то мы одни, и вы теперь расскажете мне, что заключалось в этой знаменитой приписке, или добавлении к завещанию покойного».
Но увы! Господин Глоаген оказался не слишком общительным и даже на ее прямой вопрос отвечал, что, по-видимому, археологическое наследие, оставленное полковником Робинзоном, представляет собой громадный интерес для всего ученого мира и что на одно ознакомление с содержанием его коллекции, рукописей и папок с рисунками потребуется несколько месяцев. Потому-то, не видя никакой возможности заняться этим осмотром здесь, в Калькутте, он решил с завтрашнего же дня позаботиться об упаковке и отправке всех этих сокровищ в Париж.
– Таким образом я избавлюсь от заботы обо всех этих коллекциях и бумагах и буду более свободен располагать собою во время моего пребывания в Индии, так как вы, я надеюсь, не думаете, что мы с сыном станем злоупотреблять вашим любезным гостеприимством. А так как дела наши здесь окончены, то самое лучшее для нас воспользоваться остающимся временем для посещения наиболее интересных мест Индии.
– Уж не намерены ли и вы отправиться в Камбоджу? – спросила мистрис О'Моллой.
– Увы, я полагаю, что нам придется отказаться от этого намерения. Кохинхина и Калькутта на карте как будто близко, но на самом деле с берегов Ганга и до Сайгона целое громадное путешествие… Я полагаю, что лучше всего будет, если мы удовольствуемся простой попутной экскурсией, тем более, что ведь и Флоренс и Чандос должны будут отправиться вместе с нами в Европу, а потому думаю, что мы отправимся из Калькутты в Бомбей, на что потребуется по меньшей мере шесть недель времени, и за это время успеем, вероятно, повидать немало индийских достопримечательностей: Бенарес, Аллагабад, Лукнов, Дели, Агра, Джейнур, Барсун, Сурат, Эллора…
– Не более, как простая прогулка! – засмеялась госпожа О'Моллой.
– О, я отказался от многого из моего первоначального плана, – продолжал господин Глоаген, внутренно улыбаясь и прижимая плотнее к сердцу бесценную золотую пластинку. – Если мне только посчастливится увидеть хоть некоторые из этих знаменитых памятников древности, то я буду считать себя вполне удовлетворенным. А моя программа, как я надеюсь, даст нам возможность видеть Джагернаутский храм идола Мандар близ Багальгора и знаменитую лестницу Сешнага и воплощение Вишну под видом медведя в Удчири, развалины дворца Ранакхумбон в Шитторе и подземелье Эллора, и грот львов, и сотни других классических чудес. И право, надо быть чересчур требовательным, чтобы не удовольствоваться такой программой. Не говоря уже о том, что таким образом мы значительно сократим наше путешествие морем, сев на корабль не в Калькутте, а в Бомбее.
Мистрис О'Моллой, чрезвычайно огорченная тем, что разговор удалился от темы приписки к завещанию, пыталась направить его на эту интересную для нее тему, заговорив о смерти полковника Робинзона.
– Я часто спрашиваю себя, неужели покойный друг наш никогда не имел ни малейшего подозрения относительно того, какого характера была вражда, так упорно преследовавшая его… Он ничего не говорит об этом в своем добавлении к завещанию?
– Решительно ничего! В этой бумаге говорится исключительно о научных вопросах.
– Дело в том, что если покойный оставил какие-либо указания, могущие служить путеводной нитью для розыска его убийц, то нашей священной обязанностью было бы передать их в руки правосудия, – продолжала мистрис О'Моллой. – Что он умер насильственной смертью, это не подлежит сомнению; кстати, хоть это нескромно с моей стороны, что говорил вам по этому поводу Кхаеджи? Я уверена, что он высказывал вам свои безумные опасения относительно Шандо!
– Относительно Шандо? Нет, он не говорил именно о нем, но он, по-видимому, верит в существование какой-то несомненной опасности, поразившей уже полковника Робинзона и грозящей также и его детям, и мне.
– В самом деле? Но главным образом он опасается за Шандо – можете себе представить, он никогда не спускает с него глаз и даже спит у порога его комнаты, и его ничем нельзя разубедить в том, что этому мальчику грозит ежеминутно какая-то невидимая опасность вследствие того, что с ним за последнее время случилось несколько таких приключений, какие случаются со всеми мальчуганами его лет, – вроде того, что под ним подломилась трапеция, что он свалился с лошади.
У господина Глоагена «друг пробежала дрожь по телу: ему вспомнилось при этом утреннее происшествие, и это странное совпадение невольно поразило его.
– Скажите, с Шандо действительно случилось за последнее время несколько таких случаев? Уже после смерти его отца? Да?
– Ну да, пустячные случаи, какие бывают положительно со всеми…
– Да, но сегодняшний случай носил какой-то особенный характер! – задумчиво произнес вполголоса господин Глоаген, как бы говоря сам с собой.
– Сегодняшний случай! Какой? – тревожно спросила госпожа О'Моллой. – Сегодня с ним опять что-то случилось, и я ничего не знаю об этом! – На это господин Глоаген рассказал о случившемся и о странном поведении виновного, который даже не обернулся назад, опрокинув лодку Шандо и, по-видимому, сделал это умышленно.
– Да, в самом деле, это ужасно странно, – сказала мистрис О'Моллой, – и как это я до сих пор ничего не знала об этом? Да где же они, эти дети? – засуетилась она, видимо, встревоженная их отсутствием.
И быстро поднявшись с места, она порывисто нажала кнопку звонка. Оказалось, что мисс Флоренс, Поль-Луи и Шандо весело болтают между собой в смежной маленькой гостиной; все три вошли в большую гостиную веселые, смеющиеся и цветущие, так что при одном взгляде на них невольно отлетали всякие мрачные мысли.
Одна и та же мысль мелькнула одновременно в голове господина Глоагена и мистрис О'Моллой, – и они невольно обменялись сочувственной улыбкой.
Вот что значит страх-то! Недаром, видно, говорят, что у страха глаза велики! Чего только не представится!.. Так как было уже поздно, и гости мистрис О'Моллой нуждались в отдыхе после столь продолжительного путешествия, то вскоре все распрощались и расстались на главной площадке широкой мраморной лестницы: дамы направились в свои спальни, выходившие окнами в парк, или вернее, на веранду первого этажа, а господин Глоаген, Поль-Луи и Шандо – в противоположную сторону, предназначенную для мужских спален, выходивших окнами на передний народный двор.
– А вот и Кхаеджи притащил свои матрасы! – смеясь, заметил Шандо, указывая на два половичка, скатанных у дверей его комнаты. – Представьте себе, он во время походов привык спать на голой земле и с тех пор не может отвыкнуть!.. Покойной ночи, дядя! приятного сна, кузен!..
ГЛАВА V. Человек с коброй
В доме все спали крепким сном. И сам дом, и смежная с ним казарма погрузились во мрак, повсюду царили полнейшая тишина и покой. Пробило два часа ночи, когда в чаще зеленых кустов, в глубине парка, что-то зашевелилось, и из-под густой завесы крепко сплетенных между собой ползучих растений и вьюнов, опутавших ветви кардамона, высунулась чья-то темнокожая голова с парой блестевших особым фосфорическим блеском глаз, похожих на глаза дикой кошки.
В первую минуту высунувшаяся голова оставалась совершенно неподвижной, прислушиваясь к ночной тишине, впиваясь жадным взглядом в окружающий мрак ночи. Затем появилась мускулистая шея, широкие мощные плечи, и вдруг из кустов на песок дорожки выскочил громадным легким прыжком, точно пантера, почти совершенно нагой человек.
Все одеяние его состояло из коричневого пояса, тесно прилегавшего к бедрам, между тем как ноги и весь верхний корпус, точно так же, как и голова, оставались ничем не покрытыми. На голове он нес мешок, тщательно завязанный и казавшийся одновременно и пустым, и содержащим какое-то живое существо, шевелившееся в нем.
Человек этот только мелькнул, как луч молнии, на светлой полосе дорожки, залитой лунным светом, потом снова скрылся в тени кустов и деревьев и стал осторожно пробираться далее до широкой прямой аллеи, идущей вдоль стены флигеля, занимаемого майором О'Моллоем и его гостями. Здесь он на минуту приостановился, как бы решая вопрос, с какого пункта вести атаку.
Весь задний фасад дома был залит ослепительно ярким светом полной луны; только в одном месте выдающийся угол смежной казармы бросал черную тень, точно громадное пятно, на фасад флигеля. Веранда, на которую выходили окна первого этажа, как раз оканчивалась в том месте, где свет граничил с мраком. Взгляд темнокожего человека остановился именно на этой веранде: очевидно, он считал ее наиболее удобным местом для своих целей.
Широкая водосточная труба, какие всегда устраивают в этих тропических странах, где страшные ливни в дождливое время года сменяют такую же засуху, шла вдоль внутреннего угла здания, и массивные железные скобы, придерживавшие эту трубу, показались отважному туземцу удобнейшей лестницей.
С минуту он опять оставался неподвижным, прислушиваясь и присматриваясь к окружающей темноте, затем одним скачком очутился у трубы. Захватив в зубы связанные концы мешка, человек этот с ловкостью и проворством кошки стал взбираться с помощью рук и ног. Менее чем в десять секунд он очутился уже на одном уровне с верандой на расстоянии каких-нибудь двух метров от перил. Он присел на ногах, собираясь сделать прыжок, и затем одним махом очутился по другую сторону перил веранды. Привстав на корточках, не вставая на ноги, он лег на живот и стал ползком подвигаться вдоль перил, в их решетчатой тени. Весь фокус его удивительно ловкой гимнастической проделки заключался в том, что он не произвел при этом ни малейшего шума.
Как раз в этот момент внизу послышался мерный солдатский шаг и лязг оружия – шел обход и смена часовых. Человек на веранде притаился и сквозь решетку деревянной резной балюстрады наблюдал за тем, что происходило внизу.
Он выждал, когда караул, сменив часовых, совершенно удалился, в расчете, что теперь ему ничто не помешает, но увы, оказалось, что новый часовой, сменивший прежнего, вместо того чтобы прохаживаться мерным шагом вдоль здания, избрал для своих прогулок боковую аллею и, очевидно, из пристрастия к лунному свету делал не более пяти-шести шагов в тени, а остальные сорок шагов на свету, вследствие чего он скрывался из вида всего на какие-нибудь десять секунд, а оставался на виду в течение целых трех или четырех минут, и судя по всему, не только был виден другим, но и сам мог все видеть.
По-видимому, обстоятельство это сильно огорчило человека с мешком. Лежал плашмя на животе, он размышлял, что ему делать, и пришел к заключению, что при таких условиях для него будет одинаково трудно как вернуться обратно в парк, так и продолжать свое путешествие по галерее. Необходимо было дождаться, пока не сменится этот часовой или не перестанет расхаживать в избранном им направлении, или же пока луна не скроется за стеной соседнего здания. На все это могло потребоваться не менее двух-трех часов выжидания, но можно ли ему было безнаказанно оставаться столько времени здесь, на этой веранде, и, быть может, даже дожидаться здесь рассвета? Тем не менее другого выбора не было, и человек с мешком волей-неволей должен был примириться с этим.
Прошло около часа с того момента, как подкрадывавшийся человек неподвижно оставался на месте, притаившись в своей неудобной позе, когда часовой, которому наконец наскучило ходить взад и вперед по аллее, остановился в тени и не стал более показываться на свету. Не теряя ни минуты, человек на веранде пополз дальше на коленях, осторожно прижимаясь к перилам и продвигаясь вдоль галереи. Из широко раскрытых больших окон, доходивших до пола и задернутых легкими газовыми занавесками, доносился слабый звук равномерного дыхания спящих. Весь дом спал крепким сном. Перед одним из таких больших окон человек с мешком остановился и заглянул в него. В глубине комнаты, освещенной слабым светом ночника, под голубым шелковым абажуром, виднелось смутное очертание какой-то грациозной женской фигуры в длинной светлосерой шелковой ночной блузе, мягкими складками облегавшей спящую, окутанную прозрачной белой дымкой тонкого кисейного полога. Трудно себе представить что-нибудь более грациозное, более чарующее, чем этот милый образ мирно спящей девушки при мягком ласкающем свете голубого ночника.
Человек на веранде притаил дыхание и прислушался, желая убедиться, что часовой его не заметил, что движение его не возбудило никакого подозрения. Затем он осторожно просунул голову под край шторы и стал жадно вглядываться в полумрак комнаты. Глаза его сверкнули злобной радостью, злая усмешка скривила его рот; осторожно развязав мешок, который он волочил за собой, он просунул его под газовую занавеску в комнату спящей девушки и проворно выворотил мешок, причем из него вывалился и с глухим шумом ударился об пол, устланный циновками, какой-то черный клубок.
Свернув жгутом пустой мешок, ночной посетитель, не теряя ни секунды, пополз обратно, направляясь к тому месту веранды, откуда он мог добраться до той водосточной трубы, по которой он взобрался сюда. Тем временем луна успела уже спуститься ниже, и тень от соседних строений заметно удлинилась. Человек с мешком счел этот момент наиболее благоприятным для своего побега и, одним прыжком перемахнув через перила, очутился на водосточной трубе, в которую он вцепился, точно клещами, своими сильными мускулистыми руками и ногами и в одно мгновение спустился по ней.
В тот момент, когда он готовился одним прыжком перескочить освещенную луной аллею и скрыться в кустах, отчаянный крик ужаса, нечеловеческий крик раздался в ночной тишине. Пробужденный от своей дремоты часовой невольно содрогнулся при этом крике и едва успел добежать до угла флигеля, как в нескольких шагах перед ним какая-то черная тень промелькнула через аллею и скрылась в чаще кустов. Часовой едва успел крикнуть: «Кто идет»? и, не получив ответа, выстрелил наугад в кусты, куда только что успела скрыться промелькнувшая тень.
Все это произошло в каких-нибудь две-три секунды, а тем временем крики ужаса и отчаяния на первом этаже флигеля продолжались. Все в доме проснулись, засуетились, стали сбегаться люди, солдаты на посту в казарме схватились за оружие, повсюду замелькали огни. На веранде стали появляться люди, спешившие на крик, не перестававший, а все усиливающийся с минуты на минуту, к комнате мисс Флоренс, той самой комнате, которую освещал своим мирным ласковым светом голубой ночник.
Первым вбежал верный Кхаеджи, и ужасающее зрелище представилось его глазам; вслед за ним прибежали и мистрис О'Моллой, и горничные, и господин Глоаген, а за ними Шандо и Поль-Луи, а после всех и слуги туземцы.
На пестрых циновках Раки, любимая обезьянка Флоренс, извивалась в предсмертных корчах ужасной агонии, обвитая кольцами отвратительной черной змеи из породы кобр. Несчастное маленькое животное, сдавленное сильными кольцами змеи, искусанное его ядовитыми зубами, не имело даже силы кричать и сопротивляться! Теперь уже кричала обезумевшая от ужаса и горя Флоренс, призывавшая весь дом на помощь, не будучи в состоянии сама помочь своей несчастной любимице. Разумнее, конечно, было бы бежать как можно скорее от страшной опасности, грозившей ей, от которой ее спасла бедная маленькая обезьянка, став жертвой страшного гада.
Кобра-найа, которую называют также кобра-капелла, или очковая змея, без сомнения, самая ужаснейшая из всех видов змей, так как яд ее не поддается никаким противоядиям и настолько силен, что в двенадцать минут убивает самого сильного и здорового человека.
К счастью, Кхаеджи был здесь. Не сказав ни слова, не проявив ни единым звуком чувства ужаса или удивления, он схватил в свои мощные объятия обезумевшую девушку и унес ее из комнаты, как ребенка. Затем, вернувшись назад, он схватил попавшуюся ему под руку забытую на кресле шелковую шаль и накинул ее на извивающуюся черную массу, а затем кинулся к окну и, преграждая доступ в комнату сбежавшимся на крик людям, громко крикнул: «Не входите никто! Мисс Флорри спасена!» – потом, обращаясь к слугам, приказал: «Скорее сюда чашку с молоком и дудку или музыкантский рожок из казармы! живо! Нельзя терять ни минуты!».
Почти тотчас же явилось то и другое. Поставив чашку с молоком у окна, индус принялся наигрывать тихонько на дудке какую-то однообразную, монотонную мелодию, прерываемую по временам резкими пронзительными звуками. Вскоре край шелковой шали стал приподниматься, и плоская голова кобры высунулась из-под него, затем мало-помалу отвратительный гад, покинув свою уже безжизненную жертву, выполз весь из-под шали, невольно поддаваясь этому музыкальному призыву, как бы действительно зачарованный этими звуками. Движения змеи в это время были до такой степени ритмичны, что казалось, будто ее тянут какой-то невидимой нитью.
В тот момент, когда кобра доползла до чашки с молоком, Кхаеджи перестал насвистывать, и животное, почуяв лакомый напиток, вытянуло шею и потянулось к молоку. Но недолга была радость отвратительного гада, потому что меткая пуля Кхаеджи, пущенная им почти в упор в голову змеи, уложила ее на месте. Тогда все могли войти в комнату и измерить страшную кобру, имевшую около двух аршин длины, и развернуть тело несчастной ее жертвы, успевшей уже похолодеть.