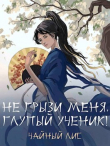Текст книги "Мать сыра земля"
Автор книги: Ольга Денисова
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Он не сразу понял, что его голову держат над водой, – он кашлял, с хрипом вдыхал воздух, и воздуха не хватало.
– Громин, сознайся, это ты угнал машину Виталиса, – услышал он тихий шепот прямо в ухо, – или я макну тебя еще разок.
Моргот ударил кулаком в сторону голоса не из соображений самообороны и не в надежде победить, а исключительно от страха, стараясь освободиться от державшей его руки. Рука тут же надавила ему на затылок, и лицо снова оказалось под водой. Он еще не успел отдышаться, и продолжал кашлять, втягивая в себя воду, и чувствовал, что задыхается и слабеет, но освободиться не может: тот, кто держит его под водой, гораздо сильней. Чернота воды слилась с чернотой перед глазами, он успел подумать, что умирает, умирает окончательно, когда вместо грохота воды в ушах услышал длинный тонкий звон, похожий на прямую линию, которую рисует графопостроитель…
То ли секунда прошла, то ли целый год… Ощущение времени пропало. Видений хватило бы на год – они не были похожи ни на сны, ни на галлюцинации, не имели ни смысла, ни цвета, ни звука и вызывали одно ощущение – страх. Всепоглощающий и абсолютный. Моргот пришел в себя, снова почувствовал воду в дыхательном горле, и страх абсолютный опять превратился в панику – он не успел подумать о том, что еще жив, когда решил, что сейчас умрет. Попытка освободиться от давившего на грудь колена почему-то вызвала радостные крики вокруг:
– Живой!
– Зашевелился!
– Да говорил я, оклемается.
Прошло не меньше минуты, прежде чем Моргот сообразил, что он на берегу, и из легких его выливается вода, и рвет его тоже водой, но он может дышать, хотя и непрерывно кашляет. А еще минут через пять на смену рвоте и кашлю пришла такая слабость, что он не мог шевельнуть и пальцем и дрожал от озноба.
– Да, Громин… – сказал ему Сенко, похлопав по щеке и пристально заглядывая в глаза. – Скажи спасибо нашим новым знакомым… Еще минутка – и всплыл бы через три дня твой раздувшийся трупик где-нибудь в десяти километрах ниже по течению.
– Он еще и сопротивлялся, – услышал Моргот тот самый голос, который обещал ему макнуть в воду еще разок, – глаз мне подбил…
– Утопающие всегда сопротивляются, – кивнул Сенко, – это нормально. Их надо за волосы вытаскивать и со спины.
Морготу не хватило сил ничего сказать: нижняя челюсть не слушалась, ее сводило от дрожи.
– Да по пьяни с каждым может случиться, – Моргот увидел вопросительное и сочувствующее лицо Кошева, склонившееся над ним, – я сам однажды чуть не утонул.
– Чего вы его разглядываете? – встряла известная поэтесса. – Вытереть его надо, одеть и согреть.
– Согреть – это ты умеешь, – вставил один из молодчиков Кошева и хихикнул.
– Придурок! – немедленно парировала та. – Я не об этом.
– О! Согреть! – Влад поднял палец. – Девушка совершенно права!
Он подскочил к Морготу, приподнял его голову и сунул в зубы бутылочное горлышко. Водка хлынула в рот, Моргот опять закашлялся, горло обожгло, и что-то попало в желудок, который ответил рвотным спазмом. Моргот двинул ладонью по бутылке, рванулся, сел и выругался фразой примерно из двадцати слов.
– Помогло! – расплылся Влад.
– Козел, – добавил Моргот, переводя дыхание. Внутри все дрожало и булькало.
– Действительно помогло, – почесал в затылке Сенко, и все вокруг захохотали с облегчением, восхищаясь целительной силой водки.
Моргот осмотрелся в поисках одежды и решил не начинать разборок: никто бы не поверил, что его едва не утопили. Надо порадоваться, что не утопили. Очень хотелось плюнуть в сочувствующее лицо Кошева и подбить второй глаз своему «спасителю». Он оделся сам, путаясь в рукавах и штанинах, и долго пытался завязать шнурки трясущимися пальцами, но в конце концов отказался от этой мысли и остался босиком. Рядом с тлеющими углями развели костер – для тепла, света и от комаров, Моргот подсел поближе к огню, кто-то сунул ему в руки шампур с остывающим шашлыком, а кто-то накрыл спальником, припасенным для ночевки на природе. Над костром висел котелок с неочищенными щучками.
– Ты как? – через некоторое время спросил пьяный Сенко.
Моргот скрипнул зубами: происшедшее доходило до него постепенно, и он не знал, что мучает его сильней – страх или злость. Он очень не любил, когда на него давили, это уязвляло его гордость, его независимость, возведенную в культ. Его всегда мучил стыд, если кому-то силой удавалось добиться от него чего-нибудь. Для него была невыносима мысль, что он слабей кого-то; даже в детстве, имея веские оправдания и объективные причины, он не мог переживать это спокойно. Когда же он стал взрослым и лишился этих оправданий, ему и вовсе пришлось туго: он стал заложником собственной гордости, не подкрепленной ни физической силой, ни силой воли.
Его макали в воду, как щенка в дерьмо, а он испугался до потери соображения и толком даже не попытался защищаться! Один удачный удар не в счет – это тоже от испуга. И это учитывая, что он отлично плавал, имел прекрасные легкие, несмотря на непрерывное курение, и мог задержать дыхание больше чем на минуту! А теперь он сидит у костра и трясется – то ли от страха, то ли от холода, – а Кошев в это время радуется, что сумел его напугать! Моргот, вообще-то, не был склонен к самобичеванию и легко находил оправдание своим поступкам, но в подобных ситуациях оправдания, даже самые веские, почему-то не приносили облегчения. Ведь этих оправданий не положишь в голову Кошева и его мордоворотов. Его мучил собственный страх, паника, отсутствие хладнокровия. И, пожалуй, более всего то, что это отсутствие было заметно: его видели без маски!
– Не видишь? – он глянул на Сенко. – Шашлычок доедаю. Что-то мне выпить хочется…
– Выпьем! – немедленно согласился Сенко и потянулся за стопками. – Под шашлычок, дай бог здоровья Кошеву.
Морготу захотелось швырнуть шампур в огонь, но он удержался. Да и мясо было вкусным.
Сенко, выпив стопку и куснув шашлыка с шампура Моргота, с трудом поднялся и попытался толстой палкой помешать щучек в котелке, но глотнул дыма и отказался от этой мысли, а на его место рядом с Морготом тут же уселась известная поэтесса.
– Как вы себя чувствуете? – спросила она, загадочно улыбаясь, и томно провела рукой по плечу Моргота.
Моргот посмотрел на нее откровенно оценивающе и выдал:
– А хочешь, я тебя трахну?
На ее лице на миг застыло замешательство – и даже негодование, но быстро исчезло.
– Хочу, – ответила она с вызовом.
– Пошли, – кивнул он и поднялся.
Она, конечно, была пьяной, и Моргот неважно себя чувствовал, но зато быстро согрелся, уложив девицу спиной на холодную, колючую траву. Сначала он ощущал дрожь от слабости, но женское тело, дышащее желанием, легко кружило ему голову, и слабость растворилась в дрожи вожделения. Он умел быть страстным, он знал, что им нравится нежность, он не забывал шептать слова любви и благодарности, он продолжал играть и следить за лицом даже в наивысшей точке наслаждения: женщины должны были восторгаться им. И эта не стала исключением – по ее щекам текли слезы.
– О боже, Моргот… Это было восхитительно…
«Еще бы!» – скромно подумал тот. Ему не приходило в голову, что женщины тоже могут играть и притворяться, он почему-то верил их похвалам безоговорочно.
– Действительно неплохо, Громин, – раздался голос Кошева сзади. – Погоди, я позову Алекса, и ты повторишь на бис!
– Вам как: с самого начала или только финал? – повернулся к нему Моргот.
– Громин! Если ты повторишь только финал, я буду брать у тебя уроки!
Кошев исчез за деревьями, и известная поэтесса вздохнула:
– Ваши разборки ставят меня в дурацкое положение…
Она отодвинула его и попыталась встать.
– Я не навязывался, – усмехнулся Моргот, перекатываясь на бок.
Алексом оказался тот молодчик, который пытался его утопить. Он появился вместе с Кошевым через минуту, и даже в темноте было заметно, что известная поэтесса, надевающая трусики, ему не безразлична.
– Сука, – бросил ей Алекс коротко.
– Я тебе ничего не обещала, – фыркнула она, невозмутимо любуясь своей белой ножкой.
Моргот к его появлению успел надеть только брюки и, глядя в лицо Алекса, почувствовал нехороший страх. Впрочем, злорадство перевесило – угадал! Из-за деревьев появилась темная фигура второго молодчика, а ведь где-то ходил и третий…
– Громин, а ты – сволочь, – констатировал Кошев. – Алекс тебе жизнь спас, а ты?
Алекс подошел к Морготу и взял двумя пальцами за лицо, прижимая щеки к зубам. В руках Моргот держал свитер, но сопротивляться бы не посмел, даже если бы руки у него оставались свободными.
– А как трепыхался, как трепыхался, – молодчик презрительно поморщился. – Слабоват… Виталис, ты думаешь, он воды нахлебался? Не, он с перепугу сознание потерял. Как барышня.
Моргот попытался отодвинуться, но Алекс держал его крепко и больно.
– Не рыпайся.
– Алекс, прекрати. Я сама с ним пошла, – равнодушно сказала известная поэтесса.
– Заткнись, – повернулся к ней Алекс.
Моргот никогда не был сильным, но гордился ловкостью и быстротой. Ему хватило той секунды, на которую Алекс отвлекся: он отпрыгнул в сторону, как заяц, и метнулся в лес.
Может быть, маленький Килька нашел бы его поступок не вполне достойным отважного героя, но Моргот не любил, когда ему бьют морду, и убегать ему приходилось не раз и не два. Да, гордость его сильно от этого страдала, и он всегда проклинал себя за трусость, но, выбирая из двух зол, неизменно приходил к выводу, что мордобой нанес бы его гордости ничуть не меньший урон, а гораздо больший. В данном же случае Моргот всерьез подозревал, что его могут и прирезать, пока остальные шатаются по берегу в невменяемом состоянии.
А бегал он отлично – волка ноги кормят – даже через лес, даже босиком. Кошев тоже бегал неплохо, но быстро отстал и в темноте потерял Моргота из виду.
Старший Кошев нервно потирает дорогую ткань брюк на коленях и снова берется за подлокотники.
– Я не хотел продажи цеха. Я хорошо понимал, чем это грозит экономике страны. Не надо считать меня мародером. Я продал часть заводского имущества и вложил деньги в сеть супермаркетов, чтобы сохранить завод. Он стал убыточным, когда сузился валютный коридор. Сколько мы ни снижали цены на сырье, это только играло на руку нашим конкурентам на мировом рынке: от нас вывозили руду, но никто не покупал прокат. Мы не могли соперничать с ними по цене – низкий курс валюты делал нашу продукцию слишком дорогой. Тогда я и открыл супермаркеты. Они работали на импортных товарах. Я понимаю, это не приносило выгоды экономике страны, но это помогло сохранить завод в действии. Доходы супермаркетов покрывали издержки завода и позволяли сбывать прокат по цене ниже себестоимости. Я сохранил завод! – он едва не выкрикивает это, как будто я в чем-то его обвиняю. – Это тысячи рабочих мест. Это производство средств производства! Это то, на чем держится экономика страны!
– Я не сомневаюсь в этом, – сдержанно говорю я. Меня не интересует завод, я верю, что Лео Кошев действительно делал благое дело, спасая свое детище в условиях экономического кризиса. Меня больше интересует другое его детище – Виталис. Я отдаю себе отчет в том, что несправедлив к старшему Кошеву. Я понимаю, это и его боль тоже. Но не могу не считать его виноватым.
– Как случилось, что стратегическая технология стала собственностью завода? – я опускаю голову и оставляю вопрос о Виталисе при себе.
– Цех по производству графита не был частью завода. Эта технология могла принадлежать только государству, – соглашается Кошев. – Но в процессе разгосударствления никто его не заметил, и де-юре цех стал имуществом завода. Я не хотел, чтобы о нем стало известно широкому кругу лиц. Собственно, у меня не было выбора. Или предать его существование огласке и передать правительству Плещука, или сделать вид, что я о нем ничего не знаю. Я, знаете ли, хорошо понимал, кто такой Матвий Плещук и как скоро технология уйдет из страны.
Он переводит дыхание и возвращается к заводу, снова начиная оправдываться:
– Да, я не бегал по улицам с красным флагом и не кричал «Непобедимы!». Я не стрелял из автомата и не взрывал поездов! Но я делал свое дело, и дело это для страны имело гораздо большее значение, нежели все Сопротивление вместе взятое. Причем независимо от политического строя. Завод – это базис. Он нужен стране вне зависимости от того, кто стоит у власти – красные, синие или зеленые!
– Я не заметил, чтобы завод был нужен стране в период президентства Плещука.
– Это отдельный разговор. Сырьевому придатку развитых стран заводы действительно не нужны. Но я говорю о стране, а не о правительстве. Я вырос в те времена, когда слово «Родина» не было пустым звуком!
Меня так и подмывает спросить: что же он не передал этого своему сыну?
Лес почему-то не кончался. Убегая от преследования, Моргот пересек грунтовую дорогу и потом никак не мог выйти ни на нее, ни на шоссе. Больше всего он сожалел о кедах – бродить по темному лесу босиком ему не очень нравилось, он быстро сбил ноги. Еще он побаивался змей, злых в начале лета, и содрогался от мысли, что может наступить на лягушку. Он не очень боялся заблудиться в тридцати километрах от города, где леса вытоптаны толпами грибников, где дачные поселки разбросаны не больше чем в пяти километрах друг от друга, где совхозные поля и дачные огороды теснят лес со всех сторон. Где-то здесь, не очень далеко, когда-то находилась и их дача тоже, но Моргот потерял ориентацию и не знал не только в какой она стороне, но и в какой стороне город.
Нахоженная тропинка легла под ноги неожиданно, сама собой. Моргот не представлял, куда она может вывести, но обрадовался: идти стало гораздо легче.
Хмеля в голове совсем не осталось, похмелье выветрилось от свежего воздуха и бодрой ходьбы, и как только Моргот перестал думать о том, куда поставить ногу, чтобы не проколоть ее сучком, на него навалились невеселые мысли о собственном бегстве. Можно не сомневаться, Кошев представит происшедшее в самом невыгодном для Моргота свете, если выгодный свет вообще существует. Моргот плевать хотел на всех женщин вместе взятых, но почему-то именно их мнение волновало его больше всего. А уж слова о том, что он, как барышня, потерял сознание от испуга, и вовсе исцарапали ему все внутри – он старался их забыть и не мог. Очень хотелось убедить себя в том, что это неправда, но в глубине души Моргот понимал: он не мог задохнуться так быстро.
Лес вокруг тропинки редел и становился суше, а потом впереди наметился просвет – что бы там ни было, это обнадеживало. Ощущение чего-то знакомого и забытого вдруг посетило Моргота. Как будто с ним это происходило однажды, как будто он уже шел по сухой тропинке к просвету в лесной чаще. Но было это давно – наверное, в прошлой жизни… Настолько давно, что и вспомнить невозможно.
Тропинка вывела его на совхозное поле, засеянное кормовой травой, – только-только занимался рассвет. Небо, начинаясь над головой, простиралось до самого горизонта, и лишь на его краю лес отделял сумеречную землю от сумеречного неба черным зигзагом. Морготу показалось, что у него от неожиданности остановилось дыхание и сердце стукнуло сильней и глуше, упав на дно живота: пространство развернулось перед ним слишком внезапно.
Что-то космическое было в этом пейзаже – и мистически прекрасное. Моргот увидел себя со стороны (а он любил представлять себя со стороны): махонький человечек на краю огромного поля, совершенно один. Неохватность земли и неба вызывали и трепет, и восхищение.
Это с ним происходило однажды… И сердце падало и обрывалось, и дыхание замирало, и неохватное пространство разворачивалось перед глазами.
Воспоминание ускользало. Моргот постоял, а потом сел, давая отдых сбитым ногам, – небо поднялось еще выше, и кромка леса исчезла за горизонтом, соединив небо с землей. Он никак не мог понять, почему ему вдруг стало так хорошо… Настолько хорошо, что он растерялся и подумал: роль, которую он пытается сыграть, почему-то кажется ему уютной. И эта роль ему несвойственна, неинтересна. Что-то внутри отталкивает ее, а что-то притягивает к себе, приближает, хочет сделать собственным лицом.
Моргот оглянулся: высокие деревья уходили вверх, в перспективу. И они тоже что-то значили. В ускользающем воспоминании не хватало чего-то важного.
И Моргот вспомнил. Это произошло неожиданно, он не успел оттолкнуть воспоминание до того, как оно им завладело.
Он бы предпочел думать об иных мирах и прошлых жизнях, он бы с большим удовольствием представил за спиной крылья демона, пролетающего в предрассветном небе над широким полем, он бы согласился на невероятную телепатическую связь с мертвецами, населяющими это пространство. Но вместо этого…
Ему было лет пять или шесть. Отец взял его на рыбалку со своими друзьями, и это была настоящая рыбалка. Они вышли из дома затемно, с удочками, и Моргот очень хотел спать. Но тогда ему еще не приходило в голову ненавидеть отца и соперничать с ним, тогда он был счастлив, что отец взял его с собой. Отец держал его за руку.
Они вышли из леса в поле, за которым лежала река, незадолго до рассвета. Это был другой лес и другое поле…
Отец остановился и глубоко вдохнул, и Моргот сделал то же самое.
Чувство защищенности… Вот в чем была разница. Тогда он чувствовал себя защищенным. Ему не хватало руки, которая сжимает его ладонь, руки, которая его ведет и останавливает там, где надо остановиться.
– Мать сыра земля… – сказал отец, оглядываясь вокруг. – Слышал такое выражение?
Моргот слышал: он читал сказки.
– Вот она какая, – отец нагнулся, словно поклонился в пояс, и поднял щепоть влажной земли. – И такая еще.
Отец обычно был многословен, но тут не стал говорить больше ничего. Моргот запомнил пространство со всех сторон, росу под ногами, прикосновение мокрого комочка земли, который отец положил ему на ладонь, и руку отца – узкую, как у него самого сейчас, но тогда казавшуюся огромной и сильной.
Острая боль свернула Моргота узлом – он не хотел этого вспоминать. Это воспоминание перечеркивало тщательно выстроенное представление о себе и о жизни, это воспоминание срывало с него все маски, кроме одной – маски маленького мальчика, наивного и высокопарного, который доверчиво впитывает все, что мир может ему поведать, и не боится любить и смотреть на кого-то снизу вверх. Мальчика, маски которого были детской игрой, а не попыткой спрятаться.
А еще это воспоминание кричало о том, что у него никого больше нет, никого нет! И думать об этом Моргот не умел. Он давно научился не думать об этом – ему казалось, что научился. Он не хотел отдавать себе отчета даже в ненависти, которая отчасти притупила боль. Но маленький мальчик, маску которого он так хотел с себя снять, этого не знал. Этот мальчик с отчаяньем думал: он никогда больше не ощутит защищенности, он никогда и никому не доверит вести себя за руку, потому что доверять некому. И нет ни одной иллюзии, в которой это можно осуществить. Потому что смерть исключает иллюзии.
Моргот машинально стиснул в кулаке горсть земли, размял ее между пальцев и почувствовал, что плачет. Не как взрослый, а как потерявшийся маленький мальчик, которого никто не держит за руку на краю огромного поля. Слезы неожиданно принесли ему облегчение – наверное потому, что никто их не видел, – и через некоторое время к нему вернулось ощущение нереальности, мистики происходящего: он снова посмотрел на себя со стороны, и снова пространство, развернувшееся перед ним, восхитило его и привело в трепет. Это было слиянием… Он ощутил себя частью этого огромного пространства.
* * *
«Я стоял напротив неба, и оно серебрилось сумеречным светом. Я раскидывал руки в стороны, но не для того, чтобы взлететь: я хотел быть таким, как оно. Я хотел втянуть его в себя и пропитаться им насквозь. Вокруг меня трепыхался эфир, я различал его вибрации сквозь звон в ушах, как сквозь телефонные гудки. Он шептал мне что-то на незнакомом, но понятном языке, он попискивал и мигал светодиодами светляков, как аппаратура в реанимации, тонко пел голосом пастушьей дудочки и рокотал еле слышным инфразвуком. Он растворялся во мне, и небо летело мне навстречу. Я лицом ощущал его приближение, я чувствовал поток элементарных частиц, пронизывавший мое тело, и прохладную влажность ветра на губах».
Из записной книжки Моргота. По всей видимости, принадлежит самому Морготу
Моргот вернулся в подвал днем, когда мы, проголодавшись, забежали пожарить хлеба – утром в субботу Салех, глядя в пустой холодильник, долго чесал в затылке, а потом ушел и принес две буханки. Я думаю, ему дали в булочной неподалеку – он время от времени пил с их грузчиками и знал продавцов. Моргот отогнал нас от сковороды, слопал четыре куска и запил водой из носика чайника.
– Первуня, тапки мне притащи, – велел он и сел за стол, включив чайник в розетку. Только тут мы заметили, что он вернулся босиком, со сбитыми до крови ногами.
Первуня с радостью от оказанного доверия кинулся в его каморку. Бублик, сгрузив на тарелку остатки хлеба со сковороды, снова поставил ее на раскалившуюся докрасна конфорку.
– Моргот, у нас совсем деньги кончились… – начал он осторожно. – И еды нет.
– А я-то что сделаю? – неожиданно громко рявкнул тот. – Я их что, печатаю, что ли?
– А ты укради чего-нибудь! – посоветовал Силя с энтузиазмом.
Моргот щелкнул его по лбу, но несильно, скорей в шутку:
– Умный больно.
– Моргот, тут тока один тапочек! – заныл Первуня из каморки.
– Поищи хорошенько, – посоветовал Моргот. – Ничего сами сделать не можете! Навязались на мою шею…
– Моргот, а сейчас кино будет. Будешь с нами смотреть? – спросил я. – Хороший фильм, про войну. Там про детей.
Перед нашим маленьким телевизором стояло большое вытертое кресло с выпиравшими пружинами – в нем сидели или Моргот, или Салех, а если их не было, то мы умудрялись залезать в него вчетвером.
– Мне детей и так хватает выше крыши, – проворчал Моргот и выдернул шнур закипевшего чайника из розетки, – Салех был мастером на все руки, вместо прогоревшей спирали он пристроил в чайник два лезвия, стянутых нитками, и вода закипала за считанные секунды.
Моргот очень редко смотрел с нами телевизор, зато часто кричал на нас из каморки, чтобы мы наконец выключили эту ерунду, – для нас это означало сделать потише и подвинуть кресло ближе к телевизору. Он почему-то терпеть не мог мультиков, называл их полным идиотизмом, но, как ни странно, очень часто цитировал мультики из своего детства – видимо, их он идиотизмом не считал.
– А что, и сахара совсем нет, что ли? – спросил Моргот, приподняв крышку сахарницы, когда налил старой заварки в чашку.
Бублик, переворачивавший на сковородке куски хлеба, посмотрел на него с сочувствием и подмигнул мне:
– Килька?
Я тоже подмигнул ему: накануне вечером мы толкались в вокзальном буфете и набрали кусков сахара, которые оставляли на блюдцах посетители. Нам даже досталось несколько штук в упаковке с нарисованным скорым поездом. Конечно, некоторые кусочки были немного подмочены чаем или кофе, но кто же будет обращать внимание на такие мелочи, когда в доме вообще нет сахара?
Я с гордостью поставил перед Морготом кружку, в которой мы держали свои трофеи. Моргот долго разглядывал ее содержимое, скривив лицо, а потом спросил:
– Это что?
– Сахар, что же еще! – ответил Силя с небрежной гордостью.
– У меня такое ощущение, что его кто-то уже ел, – Моргот шумно сглотнул. – И где вы это взяли?
– Так в буфете, – пожал плечами Силя, – там много оставляют.
Моргот посмотрел на нас, на всех по очереди.
– Ну-ну… А на помойке жратву не пробовали искать?
– На помойке грязное все, – сказал Силя не подумав.
– Ваще сбрендили, да? – рявкнул Моргот. – Еще по помойкам лазать начните!
– Так денег же нету, Моргот… – невозмутимо ответил Бублик. Ему-то как раз доводилось искать пропитание на помойках.
В эту минуту Первуня наконец нашел вторую тапку Моргота и вышел из каморки, выставив обе перед собой.
– Вот! – он сунул их Морготу в руки, и тот долго смотрел, не понимая, почему они оказались у него на коленях, а не на полу.
– Если денег нет, можно совсем освинеть, что ли? – Моргот со злостью швырнул тапки на пол.
– Моргот, погоди, – Бублик снял сковородку с плиты. – Ты ноги помой и носки одень.
– Надень, – машинально поправил Моргот и прошипел, спохватившись: – Еще один умник!
– Ты все тапочки испачкаешь, – подтвердил Первуня.
– Ублюдки мелкие, – сказал Моргот себе под нос, подхватил тапки и прихрамывая пошел наверх.
Бублик сунул Первуне в руки полотенце и носки Моргота, которые сушились на бельевой веревке, и послал его следом. Бублик был уверен, что в семье все должны заботиться друг о друге…
С фильмом тоже вышел скандал. Смотреть его с нами Моргот не стал, завалился на кровать с книжкой, но, конечно, сквозь перегородку все слышал. Фильм подходил к концу, когда Моргот вышел из каморки, хлопнув дверью, и уставился в экран. Я только однажды видел у него такое лицо – когда мы сожгли машину миротворца. Но тогда он был спокойней. А в этот раз у него подрагивал подбородок и желваки катались по скулам.
– Вы где раскопали это дерьмо? – спросил он тихо.
– Так по первой программе же, Моргот! – немедленно ответил Первуня.
– Я когда-нибудь разобью этот ящик… – он громко скрипнул зубами. – Вы сами поняли, что вам показывают, вы, придурки?
– Да хороший фильм, Моргот, – сказал Бублик, – смешной.
Я не очень хорошо помню тот фильм. Помню, что про войну, про компанию подростков, которая попадала в какие-то смешные ситуации, перебегая от толстых партизан, осевших в деревне и трескавших огурцы под самогонку, к худым фашистам с вытянутыми мордами. И те, и другие пытались заставить их воевать, отправляли на задания, но подростки умудрялись выкручиваться. Это была комедия, и мы хохотали. Мне и сейчас кажется, что Моргот напрасно увидел в ней злой умысел: фильм был попыткой снять что-то похожее на французские комедии, ставшие классикой кино, и попыткой неплохой.
Моргот иногда становится серьезным, приподнимается в кресле, опираясь локтями на подлокотники, и говорит сузив глаза; это другая роль, роль человека, раскрывающего душу.
– Килька, я никогда не был красным, в том смысле, который в это вкладывал Макс. Я был красненьким, – он произносит последнее слово по слогам, с издевкой. – По сути, у меня вообще не было убеждений. Верней, я хотел, чтобы у меня не было убеждений. Под свои убеждения я подкладывал нечто вроде логического базиса и старался увидеть объективную картинку, исключив собственные эмоции. И верил, что у меня это получается. С тем фильмом… Посмотри я его лет в восемнадцать, я бы и сам хохотал вместе с вами. Этот фильм смеялся над набившим оскомину пафосом, который мне навязывали в детстве и в юности. Он откровенно издевался над теми формулировками, которых вы не слышали, а я помню наизусть. Но видишь ли, Килька… Я к тому времени начал подозревать, что набивший оскомину пафос был частью игры, он как будто специально приобретал гротескные формы, чтобы вызывать отвращение. Эта идея мне совсем не нравилась, потому что при таком раскладе получалось, будто я клюнул на чью-то удочку, будто кто-то просчитал меня и заставил думать и действовать вопреки моей собственной воле. Поэтому эту идею я не развивал. Но тот фильм, который смеялся над тем, над чем смеяться нельзя, – он как будто показал меня со стороны, он показал следующий ход: пафос – отвращение к пафосу – смех как защита от отвращения – прямое издевательство. И издевательство уже не столько над пафосом, сколько над подвигом, над смертью. Я и сейчас, произнося эти слова – смерть, подвиг, – оглядываюсь и прислушиваюсь: никто не смеется надо мной? Я боюсь говорить их вслух, потому что они табуированы, они высмеяны тысячу раз, в том числе мною самим.
– Знаешь, мне показалось, это просто комедия, – я пожимаю плечами.
– Потому что вы не проходили этой цепочки. Вам в голову положили готовое отношение к войне: разжиревшие партизаны, ушедшие в леса, чтобы не работать на фашистов, и больные на голову энтузиасты, призывающие к борьбе, которых никто не слушает. Вам и в голову не может прийти, что есть другое отношение. Вам все ясно. У вас внутри не свербит задняя мысль: а может, смеяться над этим нехорошо? У вас не возникает ощущения бесстыдства, как при первом появлении на нудистском пляже: еще вчера тебе твердили, что обнажаться при посторонних стыдно, а тут выясняется, что стыдно этого стыдиться. Понимаешь, о чем я говорю? У вас нет ощущения запретности. Поэтому для нас это комедия с подтекстом, а для вас – всего лишь развлечение.
– Ты хочешь сказать, что твой стыд и твое ощущение запретности перевесили твой страх показаться смешным? – я поднимаю брови и чуть улыбаюсь.
– Нет. Я просто взбесился. Какого черта вы смеетесь над тем, о чем ни хрена не знаете? И какого черта вам на уши вешают эту лапшу, как истину в последней инстанции? Потому что мы смеялись над собственным пафосом, а вы – над подвигом и смертью, – он откидывается назад и берется за сигарету: сеанс откровенных размышлений окончен. – Отстань от меня. Я запутался. Считай, я сыграл роль Макса.
О роли Макса я могу сказать сам – это несерьезно. Макс бы произнес речь или прочел лекцию, но не стал бы орать целых десять минут о том, чтобы мы не смели смотреть подобную ерунду. Конца фильма мы так и не увидели.
К угону машин Моргот подходил серьезно и старался не делать этого наудачу. Если мелкое воровство или грабеж были для него скорей способом развлечься, пощекотать нервы с выгодой для себя – и именно поэтому он частенько попадал в неприятные ситуации, – то в угоне он считал себя профессионалом, по нескольку дней или даже недель присматривал за машиной, изучал сигнализацию, время возвращения хозяина домой, а потом действовал быстро и чисто.
В последние дни он позволил себе расслабиться, и те машины, что имелись у него на примете – а он всегда имел несколько машин на примете, – на некоторое время остались без внимания.
После долгих шатаний по пересеченной местности босиком он был не готов отбирать сумочки или таскать из машин барсетки – у него болели ноги, вместо удобных и бесшумных кед ему пришлось надеть топающие ботинки, и он сомневался, что в случае чего сможет уйти от погони. Раза два его умудрялись изловить, и воспоминания об этом Моргот имел самые неприятные.
Но деньги требовались срочно, и Моргот шатался по ночному центру города – по ярко освещенным улицам, по темным дворам, вокруг автостоянок, рядом с ресторанами и казино. Но стоянки охранялись, оставленные во дворах машины надо было прежде проверить на предмет противоугонных устройств, а соваться в машину, ничего о них не зная, Моргот не собирался. Возле ресторанов было суетно, но не настолько, чтобы человек, открывший капот машины, не бросился в глаза. В конце концов, Моргот отказался от мысли найти что-то подходящее в центре и направился к трассе, ведущей в аэропорт.