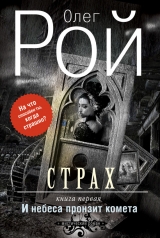
Текст книги "И небеса пронзит комета"
Автор книги: Олег Рой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Феликс, ты не ошибся со временем? – Макс, с интересом разглядывающий ворота и окружавший нас академически тихий пейзаж, слегка нахмурился. – Как-то тут тихо. Тут одних машин толпа должна скопиться. Все-таки на юбилее академика…
– …Будут только самые близкие люди, – подхватил я. – Это, так сказать, внутренний праздник. Практически только родня – хотя семья у Кмоторовича немаленькая – и пара-тройка друзей и коллег.
– И среди них Феликс Зарянич по персональному приглашению? – Макс присвистнул. – Старик, все еще круче, чем я думал. Я начинаю гордиться тем, что знаком с тобой. Твой статус, похоже, возносится в заоблачные выси.
– Главное – не свалиться оттуда в ближайшее время, – сдержанно, не слишком стремясь подхватывать предложенную шутку, ответил я, вылезая из машины. – Чем выше летаешь, тем больнее падать, как говорит отец Александр в своих воскресных проповедях.
– Да ладно, – улыбнулся Макс. – Привыкай. В котором часу тебя забрать из этого царства ученых мужей?
– У тебя что, своих дел нет? – Я действительно не ожидал, что он пожелает и домой меня отвезти, сюда доставил – и спасибо.
– Не слишком много. – Он махнул рукой. – Сейчас махну в клинику, узнаю у Ойгена про график и результаты текущих обследований. А потом свободен как птица.
Ойген – еще один друг Макса. Или не совсем друг? Не знаю. Лично я с ним пока еще не знаком, да, признаться, и не хочется: Ойген работает у Льва Ройзельмана – выдающегося ученого и столь же выдающегося в своей непримиримости противника моего шефа. И отношения какие-то странные. В том смысле, что я не понимаю, откуда бы там взяться дружбе. Макс участвует в каком-то туманном эксперименте, связанном с исследованием скрытых резервов человеческого организма (по-моему, его «суперменство» отчасти оттуда), а Ойген – его куратор. Вроде бы чисто деловые отношения, но тем не менее они регулярно выбираются на несколько дней в горы – вдвоем. Нет-нет, это точно не любовные эпизоды однополого романа. Хотя бы потому, что Макс настойчиво агитирует меня присоединиться к этим походам: а то, говорит, торчишь в городе, как сушеный таракан. Он действительно убежден, что вылазки на природу прочищают мозги и вообще прибавляют сил, и, пожалуй, прав. Раза два я выбирался с Максом в парк на выходные – и действительно, после этих мини-походов и голова вроде бы становится яснее, и бодрость появляется. В общем, он практически уговорил меня присоединиться к их с Ойгеном компании. «Уговорил» – это не потому, что мне в этой идее что-то не нравится, просто я человек распорядка и на любые перемены раскачиваюсь долго. Стремительные решения – это вообще не мое. Вот как сейчас: вроде пустяковый вопрос – заехать ли за мной и когда, – а я уже в сомнениях. С минуту колебался, пока ответил:
– Нет, не стоит. После всех торжеств я, может, еще к Рите заеду.
– А-а-а… – Макс понимающе улыбнулся. – Ну, тогда бывай. Много не пей и обязательно закусывай. – Напутствовав меня таким странным образом, он сорвал машину с места, и только его и видели. Интересно: это шутка такая примитивная была или он серьезно говорил?
02.09.2042. Академгородок.
Усадьба Алекса. Феликс
Макс уехал, а я остался торчать у ворот с букетом наперевес. Торчать – потому что при ближайшем рассмотрении на этих самых воротах не обнаружилось ни кнопки звонка, ни хоть какого-нибудь устройства, с помощью которого можно было бы дать знать хозяевам о прибытии к их порогу гостя. Или это я такой «ненаходчивый»?
Тут еще и дождик начал накрапывать, а прихватить зонтик я, конечно же, забыл. Ну да, в простых житейских реалиях я несколько рассеян, даже несообразителен. Пока до меня дошло, что можно ведь просто достать мобильный и позвонить Алексу, чтобы сообщить о своем прибытии, надобность в этом уже отпала – ворота распахнулись, и в проеме появился элегантный красавец.
Определенно, сегодня мироздание прямо-таки задалось целью как можно явственнее указывать мне на мое собственное несовершенство. Как будто Макса недостаточно. Встречающий был вполне достоин обложки глянцевого журнала. И одет этот мужественный герой был предельно элегантно (я тут же вспомнил свои галстучные мучения), и держался так непринужденно, словно носил не костюм от дорогого портного, а старые джинсы и линялую футболку. Медально красивое лицо без капли слащавости выражало открытость и дружелюбие, карие глаза светились добрым юмором – не насмешкой, боже упаси… Сей эталон мужественности показался мне несимпатичным с первого взгляда, еще до того, как заговорил. Голос у него, кстати, тоже был очень приятный – эдакий бархатистый баритон.
– Вы, должно быть, Феликс, восходящая звезда отечественной генетики и надежда всех дам, мечтающих о вечной молодости? – Мужчина был лет, пожалуй, на десять старше меня, и тон его словно бы подчеркивал эту разницу. На мой кивок он гостеприимно повел рукой. – Проходите, вас уже заждались. Мы-то давно в сборе.
Шагнув с некоторой робостью под арку ворот, я не ожидал продолжения, но «эталон» оказался словоохотлив:
– Юноша в «Гелендвагене» – ваш друг? Почему он уехал? Вы могли бы присутствовать на нашем торжестве вместе, – ни в словах, ни в интонации мужчины вроде бы не было ничего, кроме вежливости. Но я каким-то образом чувствовал сквозящую «между строк» насмешку. Была она там действительно или мне мерещилось от робости?
– Алекс приглашал меня одного, – довольно сухо отрезал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. – А если бы я выбирал себе сопровождающего, то прибыл бы со своей девушкой.
– Так у вас и девушка есть? – Мужчина едва заметно, уголком рта, ухмыльнулся, подчеркнув слово «девушка».
Я готов был уже вскипеть, придумывая (как всегда, не слишком успешно) столь же язвительные ответы, но не успевшую начаться ссору прервали:
– Герман, где вы застряли? Ты, слышу, третируешь нашего гостя?
Появившегося на аллейке мужчину я знал. Точнее, знал, кто это, хотя раньше никогда не встречался. Он был похож на Алекса, только, если можно так сказать, в «смягченном» варианте: глаза светились теплом, в чертах его совсем не было резкости, столь присущей моему шефу.
– Ну что ты, – ухмыльнулся тот, кого назвали Германом. – Я всего лишь поинтересовался юношей, с которым наш гость приехал. Удивительно красивый молодой человек. А какая пластика! Такая жалость, что я не успел увидеть его вживую, только на камерах… Он, случайно, не танцор? – Герман выдержал довольно длинную паузу, после чего пояснил: – Я, вы же понимаете, интересуюсь с чисто профессиональной точки зрения. Ах да, простите, я не представился. Герман Лабудов. Балетмейстер и по совместительству зять Алекса. – Он протянул мне узкую сильную ладонь. Рукопожатие у него было удивительно крепким.
– Валентин Кмоторович, – представился второй, и я убедился, что мои догадки верны – это был сын Алекса, довольно известный композитор. – А вы – Феликс Зарянич…
– …от которого Алекс просто в восторге, – не преминул вставить язвительный Герман. – Если верить нашему юбиляру, то нобелевка для вас – лишь вопрос времени.
Вид у балетмейстера был абсолютно невинный, но я шкурой чувствовал: он не верит тому, что пересказывает, ни на йоту.
– Ну, знаете ли, о нобелевке мечтает каждый ученый, – буркнул я, следуя за своими провожатыми. – Говорят же, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.
– И много ли вы знаете солдат, которые стали генералами? – Герман, казалось, ведет ничего не значащую светскую беседу, не вкладывая в свои шуточки никакого скрытого смысла. Какая издевка, о чем вы? Но если бы я был, к примеру, волком, у меня наверняка бы уже шерсть на загривке торчком стояла от недвусмысленного ощущения: вот этот нападает. Детдомовские «волчата» на всю жизнь сохраняют это умение «чувствовать шкурой».
Я был школьником, когда какому-то чрезмерно прогрессивному чиновнику пришла в голову «светлая» мысль: приютские дети должны учиться в обычной школе вместе с детьми из обычных семей. Эта концепция, символично называемая «Протянутая рука», должна была, как утверждали, «способствовать более эффективной социализации детей, находящихся на государственном обеспечении».
Да уж, социализация проходила куда как эффективно. В обычной школе, в обычных классах, среди тех, кто привык чувствовать за своей спиной семью, мы, приютские, моментально попадали в разряд париев. Благополучные детишки измывались над каждым из нас, в общем-то не со зла. Скорее, из любопытства. Да, это была весьма эффективная социализация. Отличная школа жизни. Вот только пройти эту школу было не каждому по силам. Программу свернули после того, как один из наших, Штефан, классом младше меня, повесился в раздевалке школьного спортзала. У мальчишки была близорукость минус шесть, приходилось носить очки, хотя бы на уроках. Пустяк, скажете? Но почему-то именно за этот пустяк (хотя очкарики попадались и среди «благополучных») Штефана гнобили так, что…
Отвлекшись на невеселые воспоминания, я не заметил, как мы оказались возле дома. Довольно невзрачного, если смотреть непредвзято: посеревшие от времени стены, просторный балкон и столь же просторная терраса, красная черепичная крыша – типичный особнячок середины двадцатого века. Но в моих глазах этот коттеджик выглядел краше и великолепнее любого дворца – ведь здесь жил Алекс.
Он встречал меня на крыльце. Не в парадном, как можно было ожидать, смокинге, напротив, в свободных немарких брюках и неярком светлом пуловере. Очень по-домашнему. Юбилей – повод расслабиться? На работе профессор Кмоторович появлялся исключительно в строгом костюме. Даже рубашки были только белые. И разумеется, безупречно, идеально завязанный галстук.
Рядом с Алексом стояли две молодые женщины. Обе основательно беременные и, должно быть, поэтому очень друг на друга похожие. Хотя если приглядеться, совершенно разные.
Та, что стояла справа, не могла быть никем, кроме дочери Алекса: семейное сходство буквально бросалось в глаза. Хотя еще больше она походила на Валентина, а присущая ему мягкость черт в ее внешности проявлялась еще ярче. Лицо Валентина, невзирая на очевидную мягкость, было столь же очевидно мужественным. А вот его сестра – конечно же, это была его сестра Вера, жена язвительного Германа – выглядела воплощенной женственностью. Ее грация и изящество поражали. Погрузневшее, утратившее пропорции – а что вы хотите на явно поздних сроках беременности – тело казалось летящим, танцующим, парящим. Хотя она просто стояла на верхней ступеньке крыльца.
Та, что находилась по левую руку Алекса, была чуть повыше, резко очерченное лицо напоминало римскую камею. И вообще, во всем ее облике и осанке было что-то величавое, патрицианское, что ли. И смотрела она отстраненно, словно находилась не только здесь, но одновременно еще где-то – в небесных высотах, должно быть, или по меньшей мере в императорских чертогах.
Обе женщины показались мне очень красивыми. Только Вера была теплая, воздушная, а та, вторая, напоминала каррарский мрамор античных статуй.
– Ну с Германом и моим сыном ты уже познакомился, – привычно опустив приветствие и опередив мое заготовленное поздравление, Алекс, как всегда, с ходу взял быка за рога. – А вот это Вера, моя дочь, а это – моя невестка Вероника.
– Я… учитель, я бы хотел вас поздравить… – Почувствовав, что краснею, окончательно смешался. – И… вот… – Я неловко протянул ему розы, порадовавшись, что выглядят они ничуть не хуже, чем при покупке.
– Спасибо, – кивнул Алекс, принимая букет. – Проходи в дом. Но на будущее… Лучше, если ты станешь обходиться без лишних церемоний. Дети, – обернулся он к семье, – уясните, что Феликс у нас – не случайный гость.
– Да мы уже поняли, – усмехаясь, едва слышно пробормотал Герман. Валентин дернул его за рукав.
Валентин нравился мне все больше – крупный, с виду абсолютно уверенный в себе мужчина, во взгляде которого, однако, светилась детская бесхитростная открытость.
– Не случайный, – твердо повторил Алекс. – Есть дети, которых мы зачали, а есть те, кого вырастили. Я воспитал десятки, сотни студентов, но Феликс… Феликс – единственный. Им я могу по-настоящему гордиться.
– Да вроде нечем пока гордиться, – смутившись, тихо возразил я, заработав удивленный взгляд Германа. Может, это лишь мои фантазии, но иногда формула «говорящий взгляд» кажется мне отнюдь не фигурой речи. Брошенный в мою сторону взгляд Германа «читался» совершенно ясно: «Как? Это еще и разговаривает?»
Ну, как бы там ни было, Алекс мою реплику предпочел пропустить мимо ушей:
– Прошу к столу, – заявил он, приглашающе взмахнув рукой. – Глупо торчать на пороге, когда нас ждет накрытый стол. Да и дождь опять накрапывает.
Я вообще – когда нет срочных и важных дел – люблю наблюдать за людьми. В этот же день я и вовсе ловил каждую деталь, каждый пустяк, каждую мелочь с жадностью жреца-неофита, допущенного в главное святилище его культа. Или даже… Представьте античного грека, очутившегося на Олимпе посреди божественной компании. Вот примерно так я себя и чувствовал. Окружавшие меня люди были близкими Алекса – ближе некуда. Пусть никто из них не имел отношения к науке, но ведь именно они были, если продолжать античные сравнения, фамилией моего учителя. Его свитой, если можно так выразиться. А ведь именно свита, как известно, делает короля.
К тому же все они, даже язвительный в своем снобизме Герман, казались мне удивительно… благородными, что ли? Немного иными. Отдельными от остального мира. С какой заботой, входя в дом, Валентин придерживал за талию Веронику, как прильнула к Герману Вера, с какой гордостью смотрел на них всех сам Алекс… Моментами я пугался: что я тут делаю? Это ошибка, сейчас она выяснится, и меня изгонят с позором. Пожалуй, так чувствует себя мелкий пацаненок в компании «старших»… Но в то же время…
Александр меня пригласил. Значит, по его мнению, я достоин находиться среди избранных, среди его «свиты». А самое важное – это как раз его мнение, остальное, даже скрытые издевки Германа, не имеют никакого значения.
Внутреннее устройство и убранство дома было столь же спокойным и даже, если так можно выразиться, старинным, как и его наружность. Причем явно не из любви хозяев к антиквариату, а скорее из приверженности привычной обстановке. Ни бьющей в глаза роскоши, ни холодного хайтека, ни тем более всяких сверхсовременных изысков. Все очень просто и удобно.
Гостиная – она же столовая, – в которую вела двустворчатая застекленная дверь, занимала, пожалуй, половину второго этажа. Одна из стен просторного зала состояла сплошь из окон. Высоченных, под самый потолок. Даже сейчас, когда снаружи накрапывал дождь, комната казалась очень светлой. И вообще была как продолжение сада – его старые деревья ощущались частью интерьера. У дальней стены располагался камин – очень чистый, как будто редко используемый. Впрочем, окружавшие камин диван и два кресла опровергали эту мысль. Скорее, за очагом просто тщательно и бережно следят.
Основное пространство зала делили между собой обеденный стол – судя по фигурным массивным ногам, ровесник дома – и столь же почтенный рояль. Не то чтобы антикварный, но… Я не специалист в музыкальных инструментах, однако рискнул предположить:
– Это «Бёзендорфер»?
Вероника впервые взглянула на меня с некоторым подобием интереса и кивнула. Вера же как будто удивилась:
– Надо же… Вы разбираетесь?.. – Хмыкнув, она оборвала фразу на полуслове.
– Вообще-то нет, просто… – Я смущенно потупился, уже жалея о сказанном.
– Ну… «Бёзендорфер» трудно с чем-то перепутать, – протянул Герман с самым невинным видом, но я мог бы побиться об заклад, что его изумило бы, даже если б я смог отличить рояль от контрабаса.
– Не скажи, – возразил Валентин. – Для непрофессионала это сложно.
Вера согласно кивнула.
Я хотел было рассказать об источнике своих музыкальных познаний – соседях по кампусу, – но вовремя прикусил язык: та часть меня, которую я называю худшей, тут же красочно обрисовала, какие выводы может на основании моего рассказа нафантазировать Герман. Лучшая часть привычно шикнула на «напарницу», столь же привычно обвинив ее в предвзятости. Увы, опыт подсказывает, что права обычно бывает именно худшая часть.
Сверкающий белоснежной скатертью, хрусталем и серебряными приборами стол оживляли небольшие цветочные композиции. Вера тут же изъявила желание добавить к ним и мой букет, даже двинулась к двери, чтобы принести вазу, но Герман ее остановил:
– Я сам, милая. – Его улыбка, обращенная к жене, была мягкой и немного смущенной. – Присаживайся, я мигом. – Усадив Веру, он стремительно вышел.
Валентин помог сесть Веронике. Собственно, если быть точным, попытался помочь, но та уже успела отодвинуть стул и опустилась на него с несколько раздраженным, как мне показалось, видом. Валентин расположился рядом с ней, а мне Александр указал на стул перед собой. Таким образом я оказался в окружении Германа и Вероники, хотя предпочел бы, разумеется, компанию Веры и Валентина.
Вспоминая этот день, я порой удивляюсь тому, что при всей пристальности, всей жадности моего наблюдения за «небожителями» я обращал удивительно мало внимания на детали, которые сегодня кажутся невероятно важными. Тогда я видел лишь образцово счастливую семью – прекрасных, благородных, любящих друг друга людей. Даже язвительный Герман, хотя и не оставил своих ехидных взглядов и полунамеков в мой адрес, начал казаться вполне симпатичным человеком.
Кое-что я о нем понял. И не только о нем.
Для Германа – поглощенного своим призванием балетмейстера – Вера была чем-то гораздо большим, чем просто жена, пусть даже любимая. Мне всегда нравились художники-прерафаэлиты, и тут в какой-то момент я, как откровение, вспомнил картину Эдварда Бёрн-Джонса «Душа добивается» из серии «Пигмалион и Галатея». Пигмалион создал Галатею – и боготворил ее! И разумеется, считал творение своей собственностью. Мне даже показалось, что Герман слегка ревнует Веру к Алексу – совершенно неуместно и, скорее всего, неосознанно. Быть может, и его враждебность ко мне тоже объяснялась все той же ревностью – беспричинной и неосознанной? Хотя чего там – беспричинной. Один взгляд на Веру делал чувства Германа более чем понятными и, пожалуй, оправданными. Откровенно сказать, я даже ловил себя на мысли, что завидую ему, – и наплевать, что Вера старше меня. Потом я вспоминал Риту и боялся покраснеть от стыда.
Впрочем, это были лишь моменты. Больше меня занимали размышления о том, почему дети Алекса – оба! – вместо науки выбрали искусство. И оба в нем невероятно преуспели. Вера была балериной – музой, творением и инструментом собственного мужа. Валентин – весьма успешный композитор – тоже нашел источник вдохновения в своей жене. Точнее, видимо, сперва нашел, а потом сделал ее своей женой. Если Вера – в том числе и как балерина – была абсолютным творением Германа, то исполнительские таланты Вероники развивались, кажется, более самостоятельно. Кстати, глядя на ее мужа, я удивлялся несоответствию своих представлений и реальности. Мне всегда казалось, что композиторы – существа сплошь худощавые, даже субтильные, с длинными пальцами и, возможно, с горящими очами. Из всего этого набора Валентин обладал лишь длинными пальцами. Ни субтильности, ни горящих очей. Крупный, с детским простодушием в карих глазах. И это – композитор? О да, ехидно подсказала реальность.
После не слишком продолжительного застолья Вероника полушутливо, полуторжественно объявила, что у них с Валентином есть для Александра «особый подарок». Валентин торопливо, насколько позволяла его «некомпозиторская» комплекция, вскочил со стула, чтобы помочь Веронике подняться из-за стола и занять место за роялем. В лукавом прищуре Алекса явственно читалось предвкушение…
Несмотря на все старания соседей-музыкантов, меломана из меня так и не вышло. Я не ориентируюсь ни в классической, ни в современной музыке, ничего не понимаю ни в жанрах, ни в направлениях, не отличу Генделя от Шнитке. Впрочем, быть может, это и не нужно. Музыка есть музыка, ее нужно просто слушать.
Музыка, появлявшаяся из-под пальцев Вероники, захватила, заворожила меня с первых тактов, даже с первых звуков. Музыка была поднявшейся перед моим внутренним взором стеной пламени, ее наполняли сила, мощь и невероятная, дивная красота. Торжественная неторопливость вступления постепенно сменилась стремительностью лесного пожара, но не пугающей, а влекущей, поднимающей к самому небу. Даже природа за окном, кажется, услышала эти звуки – и подчинилась им: закатное солнце разогнало весь день лежавшие на городских крышах облака и теперь заливало гостиную янтарно-оранжевым сиянием.
Глядя на летающие над клавишами руки Вероники, я почти не верил, что эти изящные сильные пальцы – обыкновенные, человеческие – могли вызвать к жизни столь яркое и могущественное великолепие. Старинный рояль под властью этой хрупкой женщины звучал возвышеннее архангельских труб. А сама Вероника казалась погруженной в почти сексуальный экстаз: глаза невидяще блестели из-под полуприкрытых век, губы повлажнели, на напряженной шее билась тонкая жилка…
Стыдно признаться, но в тот момент Вероника вдруг стала потрясающе желанна. Хотя притягательность ее была совсем не той, что привлекательность Веры. Так глубокая терпкость мадеры отличается от медовой мягкости токая. Правда, я не знаток вин.
Валентин, слегка прикусив нижнюю губу и прикрыв глаза, казалось, погрузился в льющиеся из-под пальцев Вероники звуки абсолютно. Они были единым целым: он, она и их общая музыка.
– Это… ваше? – осторожно спросил я, когда Вероника, уронив на колени мраморно-белые ладони, удовлетворенно улыбнулась.
Валентин взглянул на меня, точно не слыша или не понимая вопроса:
– Только она может это сыграть… Никто другой…
– Всякий, у которого есть ноты, слух и чувство ритма, может сыграть что угодно, – все еще улыбаясь, возразила Вероника, которую восторг мужа, кажется, не слишком тронул. – Алекс, эта соната – для вас.
– Она называется «Прометей освобожденный», – почему-то смутился Валентин. – Я официально посвятил ее тебе, папа. Так и будет обозначено – опус сорок три, посвящается моему отцу Александру Кмоторовичу.
– Это наш вам подарок, – добавила Вероника.
Герман, прищурясь, несколько раз хлопнул в ладоши – обозначил аплодисменты:
– Очаровательно. А мы-то с Верой, сухие, невозвышенные люди, подарили всего лишь вересковую трубку с набором всяких причиндалов для нее.
– От Поля Раньера, – подтвердил Алекс. – Сказочно прекрасную и бессовестно, неприлично дорогую.
– Вы слишком великодушны. – Герман подчеркнуто скромно потупился, но глазки его хитро и довольно поблескивали. – А что же подарил ваш любимый ученик? – Он покосился на меня. – Кроме, разумеется, этих прекрасных роз?
Я порядком растерялся, не зная, что ответить, и уже чувствовал, как щеки заливает предательская краска, но Алекс спас меня от позора:
– Его подарок, Герман, неспециалисту оценить трудно. Я не возьмусь объяснить тебе его значение, но могу сказать, что весь мир генетики затаил дыхание, услыхав об исследованиях Феликса, практически доказывающих возможность разных видов генного доминирования у однояйцевых близнецов.
– Под вашим руководством, – попытался уточнить я, но меня никто не слушал.
– Где уж мне такие сложности понять, – съехидничал Герман.
Вероника поморщилась. Вера молчала, уткнувшись взглядом в тарелку. Лишь Валентин бросил в мою сторону понимающий взгляд и одобрительно улыбнулся.
– Одним словом, это серьезный научный прорыв, – коротко резюмировал Алекс, обращаясь, кажется, к одному лишь Герману. – Спасибо за подарок, дети мои. – Он с улыбкой повернулся к все еще сидевшей у рояля Веронике и стоящему рядом Валентину. – Я впечатлен.
В устах Алекса это была более чем серьезная похвала, но Вероника, кажется, осталась не слишком ею довольна. Валентин, проводив жену обратно к столу, поспешил с очередным тостом, возможно, чтобы сгладить возникшую неловкость.
А я опять почувствовал себя не в своей тарелке. Чужой. Я здесь чужой. Да, Алекс оценил мою работу весьма высоко. Более чем высоко – я без особого удовольствия опустошил еще один бокал. Но его семья – тут. Прекрасная любящая семья. Прекрасные талантливые дети. А я тут – как пятно на парадной скатерти. Вроде и не слишком важно, и ничего не поделаешь – поздно скатерть менять, когда банкет в разгаре, – но напрягает. Может, оттого-то и злится Герман, раздражена Вероника и смущена Вера?
В компании с этими невеселыми мыслями я и провел остаток торжества. К счастью, остальным было на мою мрачность наплевать. Ну и хорошо.
Тучи наконец сняли с города свою затяжную осаду и понеслись куда-то на восток, о свалившемся за горизонт солнце напоминал лишь розоватый ореол, а на светлом еще небе уже проступали первые бледные звезды. Алекс предложил переместиться на террасу.
Но сперва пригласил меня в свой кабинет, заметив, что дети и без нас не соскучатся. Я, должно быть, был похож на юного мусульманина, впервые попавшего в Мекку и приближающегося к Каабе. Хотя, по сути, ничего необыкновенного в кабинете не было. Несколько архаичная – как, впрочем, и во всем доме – меблировка, вплоть до классического кресла перед камином и массивных, вероятно, дубовых, книжных стеллажей.
Большой портрет в простенке неподалеку от кабинетной двери хоть и не бросался в глаза, но все же притягивал внимание. Александр там выглядел совсем молодым, может, чуть старше меня. А рядом в кресле сидела миловидная женщина – даже не будучи экспертом-криминалистом, нетрудно было узнать в ней мать Валентина и Вероники. У картины Алекс на мгновение приостановился, зачем-то пояснив:
– Это Виктория.
Я знал эту историю и понимал, почему так отчужденно звучит голос учителя. Виктория, его жена, была регентом в хоре нашего кафедрального собора. Я в детстве даже слышал ее и никогда не забуду ее исполнение Ave Maria. Голос, не слишком сильный, но пронизанный какой-то трогательной прозрачностью, чистотой полевой лилии или свечи в темном проеме окна, казалось, поднимался к самим небесам, чтобы слиться с хорами ангелов, восхваляющих Пречистую Деву. Отец Александр говорил, что пение Виктории было большей проповедью, чем любая проповедь. Мне и сейчас трудно поверить, что такое возможно в двадцать первом веке – она умерла от банального воспаления легких примерно за год до того, как Алекс взял меня в ученики. Я вполне осознавал, что воспоминания о том, как вся наша медицинская наука оказалась совершенно бессильна, вкупе с незаживающей пустотой в душе терзают Алекса до сих пор, поэтому постарался ничем не выдать своего внимания к портрету. Взглянул – и тут же перевел взгляд на окружающую обстановку.
С царящими на стеллажных полках старинными томами в кожаных (вы только подумайте, какая древность!) переплетах мирно соседствовали не менее многочисленные новинки. Вообще-то мне бумажная книга кажется анахронизмом – наверное, я слишком поздно родился, чтобы ее ценить. Ну в самом деле, зачем изводить тысячи гектаров леса на бумагу, если десять таких библиотек можно залить просто в память телефона?
Консервативность библиотечной половины кабинета странно контрастировала с лабораторной его частью, где царила новейшая, чуть ли не «космического» вида аппаратура, среди которой, впрочем, я заметил старенький, чуть ли не советский (насколько я мог судить) автоклав и громоздкий черный микроскоп.
Гармония архаики и современности была, пожалуй, основной темой этого кабинета. На книжных полках кое-где лежали старинные медицинские инструменты, некоторые настолько замысловатые, что я не смог бы определить их предназначение. На журнальном столике лежал человеческий череп. Очень хорошо выполненный, почти как настоящий. Искусственное происхождение выдавала разве что слишком ровная окраска. На развороте лежавшего рядом с «бедным Йориком» журнала – то ли японского, то ли китайского, я не очень хорошо различаю их иероглифы – красовался портрет худого мужчины, чье суховатое лицо с чересчур резкими чертами показалось мне неприятно знакомым. Да это же Ройзельман, бывший однокурсник и вечный оппонент шефа! На заднем плане фотографии виднелась диаграмма. Какой-то сложный процесс генно-модифицирования, отметил я, но большего разобрать не успел: Алекс, заметив мой интерес, захлопнул журнал.
– Чушь, конечно, на постном масле, но следить за тем, как идут дела у коллег, тем более у конкурентов, необходимо, – пояснил он. – Ройзельмана ты, должно быть, узнал. Он довольно долго проработал с китайцами, теперь вернулся сюда. – Алекс недовольно пожал плечами. – Делает громкие заявления, ничем, на мой взгляд, не подтвержденные. Но Фишер его принял с распростертыми объятиями. Не очень понимаю за что.
– Что-то такое слышал, – неопределенно отозвался я.
Алекс небрежно сунул злополучный журнал на полку, сдвинув, почти свалив какой-то медицинский раритет.
– Можешь особо не вникать. – Он саркастически хмыкнул. – Он всегда был треплом. Нарасскажет про золотые горы, а на деле – и медного гроша не наработал. – Показав мне – чтоб подумал на досуге – план дальнейших исследований, Алекс устало улыбнулся. – Пойдем на террасу, нас ждут.
Я, однако, отметил для себя, что насчет исследований я, конечно, подумаю, но нужно побольше узнать об исследованиях Ройзельмана. Ну, или о декларациях. Скорее всего, абсолютно сомнительных, разумеется. Говорили, что он ставит эксперименты, которые мало того что рискованны, а исход зачастую непредсказуем – это как раз в науке не самое ужасное, – хуже всего, что результаты после всех громких заявлений оказываются невоспроизводимы. А это выводит исследования вообще за рамки науки. Но… я впервые видел учителя в гневе – ну или близко к тому – и просто как ученый не мог не выяснить, что же такое могло вызвать столь выдающуюся реакцию.
Вернувшись к остальным, мы обнаружили, что за время нашего отсутствия появилась еще одна гостья – высокая молодая женщина с идеально правильными чертами лица и роскошной гривой рыжеватых волос.
– Это моя подруга Эдит, – с улыбкой представила мне ее Вероника. – Отличный экономист, но главное – великолепная скрипачка. Настоящий виртуоз. Мы как-нибудь сыграем вместе. Правда, Эдит?
Женщина скользнула по мне холодным, почти жестким взглядом и, повернувшись к Веронике, коротко кивнула. От нее так и веяло ледяным высокомерием, как от какой-нибудь заснеженной горной вершины. Мелочь вроде меня попросту не заслуживала ее внимания. Да и более «масштабных» персон она не слишком жаловала, скорее, позволяла собой любоваться.
Уже совсем смерклось, сквозь почти черную в темноте листву едва пробивался свет уличных фонарей. Единственным освещением террасы были звезды да угли мангала. Гости расселись на небольших скамеечках, Алекс занял кресло-качалку. Я забился в угол, откуда можно было, не привлекая к себе лишнего внимания, продолжать наблюдение.







