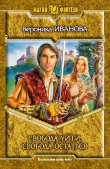Текст книги "Иванова свобода (сборник)"
Автор книги: Олег Радзинский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
3
Так начались их беседы на кухне. Они подолгу пили чай за квадратным столом, где могли сесть еще двое, но этих двоих не было. Татьяна Семеновна им не мешала, появляясь редко, и тыкающий в пол стук костыля сопровождал ее медленный мучительный путь из дальней комнаты рядом с облупленной тесной ванной в конце коридора. Она выходила по крайней необходимости, деля одинокое время с постоянно включенным телевизором. Они продолжали говорить и при ней, и она, безразличная к странности услышанных слов, ела густой картофельный суп, подставляя под ложку серый хлеб. Продукты ей приносила пожилая молчаливая женщина из собеса, и Татьяна Семеновна проверяла каждую покупку по чеку и только потом подписывала ведомость на доставку. Она тоже хотела онтологической ясности, и соответствие названий продуктов их наличию уверяло ее, что это не симулякр.
Аскербай никуда не ходил из дому: когда бы Иван ни посмотрел, желтая полоска под его дверью светилась, словно обещание лучшего. Иван негромко стучал в дверь и шел на кухню. Скоро приходил Аскербай с мешочком толченой травы. Аскербай не пил чай или кофе, а заваривал траву, давая ей настояться, и затем мелко глотал красноватую терпкую жидкость, держа кружку левой рукой.
Иван глядел, как обрубки его пальцев не боятся горячего, и хотел попробовать горько пахнущий настой, но стеснялся попросить. Он никогда не видел, чтобы Аскербай ел.
Каждый месяц – последние два числа – Аскербай уезжал, и полоска желтого света пропадала. Коридор делался темным, и по нему не хотелось ходить. Потом Аскербай появлялся – худой, с полуседыми волосами до плеч, с матовыми темными глазами, и разговоры о сути возобновлялись, завораживая Ивана нежданными глубинами понимания, которые он раньше и представить не мог.
До встречи с Аскербаем Иван думал о жизни просто и теперь радостно тонул в открывшихся просторах осознания мира, что оказался одновременно и реальностью, и представлением других о себе.
– Поймите, Иван, вся эта путаница началась, когда метафизику подменили онтологией, – объяснял Аскербай. – В классической метафизике под бытием понимался бог. Бог создал реальность, и, стало быть, только он обладал инструментами ее познания. Бытие существовало независимо от человека, как и создавший бытие бог. Это вселяло надежду, что мир не разрушится, как только я перестану его познавать. Вполне терпимо.
Иван соглашался: это было как его жизнь, в которой он не мог ничего изменить, как не мог ничего изменить в колонках цифр, что были посланы кем-то другим для кого-то другого. И, как эти цифры, жизнь шла мимо – безразличная к его ожиданиям, не замечая Ивана, и он согласно кивал, слушая кухонные объяснения Аскербая и надеясь, что непонятные слова смогут предложить ему смысл.
– Проблема с метафизикой в том, – продолжал Аскербай, – что невозможно доказать существование бога, но, как требовал Кант, нужно действовать, как если бы он был. Оттого вся метафизика строится на предполагаемом: мир-как-если-бы. Это, конечно, не могло устроить философов: ведь онтология – это мир-как-он-есть. Потому Хайдеггер и настаивал, что реальность нам известна лишь через познание ее человеком. Дальше – простой силлогический трюк: если бытие познаётся только через человека, то он и есть бытие. Человек стал бытием. Бог был бытием. Человек стал богом. Поняли? Вот вам и весь экзистенциализм.
Иван мало понимал в разговорах Аскербая, но соглашался, надеясь, что тот говорит правду. Иногда Иван просил почитать книги, из которых Аскербай все узнал, и долго сидел вечерами в своей пустой комнате, перечитывая по многу раз подчеркнутые желтым фломастером строчки. Он радовался, когда узнавал в прочитанном, хотя и не до конца понятом, слова Аскербая: это означало, что тот не придумал все сам, а взял у других умных людей. Иван радовался, что таких много: это вселяло надежду, что и он однажды поймет, как все устроено. А когда поймет, сможет менять бытие, как захочет.
Аскербай не ходил на работу: он всегда, кроме двух последних дней месяца, был дома. Однажды Иван преодолел стеснение и спросил, отчего тот не работает. “Вряд ли из-за руки, – думал Иван. – Другие и не с такими увечьями работают. Значит, деньги у него есть”.
– Я пенсию получаю, – ответил Аскербай, – по инвалидности.
Он ничего не добавил и скоро ушел в свою комнату.
Следующий день пришелся на 29-е, и, как обычно в это время, Аскербай уехал, так что Иван не знал, обиделся тот или нет.
Отъезд Аскербая был кстати: в конце месяца пришли новые цифры, и Ивану приходилось задерживаться в банке позже обычного. Они теперь разговаривали каждый вечер, и после работы Иван спешил домой, на кухню, где его ждали чай, овсяное печенье и разъяснения сути. Сейчас же он должен был сидеть в подвале КОРИБАНКА и распределять непонятные ему числа по категориям, обозначенным буквами – П, Р, Н, Д. И цифры и буквы ничего не говорили Ивану.
Перед отъездом они с Аскербаем обсуждали предназначение – есть ли оно. Аскербай дал Ивану книгу Сартра БЫТИЕ И НИЧТО , которую тот надеялся почитать в метро. Пока Иван лишь успел понять, что сознание – это вызов бытию, но не успел прочесть, почему так. Он думал узнать об этом по дороге домой.
“Неужели мое предназначение здесь, в этом подвале? – думал Иван. – Неужели я уехал от своей реки, убежал из залитого туманом города, чтобы переносить непонятные цифры из одного файла в другой?”
Он как раз дошел до любимой им буквы Н и смотрел на числа, относящиеся к НЕТМЕКО. Иван не понимал сути этих чисел, но они явно уменьшились по сравнению с прошлым месяцем, и кто их прислал, выбрал для них красный шрифт, как предупреждение грядущей беды. Ивану стало интересно – в первый раз, и он проверил цифры по НЕТМЕКО за прошедшие месяцы: они становились все меньше и меньше, словно их жизнь таяла и скоро должна была исчезнуть, превратиться в нули – круглую память о прошлом.
Иван открыл файл другой компании, НЕТРОТОРГ; здесь цифры, наоборот, росли во всех категориях, кроме Р , заполняя колонки уверенными строчками. Цифры за прошедший месяц были еще больше, они разрослись и грозили не уместиться в столбиках под ничего не значащими для Ивана буквами. Ему стало обидно за НЕТМЕКО, и он подумал, что, как НЕТМЕКО, он сам однажды пропадет, исчезнет, и испугался, как пугался когда-то растаять вместе с приходящим из-за реки туманом. “Если сознание – вызов бытию, – подумал Иван, – значит, я могу менять ход вещей”. Он скопировал последние цифры НЕТРОТОРГа и поместил их в файл НЕТМЕКО. Цифры же НЕТМЕКО он разбросал в колонках НЕТРОТОРГа и вывесил файлы компаний в базу данных.
Затем Иван оделся и пошел к метро, скоро забыв о сделанном и потеряв себя в трудных мыслях Сартра.
Вызов Ивана бытию не прошел бесследно: на следующий день ему – в первый раз – позвонили по служебному телефону.
Иван взял трубку и услышал бесцветный голос.
– Петров? – спросили его и, не дожидаясь ответа, продолжили: – Это Кирюшин из отдела стратегических решений. Слушай, что там с НЕТМЕКО? У них в этом месяце рост по всем показателям.
– Я тоже заметил, – согласился Иван. – Кроме Р .
– Р ? – переспросил Кирюшин. – Ну да, кроме расходов, все выросло. А мы им только что в кредитовании отказали – у них же продажи катастрофически падали последнее время.
“ П , – догадался Иван. – Продажи – это П ”.
– А НЕТРОТОРГ, наоборот, приспустился, – сказал Иван вслух. – А до этого рос.
– Ты тоже заметил? – обрадовался Кирюшин, и его голос потеплел и стал ярче. – Я же говорил, что есть межсекторная корреляция в индустрии. Ты как думаешь, откуда рост у НЕТМЕКО: новая клиентура или внутренние резервы?
Иван размышлял, что сказать: он ничего не знал о компании и не хотел рисковать. Поэтому предположил наиболее очевидное.
– Я думаю, они в другом месте взяли кредит, – сказал Иван, – и использовали эти деньги для роста. Возможно, нашли новый рынок сбыта.
Он замолчал, ожидая реакцию. Было интересно формировать реальность и заставлять других в нее верить. Этого с ним прежде не случалось.
– А знаешь, – после паузы согласился Кирюшин, – очень даже может быть. Мы им отказали, они пошли в другой банк и получили кредит под залог недвижимости. Средства использовали для закупок товара на стороне и стали демпинговать – отсюда рост продаж. Так и было, – уверил себя Кирюшин, – а наш кредитный комитет не захотел рискнуть, и теперь сидим и смотрим на их рост, а проценты по займу получает кто-то другой. Непонятно только, почему у НЕТРОТОРГа показатели падают; может, НЕТМЕКО у них клиентуру отбирает?
Он дал Ивану задание следить за обеими компаниями и не заниматься ничем другим.
– Все новые цифры – сразу мне, – сказал Кирюшин. – В базу больше не вывешивай, там все шастают, присылай лично мне.
Иван записал адрес его электронной почты и повесил трубку. Он чувствовал, что в жизни что-то сдвинулось, словно она наконец заметила его и, приостановившись, пытается разглядеть получше, а не проносится, равнодушная, мимо, как раньше.
В тот вечер он ехал домой, подняв глаза и не прячась от случайных улыбок девушек.
4
Декабрь начался оттепелью, будто месяца перепутались и вдруг наступил апрель. Снег почти сошел, оголив асфальт; город снова стал черным и мокрым. В метро стояли грязные лужи, и солнце, морозно светившее весь ноябрь, ушло, спрятавшись за плоское серое небо. Люди на улицах продолжали носить теплую одежду, и в транспорте от них шел сырой прелый запах.
Кадровичка Петрова неожиданно вызвала Ивана в свой кабинет и сообщила, что договорилась о регистрации и платить не нужно. Иван отдал ей паспорт и отметил ее почти уважительный тон, словно она знала о нем что-то важное.
Два раза в неделю Иван теперь открывал файлы НЕТМЕКО и НЕТРОТОРГа и менял цифры местами. Затем отсылал файлы Кирюшину, который часто звонил и спрашивал его мнение о динамике компаний. Иван узнал значение таинственных букв – названий колонок: П действительно означало Продажи, Р – Расходы, Н – Налоги , а Д – Доходы. Мир оказался менее загадочным, чем виделся раньше; просто нужно было знать, как что в нем называется.
Аскербай вернулся в начале месяца. Увидев под его дверью полоску света, Иван обрадовался, но решил не стучать; он кашлянул несколько раз, будто случайно, и пошел на кухню – ждать.
Скоро появился Аскербай – в той же вельветовой домашней рубашке, что носил всегда, каждый день. “Может, у него ничего другого и нет? – подумал Иван. – На пенсию особо не разживешься”. Они поздоровались – впервые словами, и Аскербай поставил чайник на огонь.
– Как съездили? – спросил Иван, он хотел, чтобы Аскербай пустил его в свою жизнь за пределами разговоров на кухне, но не знал туда пути. Ему казалось, что Аскербай похудел еще больше.
– Спасибо. – Аскербай достал мешочек с травой и посмотрел на Ивана: – Сартра прочли?
Сартра Иван почти кончил, но мало что понял: тот писал сложно, повторяя одну и ту же мысль по нескольку раз и пытаясь доказать одно и то же, но что – Иван уловить не мог. Он каждый раз запинался на словах типа “трансфеноменальность”, возвращаясь назад и пытаясь найти им объяснение, но слова появлялись ниоткуда и, неразъясненные, начинали жить на страницах, отвоевывая все больше пространства, повторяясь и путая Ивана. Поздно ночью, когда свет в других окнах гас, Иван ловил себя на том, что продолжает перечитывать одну и ту же фразу, пытаясь понять ее значение: “ Подлинно объективирующие интенции – это пустые интенции, которые подразумевают, что по ту сторону предстоящего и субъективного явления – бесконечная совокупность ряда явлений ”. Сколько б Иван ни читал, понимание не приходило, оставляя внутри холодок обиды, словно всем в комнате предложили вкусное, а его обнесли.
– Сложно пишет, – сказал Иван. – И на работе был занят – конец месяца.
Он хотел рассказать Аскербаю про свои манипуляции реальностью в виде цифр, но решил умолчать: вдруг Аскербаю такое не понравится и он начнет думать про Ивана скверно?
Вместо этого он спросил:
– Когда вы столько читать успеваете?
Аскербай заварил мятую, ломаную траву и сел за стол. Обрубки пальцев гладили горячую кружку, а здоровые сторонились, боялись.
– Я всю жизнь пробыл в больницах, – сказал Аскербай. – Времени было много, делай что хочешь.
Вот я и стал читать, сначала из больничных библиотек, а потом просил врачей покупать книги, о которых узнавал из других книг. Сперва в основном художественное читал, – улыбнулся Аскербай, – а затем на философию перешел. Там те же мысли, но концентрированнее, четче. Пока читаешь роман, на героев отвлекаешься, забываешь о главной идее, а у философов – сразу суть.
Он отпил настой и кивнул Ивану:
– Мне суть нужна. Не хочу на второстепенное отвлекаться.
Это Ивану было понятно: он тоже хотел знать главное, чтобы получить защиту от жизни. В детстве ему казалось, что это главное скрывается за наплывающим каждое утро туманом, который, как заклятье, не дает жизни двигаться, и оттого местные прикованы к городу и его неподвижной судьбе. Он бежал от тумана, но все еще не был уверен, что побег удался.
– А как теперь со здоровьем? – осторожно спросил Иван. – Не беспокоит?
Аскербай взглянул на него и покачал головой:
– Вылечили, – сказал Аскербай. – Каждый месяц езжу на осмотр, и все. – Он вздохнул: – Я ведь, Иван, только год как стал жить сам, один, а так всю жизнь в больницах провел. Самому сложно, конечно, заботиться нужно. В лечебнице все готовое – еда, процедуры, лекарства.
Аскербай замолчал, поглаживая уже остывшую кружку всеми пальцами. Иван тоже молчал, ожидая, оставит ли тот прошлое узкой полоской, как желтый свет под своей дверью, или отдернет завесь недоверия и пустит Ивана внутрь.
В дальнем конце коридора короткий, дробный стук костыля отмерял путь Татьяны Семеновны в туалет.
Иван доел печенье, чай у него кончился, и он стал просто сидеть.
– Я вам Сартра дал потому, – продолжил Аскербай, – чтоб вы поняли: человек рождается без презаданности, он сам выбирает судьбу и за нее ответственен. Человек, в отличие от предметов, не имеет предназначения; он постигает себя в течение всей жизни.
Он допил горько пахнущий настой и отодвинул желтую кружку.
Ивану показалось, что синий ободок, обегавший ее сверху, стерся и почти потерял цвет. Хотя, возможно, это плохое кухонное освещение играло с тенями.
– Предназначение – важный момент. – Аскербай погладил остывшую кружку. – Я, когда понял, всю жизнь поменял. Я после этого от Юнга отказался и стал жить по-иному.
Он замолчал, предлагая своим молчанием задавать вопросы. Иван слышал про Юнга, но точно не знал, что тот говорил. Или это был Юм? Один из них.
– Юнг – это про стереотипы? – спросил Иван. – Что-то такое?
– Про архетипы, – поправил Аскербай. – Юнг считал, что существует наследуемая структура психического, заставляющая нас переживать и действовать определенным образом. Наши реакции и действия предопределены изначальными коллективными образами, которые передаются по наследству, – как черты лица, цвет глаз и волос. Эдакая психогенетическая предопределенность, за пределы которой невозможно вырваться.
– А возможно? – спросил Иван; ему стало страшно, что Юнг прав, и, стало быть, куда бы он ни поехал, туман нагонит его и растопит, утопит в себе. Нужно было срочно узнать правду.
– Конечно возможно, – засмеялся Аскербай. – Посмотрите на меня: я сам вырвался и вам помогу.
Он потрогал рукав Ивана больной, короткопалой левой рукой.
– Я на ваше поколение очень надеюсь, – сказал Аскербай, – что вы освободитесь от презаданности. Что вырветесь и станете свободными от самой идеи предназначения.
– Какого предназначения? – спросил Иван.
– Все мы – последние три с половиной тысячи лет – живем в рамках главного архетипа, – пояснил Аскербай, – идет борьба добра со злом, и однажды произойдет конечная битва, после чего мир станет иным. Добро окончательно победит, и наступит рай на земле. Оттого все в мире попадает под эти категории – добро и зло. Заратустра придумал.
– А до него что, – спросил Иван, – по-другому было?
Аскербай рассмеялся и погрозил Ивану указательным пальцем здоровой руки. Иван тоже рассмеялся, хотя и не знал отчего.
В коридоре гулко стукнула дверь, и Татьяна Семеновна начала свою дробную, трудную дорогу обратно.
– Заратустра, – отсмеявшись, объяснил Аскербай, – придумал конец мифу битвы.
Он встал и долил горячей воды из чайника в свою кружку, но пить не стал – давал настояться.
– До Заратустры, – продолжал Аскербай, – люди думали, что мир неизменен. Мир воспринимался как поединок между порядком и хаосом, в котором ни порядок, ни хаос не могли победить, и потому битва должна была продолжаться вечность, всегда.
Аскербай понюхал настой – пора ли пить. Решив, что рано, он взглянул на Ивана:
– Этот миф, естественно, отражал природу – восход и заход солнца, разлив рек по весне – все, что было неясно, необъяснимо. Помните, у египтян: ладья Ра каждый день проходит по подземной реке и змей Апофис преграждает ей путь, пытаясь выпить из реки воду. Апофиса протыкают копьем, вода выливается, и ладья продолжает плыть. Но Апофис бессмертен, и на следующий день битва повторяется, и так всегда: свет и тьма, порядок и хаос. Все, что можно было сделать, – это сдерживать натиск хаоса на порядок.
Иван кивнул, хотя про египтян помнил мало. Аскербай решил, что настой готов, и отпил, как обычно, поморщившись.
– Надо же было объяснить, куда по ночам уходит солнце, – задумчиво сказал Аскербай. – И то, что оно каждое утро всходило, давало уверенность в завтрашнем дне – баланс сохранится, и мир не будет разрушен. До Заратустры люди верили в этот баланс, верили в вечность. Они не могли ни на что повлиять: солнце все равно зайдет вечером. Оттого все ранние религии не требовали от людей ничего, кроме ритуалов. Морали не было, а был ритуал – повторяемое действие, как солнце повторяло свой путь каждый день. Добро и зло не были частью религии: они просто не имели значения.
– Как так? – спросил Иван; он всегда думал, что религия – это как раз о добре и зле.
– Представьте себе, – развеселился Аскербай, – до Заратустры религии не диктовали норм поведения, потому как, что бы ты ни делал, солнце все равно взойдет и зайдет, Нил все равно разольется, и хороший ты, плохой – это дело твое и твоих соседей, но никак не влияет на баланс мироздания. Так и было, пока Заратустра не подменил порядок и хаос добром и злом. Он силам природы дал моральную оценку, понимаете? А они – просто силы природы.
Иван кивнул:
– И потом? Что потом?
– Как что? – удивился Аскербай. – Раз мораль, то добро должно восторжествовать, иначе зачем? Битва больше не может быть вечной: наступит конец света, когда молодой спаситель победит силы зла и на земле установится Царство Божие.
Он посмотрел Ивану в глаза и добавил:
– Для праведных то есть.
– А остальные? – спросил Иван.
– А остальные, – улыбнулся Аскербай, – будут уничтожены вместе со злом. Знакомо звучит?
Он отпил красноватый настой, ожидая вопросов. Его темные, почти черные глаза заблестели, перестали быть матовыми, словно смочились слезами. Иван молчал, пытаясь вспомнить, где он все это слышал.
– Вот, – Аскербай потянулся, – отсюда и христианство, и ислам, и марксизм, и все остальные апокалипсические учения. Чтобы попасть в Царство Божие или в коммунизм, нужно выбрать сторону в этой битве, занять свое место. На людей, на каждого из нас возложили личную ответственность за судьбу мира. Вот такой Заратустра.
Он помолчал, слушая урчание холодильника, и сказал:
– А битвы-то никакой нет.
– Это как же? – спросил Иван. – Как битвы нет?
– Да уж так. Нет, и все, – заверил его Аскербай. – И не было никогда. Восход и закат есть, день и ночь есть, посев и урожай есть, а битвы добра и зла нет. Просто удобно держать людей в рамках катастрофического мышления, постоянно надвигающегося апокалипсиса. Чтобы чувствовали себя как солдаты в строю.
– Для чего это? Кому это нужно? – Иван понимал, что Аскербай его давно подводил к этому разговору и книги давал для того читать. – Чем так лучше?
– Удобнее, – сказал Аскербай. – Солдаты, знаете ли, слушаются старших по званию.
5
На Новый год Иван поехал домой. Он не был дома с отъезда и звонил матери раз в две недели, хотя не знал, о чем говорить: и она и город стали далеким прошлым, словно случились не с ним, а с другим.
Иван удивился, что дорога назад оказалась короче, чем он помнил. В автобусе после Кинешмы появились знакомые люди, и они расспрашивали о жизни в Москве, перебивая и отвечая на свои же вопросы.
Иван вез матери деньги и новогодний подарок. Он долго мучился, не зная, что купить, и после работы ходил по украшенным предпраздничным магазинам, простаивая в женских отделах и глядя на непонятный ему товар. Отчаявшись, Иван спросил совета у кадровички Петровой. Та задала множество вопросов: какого мать роста, какие у нее глаза, волосы – всякую глупость. Иван не помнил цвета глаз матери и удивился, поняв, что никогда на нее внимательно не смотрел.
Петрова вздохнула и посоветовала купить что-нибудь теплое на зиму. Что – не сказала, и потому Иван, помучившись еще пару дней, купил матери красную блестящую сумку. Он видел такие у нарядных женских манекенов в витрине универмага “Москва”.
Петрова теперь была к нему внимательна и на новогоднем корпоративном вечере сообщила Ивану, что им интересуются. Иван не понял и спросил – по поводу регистрации? Она не успела ответить, как к ним подошел лысоватый парень лет тридцати в хорошем костюме, которого Иван не знал, хотя раньше видел: тот работал на втором этаже, где сидело начальство.
Парень улыбался. От него пахло кислым шампанским.
– Петров? – спросил парень. – Ну, встретились наконец. Я – Кирюшин.
Он протянул Ивану руку, и тот, как был, сидя, ее пожал.
– Верунчик, – сказал Кирюшин, – я у тебя Петрова на два слова украду, а потом верну, хорошо?
– А вот не отпущу, – засмеялась Петрова и взяла Ивана под руку. – Самой нужен.
Иван чувствовал себя глупо: ему было стыдно за ее кокетство. Он понимал, что она хочет ему польстить, но у нее это выходило слишком нарочито. “Аскербаю, – подумал Иван, – с ней было бы скучно”.
– Ладно тебе, – выдерживая тон, сказал Кирюшин. – Нам о делах поговорить нужно: его Палыч требует.
Иван пошел за Кирюшиным в угол, где сидело начальство. Там курили и на столе стояло виски, какое Иван видел только на рекламных щитах: его обычно пили красивые брюнеты, которых за это любили красивые блондинки.
– Это Петров, Геннадий Палыч, – представил Ивана Кирюшин. – По НЕТМЕКО.
– Садись, – не взглянув на Ивана, приказал Геннадий Палыч и продолжил разговор с другими краснолицыми людьми за столом: – Вот такая поебень по налоговой. После праздников самому придется ехать улаживать.
Иван сел, чуть боком, показывая, что не слушает чужие разговоры.
Геннадий Палыч закончил ругать налоговую службу и повернулся к Ивану. Тот точно не знал, кто такой Геннадий Палыч, но имя в банке звучало часто, и был он большое начальство.
– Давай выпей, Петров. – Геннадий Павлович говорил командами, отрывистым низким голосом.
Иван подобрался, ожидая расспросов по НЕТМЕКО и НЕТРОТОРГу: он понимал, что однажды все раскроется, но по тону знал – не сейчас.
Геннадий Палыч налил Ивану виски в чужой стакан, из которого уже пили, и спросил:
– Не за рулем?
– Нет, – сказал Иван. – Праздник же. Ему казалось стыдным признаться, что он ездит в метро.
Они выпили, и Геннадий Палыч одобрительно кивнул в сторону Кирюшина:
– Анатолий говорит, что ты рост по НЕТМЕКО вовремя заметил. Молодцом. Какие соображения?
Виски Ивану не понравилось: оно отдавало дымом и бочкой.
Стараясь не глядеть в маленькие, глубоко сидящие глаза Геннадия Палыча, Иван сказал:
– Заметил Анатолий. Я только данные составляю и ему отсылаю.
Кирюшин довольно засмеялся. Он хлопнул Ивана по плечу и снова засмеялся:
– Скромничает, Геннадий Палыч. Он первым про кредит на стороне догадался. Мы все время в контакте, и его прогнозы по росту НЕТМЕКО пока оправдались. Петров у нас дельный.
– Значит, так, Петров, – объявил Геннадий Палыч, – мы с Кирюшиным уже обсудили: после праздников – выйдешь к нему в отдел. Займешься кредитом для НЕТМЕКО; нам их нужно обратно переманить. Ответственность, понятно, другая, но и деньги будут другие. Справишься?
– Непременно, – сказал Иван. – Большое спасибо. – Он повернулся к Кирюшину: – Тебе, Толя, спасибо.
– Рано благодарить, – ответил тот. – Вот подпишем кредитное соглашение, тогда мы тебя благодарить будем.
Теперь, поздним утром, проснувшись в большой комнате, где спал на раскладном диване всю свою жизнь до отъезда в Москву, Иван вспоминал этот разговор, переживая случившееся заново. Он уже пробыл в родном городе шесть дней, встретил Новый год и собирался уезжать послезавтра. Комнат в их доме было две, и Иванова называлась большая, потому что в ней стоял телевизор.
Город не изменился; когда ехал обратно, Иван ожидал, что после Москвы все будет казаться меньше, но все осталось таким же. На улицах было пусто и светло от снега. Люди возили на санках, что не могли унести в руках. Они никуда не спешили, останавливаясь на улицах и подолгу расспрашивая Ивана о столице. Иван отвечал, как им хотелось, и никому не говорил о своем будущем повышении – чтоб не завидовали. Ему все улыбались, и старые друзья теперь звали его “банкир”. Местные отчего-то решили, что у него много денег, и каждый раз, когда собирались вместе, ожидали от Ивана покупки хорошего алкоголя.
Чаще всего собирались у Мерзликиных: Володя был лучший друг Ивана с еще дошкольного детства. Он уехал учиться в областной город и после института вернулся, не сумев устроиться в новом месте. Иван сочувствовал ему, слушая рассказы, каково инженеру быть слесарем на ремонтной базе. Его жена Лида, окончив педучилище, работала на полставки – до часа дня – секретаршей директора школы: в городе было мало рабочих мест, и многие, как мать Ивана, сидели по домам, ожидая лета, когда огород начнет их кормить и надежда на будущее, замерзшая зимой, постепенно оттает и – обласканная теплым ветром с реки – превратится в желаемое настоящее.
Мать Ивана не постарела, только съежилась, покрывшись пупырышками от возраста, как огурцы, которые мариновала по осени. Иван никогда не мог понять, отчего соленые огурцы остаются гладкие, а маринованные покрываются бугорчатой коркой. “Уксус, – думал Иван. – От укуса это. Надо у Аскербая спросить”. В нем жила твердая уверенность, что у того имеются ответы на все тайны жизни.
Ивану было не о чем говорить с матерью, кроме как о насущном – что-то в доме подправить да что докупить, чтобы пережить зиму, и они подолгу сидели молча в большой комнате: Иван на своем диване, мать у окна. Из рамы торчала старая пакля, которой мать затыкала окно на зиму, чтобы не дуло. Иван отвык молчать с людьми, но мать не задавала вопросов о его московском житье: то ли не знала, что спросить, то ли спрашивать было нечего.
Один раз Иван завел разговор: как ей известно, что она действительно существует в этом доме.
– А как же, – удивилась мать, – дом-то наш, по закону. У меня все документы на него выправлены.
Ивану стало скучно, и он решил не пояснять, что говорит о другом.
Обычно, проспав допоздна, он вставал и долго завтракал блинами с яйцом или вареньем – по настроению. Во время завтрака Иван смотрел телевизор без звука – ему были неинтересны пустые слова. Мать сидела у окна и глядела то на Ивана, то на немой телевизор. Потом Иван одевался и шел гулять по городу: нужно было убить время до двух часов дня.
К двум он приходил к старому трехэтажному дому на одну из окраин города, спускавшуюся к реке далеко за пристанью. Он миновал дом, словно шел дальше – к пустому зимой городскому стадиону, и, осмотревшись вокруг, открывал маленькую дверь черного входа напротив мусорных бачков. Иван поднимался на второй этаж по темной деревянной, дурно пахнущей лестнице и толкал дверь слева – с рваным дерматином, плохо державшим набитую под него для утепления вату.
Дверь, незапертая, сразу открывалась, впуская его внутрь.
Иван входил, снимал куртку и обувь, и Лида вела его в комнату. Ее зеленый халат был уже тесен от хорошо видной беременности. Он быстро раздевался, ежась от холода, и складывал одежду на стул. Лида ждала, сидя на продавленном старом диване, и каждый раз, пока она его ласкала, Иван пробовал сосчитать цветы на потемневшей от времени обивке, но они сливались в один большой неизвестный ботаникам цветок – то ли роза, то ли мак. Было тесно на узком диване, но они почему-то никогда его не раскладывали.
В их любви не было тайн: это продолжалось с пятнадцати лет, начавшись, когда оба решили вместе готовиться к экзаменам в школе. Да и любви никакой не было – дружба. Все началось от любопытства тел, отсутствия страха друг перед другом, ненужности слов. У них не было отношений – только действия. Они говорили о привычных вещах – друзьях, Володиной работе и что за нее платят, будут ли московские покупать комбинат и как это поднимет цены на дома, ее беременности и будущем материнстве – обо всем, кроме своей близости, продолжая сходиться без договоренностей – когда представлялся случай. Что происходило – происходило сейчас и с ними, не имея отношения ни к Володе, ни к ее замужеству, ни к будущему.
Иван уходил к пяти, встречался с кем-нибудь из друзей в городе, у клуба, и часто возвращался в квартиру Мерзликиных позже вечером – посидеть с Володей и Лидой, вспоминая прошлое и слушая Володины тревоги о будущем. Пару раз Иван заставал у Мерзликиных Лидиных подружек, и Лида, не спросив ни девушку, ни Ивана, стелила им ночью на диване, где Иван уже побывал днем. Она считала, что Ивану пока рано жениться – нужно прочно обосноваться в Москве. Для этого, советовала Лида, нужно жениться на московской.
Перед отъездом Иван понял, что город ему нравится: в нем было легко и уютно. Привычная жизнь обволакивала, как мягкий пушистый снег, что ложился на пустых улицах, делая мир светлее, легкой поземкой занося людские следы – словно в городе никто не жил. Казалось, город замер, замерз и жизнь в нем остановилась давно – покойная, мерная и неслышная, словно все наглотались тумана и от этого белого слоистого воздуха заснули много лет назад, так и не дождавшись татар. Город ничего от тебя не ждал, и ты ничего не ждал от жизни в этом городе. Иногда люди останавливались и подолгу глядели на другой берег затянутой льдом реки, будто что-то должно оттуда прийти и все тогда станет по-иному. Берег тот, однако, был пуст.