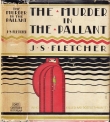Текст книги "Нефритовый голубь"
Автор книги: Олег Лебедев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Петя, голубчик, отправляйся-ка с Эльзой домой, а я задержусь, поговорю с этим… врачом. Пусть поведает мне, чем болеет моя жена, чего нам всем ждать, – властно распорядился он.
– Стоит ли вам слышать, как называются недуги, само произнесение имен которых способно пробудить дремлющие по сей день зловещие силы? – справился Али. И важно предложил полковнику: – Доверьтесь полностью моим чарам, уповайте на них, как уповали древние египтяне на широкий разлив Нила, и тогда супруга ваша поправится.
Подгорнов, кажется, смекнул, что пророк пытается уйти от намечающейся беседы:
– Если я желаю знать, что происходит с моей женой, то, будьте покойны, настою на своем, – отрезал он. – Тем более, я плачу вам деньги, – поставил он точку в непродолжительном споре.
Пророк казался крайне раздраженным, ноздри ястребиного носа его заходили ходуном, глаза гневно засверкали. Но Али сдержал себя, в третий раз склонился предо мной и Эльзой, а Михаилу Александровичу плавным движением руки показал в сторону той самой комнаты, где находились все причиндалы его ремесла, где стояла громадная печка.
– Следуйте за мной, и я прочту вам описания недуга вашей жены, данные в древних ассирийских манускриптах, – нехотя пророкотал Али Магомедд.
Итак, к нашей общей с Эльзой радости, Михаил Александрович остался слушать нудные своей непонятностью выдержки из восточных манускриптов. Благодаря чему его жена ненадолго избавилась от дражайшего супруга.
***
Когда мы покинули дом Али Магомедда, было еще светло. Наступила очень хорошая для большого города пора, когда постепенно сходит на нет поток авто, экипажей, когда улицы понемногу пустеют и в чистой тишине подступающих сумерек в полной мере раскрывается красота древних строений, теряющаяся в дневной суматохе.
Мне всегда нравились такие вечера. А сегодня было приятно и оттого, что я, украдкой посматривая на Эльзу, с удовлетворением отмечал: после сеанса она выглядит значительно лучше, чем прежде. Во взоре сестры появилась та искорка, которая совсем было потухла в бесконечной череде тяжелых дней жизни с самодуром-супругом. Мне стало радостно за Эльзу.
Мы медленно шли по московским переулкам по направлению к Садовой. Изящные особняки, выкрашенные в белый, розовый, голубой цвета, купались в мягкости летней зелени. Нежные, уже совсем нежаркие лучи солнца придавали городу особый, совершенно неповторимый уют. Как же хорошо смотрелась моя сестра в своем новом платье из золотисто-желтого бархата, поверх которого была накинута бледно-зеленая туника, отделанная серебряной тесьмой. Бесспорно, все это очень шло Эльзе.
Я всегда гордился сестрой. Внешне мы были похожи: очень светлая кожа, каштановые волосы, почти одинаковый зеленоватый цвет глаз, сразу видно, что брат и сестра, не ошибешься. Но волосы Эльзы – гуще и красивее моих, глаза более выразительные, чем у вашего покорного слуги, да и сложена она была удивительно гармонично, в то время как я, всегда стеснялся своих долговязости, сутулости, излишне длинных рук.
Признаюсь, иногда мне даже казалось, что люблю сестру чуть-чуть сильнее, чем подобает брату…
Это, впрочем, уже слишком личная тема, каковой не стоит касаться в заметках, предназначенных для посторонних глаз.
***
На следующий день, когда семья собралась в гостиной на завтрак, Михаил Александрович к столу не вышел. Горничная сказала, что вообще не видела его сегодня. Никто из нас, помню, не придал этому значения. Мы полагали, что, скорее всего, полковник уехал спозаранку в свое подмосковное имение, не желая проводить воскресенье в компании жены и ее родственников, что было, в принципе, вполне объяснимо.
Как говорится, баба с возу, коню легче. Вздохнув с облегчением, что дочь на сегодня будет освобождена от необходимости лицезреть своего супруга, родители наши отправились смотреть экспозицию балтийской выставки, недавно открывшейся в городе. Им очень хотелось полюбоваться скандинавскими скульптурами в павильоне искусств.
Эльза занялась детьми. Я же ждал китайца Фун-Ли, хозяина прачечной, находившейся неподалеку. В 10 часов утра он обещал принести мои сорочки и воротнички.
Незаметно я углубился в чтение «Русского слова». Даже вздрогнул, когда из настенных швейцарских часов выскочила кукушка. И тут же кто-то постучал в дверь:
– Можно мне зайти?
Разумеется, это был отменно пунктуальный Фун-Ли. Позавчера я, перестраховываясь, строго-настрого наказал ему, чтобы доставил белье не позже назначенного срока. Ведь сегодня тратить время попусту я просто не мог: был Иванов день, и значит, предстояла большая подготовка к ночи, на которую московские немцы по древней традиции устраивали шумный праздник в Cокольниках.
Надо сказать, что Фун-Ли был не только замечательным прачечником, но и приятным, доброжелательным собеседником. А лучшего, более восприимчивого и деликатного слушателя, чем этот неопределенного возраста полноватый китаец, неизменно одетый в потертый синий халат и маленькую черную шапочку – и как только она удерживается на голове! – трудно было даже вообразить. Единственным недостатком Фун-Ли являлось то, что он не только умел чутко внимать чужим речам, но и любил поболтать сам. Впрочем, суждения его были всегда забавны, а порой и небезынтересны.
Сын Поднебесной обслуживал наш дом довольно давно, около двух лет. Как правило, он сам забирал и приносил белье. И лишь изредка, когда отлучался из города по каким-то своим китайским делам, о сути которых я не имел ни малейшего представления, присылал помощников. Причем, всякий раз после возвращения справлялся, остались ли «господа» довольны работой.
Все мы привыкли к этому китайцу, воспринимая его почти как дальнего, хотя и малополезного родственника. Он оказался даже посвященным во многие семейные дела. Был Фун-Ли осведомлен и о визите к Али Магомедду:
– Как госпожа Эльза, как сестра ваша чувствует себя теперь? – поинтересовался китаец, сразу после того как почтительно вручил мне безукоризненно чистые, прекрасно выглаженные сорочки.
Я поведал о вчерашних событиях, отметив особо, что сеанс вроде бы пошел на пользу Эльзе. Фун-Ли вздохнул с облегчением:
– Как хорошо, хорошо… А то я боялся, когда услышал, что ваша сестра пойдет к Али. Он – восточный человек, поэтому с ним надо быть очень-очень настороже.
Не скрою того обстоятельства, что свою персону к «восточным людям» Фун-Ли не относил. Он уже долгое время жил в Европе. Сначала обретался где-то во Франции, затем осел в России. Причислявший себя в силу географии обитания к истинным европейцам, китаец с брезгливым презрением отторгал все, что происхождением своим имело край, где восходит солнце. Был склонен пофилософствовать на эту тему. И теперь он оседлал любимого конька:
– Восточные люди они такие… Дикие, коварные, белому их не понять. Вот албанцы. Кто самые восточные из европейцев? Они – албанцы. Они же и самые дикие. Вчера – кстати я вас не задерживаю? – прочитал о них в «Московских ведомостях» такое, о чем очень хочется вам сообщить. Можно?
– Нет. Да, пожалуйста, – ответил я одной репликой как на поставленные словоохотливым прачечником вопросы, так и на его ищущий внимания взгляд.
– Значит так. Оказывается у них – это я об албанцах – до сих пор есть кровная месть. Выше даже религиозных запретов они ее ставят. На всех родственников распространяют кровную месть, представляете?
Фун-Ли развел руками, ухмыльнулся, демонстрируя свое снисхождение к «диким албанцам». Потом, выдержав паузу, продолжил повествование:
– В Северной Албании, где люди еще чуть-чуть образованные, от этого обычая потихоньку избавляются. Там от мести можно откупиться. Плати 3 тысячи динаров, и тебя не убьют. А в Южной Албании – там сильно плохо, там ни за какие деньги нельзя откупиться! – прачечник с негодованием покачал головой. – В одной деревне, прочитал вчера, из двух враждебных семей, состоявших из 51 человека, в живых из-за кровной мести осталась одна восьмилетняя девочка. Вот вам Восток! Вот она – кровная месть! – воскликнул китаец с негодованием, затем вдруг мечтательно посмотрел на меня:
– То ли дело Европа. Там-то ничего подобного нет и быть не может. Цивилизация… – китаец слегка, но в то же время крайне почтительно наклонил голову. – Ничего еще и Америка. Я на днях такое интересное про нее узнал…
– Извини, Фун-Ли, но мне надо идти по делам, – прервал я болтливого китайца.
Однако, не желая обижать его, крайне чувствительного, как и все сыны Поднебесной империи к любому проявлению недостаточной обходительности, произнес слегка заискивающим тоном:
– То, что ты мне рассказал про Албанию, весьма любопытно. А об Америке давай, если не возражаешь, побеседуем в следующий раз. Согласен?
– Конечно, конечно, – затараторил, широко и часто улыбаясь, Фун-Ли. – Я больше не буду вас задерживать. Мне просто очень приятно обсуждать с вами, таким умным молодым человеком, важные проблемы. А сейчас я уже оставляю вас, – он низко поклонился и мелкими быстрыми шажками проследовал из комнаты.
Спустя несколько секунд дверь приоткрылась. Прачечник опять заглянул ко мне:
– Господин Феллер, не забывайте о том, что Фун-Ли, бедный китаец, обладающий самыми незначительными способностями, всегда к вашим услугам.
Этакая ненавязчивость… Я приветливо помахал ему рукой, стараясь держаться непринужденно, не демонстрировать особо свою досаду. Право слово, как же он заболтал меня! В другой день я бы, наверное, отнесся к этому совершенно спокойно. Терпеливо слушал бы его когда угодно, но только не сегодня – перед Ивановой ночью.
***
Иванова ночь…
В далекие годы моей юности это была совершенно особая для каждого московского немца ночь, и день перед ней был тоже не похож на другие.
С раннего утра мы все, от важного фабриканта Бесселя, в чьих глазах читалась непоколебимая уверенность в завтрашнем дне, и до последнего пьянчужки сапожника Хидбауэра с обвисшими от осознания безысходности бытия усами, буквально сходили с ума. Напрочь забывали про жен, дочерей, сестер, про всех женщин. Мы все, и даже самые почтенные среди нас, с детским энтузиазмом бегали по лавкам Охотного ряда, закупая пиво, колбасы, карнавальные наряды, фейерверки, бенгальские огни.
И уже вечером, в Сокольниках, начинался праздник – самый веселый из веселых, самый пьяный из пьяных, самый немецкий из немецких.
Это было торжество во имя его величества Бахуса, которое, как гласит заслуживающее безусловного доверия предание, установили сотни лет назад еще первые обитатели Немецкой слободы. На праздник исстари допускаются только немцы. И что самое приятное: там запрещено появляться женщинам! Настоящее веселье возможно лишь в мужском обществе.
Гуляние началось с шествия торжественной, многолюдной (немцев в городе было около 18 тысяч) процессии к столам с угощением. Уже к полуночи я, скажу откровенно, чувствовал себя далеко не лучшим образом. Слегка кружилась голова, в глазах рябило от света ярких факелов, с которыми носились герольды, рыцари, эльфы – все те, кто завтра утром снова превратятся в добропорядочных московских обывателей. В ушах звучали разрозненные фразы немецких песен. Похоже было даже, что исполнял их не я, а кто-то другой.
С озабоченностью я задумался над тем, кто осмелился бесцеремонно, без моего ведома поселиться в моей голове, и, погрузившись в эти свои мысли, чуть было не оказался сбитым с ног гигантскими носилками, которые несли 10 гномов с длинными накладными бородами, в разноцветных колпаках с пушистыми кисточками.
На носилках с огромной кружкой пива в руке стоял, покачиваясь, не кто иной, как сам Бахус. На этот раз ответственная должность главы торжества была доверена Иоганну Карловичу Бауме. Он жизнерадостно помахал мне рукой, затем гаркнул:
– Прозит! – и одним богатырским глотком опорожнил кружку.
– Ву-а-ля! – весело заверещали гномы, среди которых я узнал командующего Московским военным округом генерала фон Плеве, владельца табачного магазина на Остоженке Шумахера, юного поэта-футуриста Зальцмана…
Его величество Бахус начал, не слезая с носилок, подпрыгивать, хлопать в ладоши. А свита нестройно, но с энтузиазмом пропела какой-то крайне непристойный куплет.
Во избежании вредных сплетен, кои могут порождены среди будущих читателей строками моей рукописи, должен заметить, что крестный, равно как и другие московские немцы позволяли себе такое… ну, скажем так… несколько легкомысленное поведение всего-навсего один раз в году – на Иванову ночь.
Отойдя от носилок – Бахус в это время принялся исполнять веселую, с легкой похабщинкой баварскую песню, с энтузиазмом подхваченную всеми десятью гномами, – я помотал головой, прислонился к какому-то дереву – кажется, это была береза – и задремал, продолжая тем не менее слышать громкие звуки буйного праздника.
Когда открыл глаза, развлекающаяся толпа уже распалась на отдельные, тяготевшие к пивным бочкам группы, веселие в которых, однако, еще било ключом. Впрочем, далеко не все предавались пьянству. Наиболее усталые, отдыхали, сидя на траве, другие запускали фейерверки, а самые стойкие приверженцы традиций собирали высокие, в несколько сажень кучи хвороста, чтобы устроить грандиозные костры – неотъемлемую принадлежность Ивановой ночи.
Ко мне подошел крестный. Общество, видимо, уже освободило Иоганна Карловича от почетных, но вместе с тем и крайне обременительных для организма обязанностей Бахуса, и он, хотя и был явно навеселе, поспешил найти меня, дабы справиться, каковы дела у Эльзы. Крестный не очень-то обрадовался, когда услышал, что Али Магомедд немного помог сестре:
– Понимаешь, Peter, ей будет худо до тех пор, пока она не расстанется с полковником.
Это утверждение я, разумеется, оспорить не мог. А в крестного под влиянием праздника, похоже, вселился некий древнегерманский дух – свирепый и воинственный, потому что Иоганн Карлович продолжил весьма резко:
– Если мерзавец Подгорнов не пожелает дать ей свободу по-хорошему, а я уверен, что он этого сделать не захочет, то его надо просто убить. И дело с концом, – крестный сделал стремительное движение рукой.
Кажется, он уже представлял себя отважным рыцарем и заносил меч над несносным полковником.
Порыв этот, вызванный шаловливой игрой воображения, чуть было не привел к плачевным результатам. Потеряв равновесие, крестный рухнул… К счастью, прямо в мои крепкие объятия.
Серьезной заботой той последней довоенной Ивановой ночи стала доставка Иоганна Карловича домой. Крестный, хотя и шествовал не особо уверенно, а периодически и вовсе останавливался передохнуть, тем не менее настойчиво уговаривал меня отправиться прямо сейчас в театр «Эрмитаж» на спектакль «Женщины и вино».
– Это очень пикантное представление, – безапелляционно утверждал Иоганн Карлович, лукаво подмигивая вашему покорному слуге.
На Большой Садовой я очутился глубокой ночью.
***
Подходя к дому, я полагал, что все уже спят. Во многих окнах, однако, несмотря на позднее время, горел свет. Едва я переступил порог, как родители сообщили неожиданную весть: Михаил Александрович не только отсутствовал весь день, но и в имении также не объявлялся, о чем стало известно от управляющего, который ближе к вечеру привез оттуда зелень на кухню.
Сначала родители и Эльза надеялись, что полковник предпочел провести воскресный день на службе – в штабе Московского округа – хотя и знали, что у Михаила Александровича был выходной.
Позвонили в штаб, выяснилось, что дежурные офицеры Подгорнова не встречали. Они, в свою очередь, незамедлительно связались с командующим войсками округа генералом П. А. Плеве, уже вернувшемся с праздника, доложили доблестному военачальнику об исчезновении полковника. Тот выразил глубокую озабоченность судьбой подчиненного, в очередной раз четко продемонстрировав свою принципиальную жизненную позицию, удивительно образно и лаконично сформулированную нашим великим поэтом М. Ю. Лермонтовым: «слуга царю, отец солдатам».
Ночь тянулась долго. Проходил час за часом, полковник известий о себе не подавал. Все не на шутку заволновались, принялись звонить знакомым. Тем, разумеется, у кого были телефоны. К остальным же отправили слуг. Ничего хорошего, к сожалению, узнать не удалось. Похоже, что мы с Эльзой были последними, кто видел Михаила Александровича.
– Надо заявить в полицию об исчезновении Миши, – резюмировал сложившуюся ситуацию папа.
– Телефонируй немедленно, Peter, – отдала мне приказ мама.
Эти тревожные мгновения хорошо запечатлелись в памяти. Испуганные неизвестностью старики-родители сидят рядышком на диване в нашей гостиной, чья такая привычная и уютная мебель красного дерева теперь, казалось, в цвете своем обрела некий зловещий оттенок.
Эльза стоит на балконе, накинув на плечи бардовую шаль, курит папиросы «Осман». Одну за одной. Детей уложили спать. С ними сейчас няня. Я, единственный, кто не утратил присутствия духа, уже который раз набираю пятизначные номера друзей, знакомых Михаила Александровича.
***
Понедельник был исполнен мучительным ожиданием.
Больше всех, как ни странно, переживала Эльза. (Это при ее-то отвратительных отношениях с супругом!) Сестра моя заперлась в комнате и никого к себе не пускала. Долго уговаривал ее через дверь прекратить курить крепкий «Осман» и взять у меня более мягкий и качественный «Зефир». Она разрешила мне войти, взяла папиросы и тут же категорически потребовала оставить ее одну.
Полиция тщетно искала полковника по всему городу. Мы же позвонили в «Московские ведомости», «Русское слово», «Русские ведомости», «Московский листок», «Копейку», которые в вечерних выпусках дали сообщения об исчезновении Подгорнова. О субботнем визите к Али пресса не писала: следователь Пантелей Тертышников, занявшийся нашим делом, посоветовал на всякий случай не делать некоторые подробности случившегося достоянием общественности.
Я прислушались к рекомендациям этого офицера полиции – человека, несомненно солидного, знающего, внушающего доверие своими умными маленькими глазками, длинной профессорской бородой и неимоверной худобой, свидетельствующей либо о присущей выдающимся умам язвенной болезни, либо и вовсе об аскетическом образе жизни, свойственном подвижникам своего дела.
Тертышников, которому я рассказал во всех деталях о походе к Али Магомедду, отправился с нижними чинами в контору пророка. Последнего, однако, там не оказалось. Мой знакомец-секретарь сообщил следователю, что Али еще в воскресенье утром уехал в Петербург, где у него, также как и в Москве, имелась обширная практика.
Вернуться оттуда он предполагал только на следующий день, во вторник.
***
Ко вторнику Михаил Александрович обнаружен не был, и все надежды полиция возлагала теперь на допрос Али Магомедда, человека, который беседовал с полковником еще в субботу, и, возможно, мог каким-то образом прояснить дело.
У нас в доме между тем появился Игорь Велтистов.
– Где же ты пропадал все это время? – гневно напустился я на своего друга.
– В курильне. Это единственное место, где теперь я чувствую себя более-менее сносно, – сухо бросил он мне, а сам быстренько устремился в направлении комнаты Эльзы. Но сестра видеть его, ровно как, впрочем, и всех остальных, не пожелала.
В семье господствовало гнетущее настроение. Причина его возникновения была мне, откровенно говоря, не совсем непонятна. Я, конечно, тоже волновался. Но с другой стороны…
В самом деле, нет полковника, и Бог с ним, не пропадет. А мы, по крайней мере, отдохнем без его персоны несколько дней.
– Нечего придавать этому особого значения: что с ним может случиться? – говорил я Котову, который, узнав о последних событиях, сразу приехал к нам.
Тем не менее, Женя, знавший мою сестру с детства, и движимый прежде всего искренним сочувствием к ней, долго с тоской смотрел на нее. Эльза как раз покинула ненадолго комнату и играла на знаменитом по красоте звука и прочности пианино «Рениш» грустные вещи Шопена…
Прослушав три печальных ноктюрна, Котов вздохнул, подумал немного. Затем сел на свой любимый велосипед – детище американской фирмы B. S. A., оснащенное моторчиком «Луксус» – и покатил в сторону Вспольного переулка, разведать как разворачиваются события, дабы сообщить новости безутешной женщине.
Женя имел неплохие связи в полицейском мире, а с Тертышниковым и вовсе ходил «на кабана» в дебрях Костромской губернии, поэтому ему разрешили присутствовать в конторе пророка, где находились следователь и жандармские чины, караулившие Али Могамедда.
Уже через несколько часов выяснилось, что они не напрасно провели здесь свое драгоценное для общественных нужд время. Сам вид прибывшего из Питера пророка – здоровенный лиловый синяк под правым глазом – не мог не вызвать у них резонных подозрений. Тут же в квартире Али произошел допрос.
Объясняясь с полицией, пророк рассказал, что вечером в субботу, после того, как мы с Эльзой отправились домой, долго пытался растолковать Михаилу Александровичу, чем именно страдает его жена, но полковник, не пожелав вникнуть в суть дела, принялся кричать на пророка. Тот резко ответил, слово за слово, они крепко повздорили, ссора переросла в драку, которая кончилась, разумеется, в пользу более сильной стороны, участвующей в конфликте – атлетически сложенного военного. А затем, по словам Али, полковник хлопнул дверью, пообещав подать на пророка в суд за «гнусное и коварное шарлатанство».
Версия, изложенная Али Магомеддом, не показалась убедительной проницательному Тертышникову. Он, как выразился Женя, «так и пронзал пучеглазого индусского обманщика своим цепким взглядом», а в конце концов приказал жандармским чинам незамедлительно обыскать контору.
Обследование, произведенное чинами, дало поистине ошеломляющие результаты. Бездыханное тело полковника было найдено в той огромной печи, которою я видел краем глаза во время недавнего визита к пророку. Полицейские обнаружили труп в специально устроенном лазе, охватывавшем по периметру топку печи. Этот лаз, собственно, и создавал большие ее габариты.
Вместо левого глаза на лице Михаила Александровича была ужасная рана…
Да, его лишили жизни точно таким способом, как и всех тех людей, о чьих смертях я прочел в субботу, в «Русских ведомостях».
Само собой, что Али Магомедда обвинили не только в убийстве полковника, но и этих несчастных. Для такой постановки вопроса имелись более чем веские основания. Во-первых, тело в лазе вокруг печки. Во-вторых, недвусмысленное признание самого пророка в ссоре с полковником. Наконец, сам лаз, который Али использовал для того, чтобы прятать свои жертвы.
Здесь, кстати, отыскали несколько волос, не принадлежавших полковнику. Значит, прежде там было сокрыт еще чей-то труп. Следователь считал это вполне доказанным.
***
На следующий день, в среду, Тертышников пригласил Эльзу в полицейское управление для того, чтобы отдать ей вещи, найденные у убитого. Я в те тяжелые для сестры дни неотступно сопровождал ее всюду, куда бы она не выходила из комнаты. Разумеется, что не отклонился от исполнения родственного долга и на сей раз.
Следователь сидел в своем обтянутом черной коже кресле. Обычно непроницаемое лицо Тертышникова выражало неподдельную скорбь. Над головой офицера висел портрет Государя-Императора, написанный, несомненно, даровитым художником. Николай II строго смотрел на стол, на котором находились вещи покойного, и одновременно с подлинно отеческим состраданием – на убитую горем вдову.
Надо признать, что Подгорнов был человеком редко встречающегося ныне спартанского склада. В отличии от тех, кто таскает с собой множество бесполезного барахла, даже когда ненадолго отлучается из дома, полковник всегда брал с собой лишь самое необходимое.
Перед нами лежали бумажник, массивные золотые часы-луковка с длинной цепочкой, пара бриллиантовых запонок из магазина Кузнецова, батистовый, сверкающий чистотой носовой платок, маленький флакончик одеколона «Тезия» (парфюмерия А. Мемерсье), набор зубочисток, две коробки папирос «Дядя Ваня», а также приглашение на IX международный конгресс по прикладной химии (наука эта составляла долгие годы единственное хобби полковника).
Плачущая Эльза брала эти предметы один за другим, прижимала их к своему страдающему, доброму сердцу. Я ласково держал руками вздрагивающие от рыданий плечи сестры, периодически обращаясь к ней со словами утешения. Впрочем, помимо естественного, глубокого своей неподдельностью сопереживания я испытывал немалое удивление из-за того, что среди предметов не было любимой перьевой ручки полковника: нефритовой, увенчанной фигуркой голубя.
Михаил Александрович, насколько я знал, никогда не расставался с ручкой. Куда же в таком случае она могла деться?
Пропажа ручки была бы вполне естественной, если бы наряду с ней исчезло и все остальное. Тогда стало бы ясно – покойного ограбили. А тут… Мое недоумение крепло.
Эльза немного успокоилась. Прикусив губу, она собрала вещи полковника в свой ридикюль. Тертышников, чьи крошечные глаза, в свою очередь, заметно увлажнились, подошел шаркающей походкой к Эльзе – еще раз выразить свои соболезнования. Слова его снова вывели мою несчастную сестру из состояния крайне шаткого равновесия.
Она разрыдалась и в истерическом припадке вцепилась руками в профессорскую бороду доблестного следователя. Эльза громко заголосила, ноги ее неожиданно свела судорога, и она почти повисла на бороде Тертышникова, который, впрочем, держался мужественно, можно сказать, стойко. Благодаря, видимо, присутствию за своей спиной портрета обожаемого монарха, его незримой, но очень значимой поддержке.
Автору этих строк пришлось потратить немало сил, успокаивая свою бедняжку-сестру. Наконец она смогла собраться с силами. Я взял ее под руку. Мы покинули здание полицейского управления.
Тогда я еще полагал, что полковник по какой-то нелепой случайности оставил нефритовую ручку в кабинете, когда собирался к Али Магомедду. Сразу после того, как мы очутились дома, и я сдал Эльзу на руки нашей матери, я пытался отыскать эту пишущую принадлежность в кабинете Подгорнова.
Перерыв ящики письменного стола усопшего зятя, обнаружил немало разнообразных вещей. В том числе: четырнадцать колод потертых игральных карт, двенадцать упаковок слабительного «Sagrada Barber», фуражку и свисток трамвайного кондуктора, три баночки средства от общей и половой слабости «Биола», огромный бинокль «Трейдер» с разноцветными линзами, два кусочка хрустального мыла «от Ф. Мюльгенса, поставщика многих Высочайших дворов» со следами передних и боковых человеческих зубов на поверхности, початую баночку со средством для предохранения кожи от загара, картонную коробочку с обгрызенными ногтями пальцев рук, подшивки «Журнала для женщин» за четыре последних года, разрозненные номера этого же журнала с начала выхода издания, множество пустых тюбиков из-под рыжей краски для волос «производства Зеегера», немецкую губную гармошку, пустую копилку-свинку, восемьдесят черных страусовых перьев, обширнейшее собрание английских открыток с полуобнаженными индианками, и еще 50 экземпляров брошюры профессора Гофмана «О преждевременных родах». Я, конечно, подозревал, что зять мой – человек не вполне нравственный, но не до такой же степени…
Удрученность, которую испытывал я от сделанного открытия, дополнялась разочарованием от того, что нефритовая ручка найдена мною не была.
***
Полиции дело об убийстве моего зятя казалось совершенно очевидным. Вскоре Тертышников передал его в суд. Начался процесс, на котором Али Магомедда обвинили в нескольких убийствах.
Общественное мнение в отношении пророка было настроено однозначно негативно. Газеты давали материалы о процессе под рубрикой «Ритуальные убийства», перед зданием суда ежедневно собиралась толпа, неоднократно порывавшаяся учинить расправу над Али. Московские обыватели не сомневались, что убийцей был пророк, в силу своих изуверских наклонностей подкарауливавший припозднившихся прохожих и наносивший им смертельные раны в глаз каким-то острым предметом. Теперь, после его поимки, в городе перестали страшиться злодея, лишавшего людей жизни таким экзотическим способом.
На процессе Али упорно стоял на своем, утверждая, что после ссоры полковник, живой и невредимый, ушел из его конторы, и с тех пор он Михаила Александровича не видел. Что же касается ответа на вопрос, для чего, собственно, в печи был устроен лаз, то здесь обвиняемый давать какие-либо объяснения наотрез отказался.
Стоит ли удивляться, что присяжные единодушно признали Али Магомедда виновным? Их не смутили те обстоятельства, что на теле Михаила Александровича отпечатков пальцев пророка обнаружено не было, что полиция не нашла орудие убийства. Все это нисколько не поколебало и судью, приговорившего Али к смертной казни.
Об исполнении приговора московские газеты сообщили с радостью. Поместив это известие среди наиважнейших на первые полосы выпусков. Сразу после еще кратких информаций о начинающемся кризисе на Балканах…
***
Эту историю многоуважаемый Фун-Ли прокомментировал следующим образом:
– Все, как обычно, господин Феллер… – китаец важно поглядел на меня. – В бедах бренного мира всегда виноват Восток. Подумать только, этот варвар Али Магомедд причинил столько зла цивилизованному обществу, – изрек он с чрезвычайно глубокомысленным видом.
Надо отметить, что я не был с ним полностью не согласен. Никогда не предполагал, что Эльза станет страдать из-за смерти человека, отравившего ее молодость. К счастью, время, самый могущественный волшебник-целитель, как обычно бывает, взяло свое. И в этом благом деле волшебнику помог, как вы сами, наверное, сообразили, не кто иной, как Игорь Велтистов.
Не проходило дня, чтобы он не заглядывал к нам. С каждым разом сестра моя встречала его все приветливее, чего нельзя было сказать о двух крошках – детях полковника. При всей неприязни к покойному вынужден признать, что к четырехлетней голубоглазой дочке Свете и трехлетнему толстенькому Вадику он относился как нельзя лучше.
Дети были очень малы. Им говорили, что папа, дескать, ушел на войну. Но они интуитивно ощутили его смерть. Нет, они не спрашивали, когда вернется отец. Просто и Света, и Вадик перестали быть теми жизнерадостными созданиями, каковыми являлись прежде. Они обращали мало внимания на подарки, которые делали им мои родители, не играли весело со мной, как раньше. Даже ласки матери воспринимали не так, как при жизни отца.
И если в первые дни после смерти полковника я, что греха таить, почти не испытывал отрицательных чувств по отношению к его убийце, то теперь, видя грусть в глазах дорогих малышей-племянников, люто возненавидел Али Магомедда.
Вскоре, однако, я узнал, что пророк не заслуживал плохого к себе отношения.