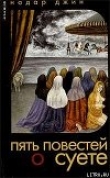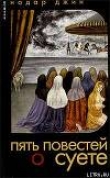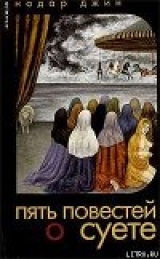
Текст книги "Повесть о глупости и суете"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Нодар Джин
Повесть о глупости и суете
1. Красота есть отсутствие цели
Никто не хочет жить вечно, но все хотят – заново. Я тоже. Вечной жизни я никогда не желал хотя бы потому, чтобы не считать смерть утопией. Но прожить заново я бы согласился, ибо слишком уж долго доверялся учреждённой в мире мудрости. Мне казалось, что миром правит великое начало.
Например, «Хэппи Энд».
Моя жизнь застопорилась той самой ночью, когда мне впервые приснилось, будто весь день со стола падает стакан. Не просто весь день со стола падают на пол стаканы, – нет: один и тот же стакан падает очень долго. Весь день.
Красивый синий стакан.
И падает тоже красиво. Долго. Как если бы не падал, а завис в пространстве. Как если бы ничего с ним не происходило. Не только с ним, – со всем сущим вокруг. Как если бы с самою жизнью ничего бы не происходило по той простой причине, что произойти с ней ничего не может. И – главное – как если бы это ничего происходило очень, очень медленно.
Этот сон повторяется теперь часто.
Поэтому если я и начну когда-нибудь жить заново, то буду жить уже не ожидая никакой развязки. И зная, что иной цели кроме того, чтобы было хоть немножко красиво – у Творца быть не могло. Ибо красота – это как раз и есть отсутствие цели.
2. Разочарование в будущем
Гена Краснер прибыл в Нью-Йорк одновременно со мной. Но из Ялты. И поселился в трёх кварталах от моего дома.
В отличие от меня, он обладал ремеслом, – акушерство, – но, подобно мне, привёз с собой в Америку жену и дочь. И мы с ним, и дочери были одногодками, а жёны – ещё и коллегами. Знатоками античной филологии. По ходатайству эмигрантской благотворительной конторы, стали коллегами и в Штатах. Уборщицами при одном и том же манхэттенском отеле.
Сдружились. Чуть свет встречались в сабвее и тащились на работу вместе. Так было безопасней. Возвращались поздно измождённые и печальные. За этим ли, дескать, уезжали?
Жаловаться перестали не раньше, чем я рассказал шутку о еврее, который не умея наслаждаться настоящим, испытывал разочарование даже в будущем. Ибо всю дорогу сокрушался о прошлом: на каждой станции выглядывал из поезда и вздыхал «Ой вэй!». Когда его наконец спросили о чём вздыхает, он признался, что сидит «не в том поезде».
Пересаживаться в «тот» и Любе, Гениной жене, и моей собственной было поздно, но реагировать на нынешние невзгоды они теперь стали иначе. Хотя Люба по-прежнему вздыхала, она говорила другие слова: ой вэй, скорей бы, дескать, примудохался март, то есть срок Гениного «тэста»!
Гена сидел дома «с утра до утра и грыз английский». Два других экзамена, по специальности, свалил легко, но с третьим, чуял, выйдет беда – завалит. А «без языка» – пусть он и работал в России акушером – не позволят вчинить аборт даже нелегальным эмигранткам. Не говоря уж о принятии родов у коренных американок.
Весь январь Люба проклинала февраль только за то, что он на целый месяц отдаляет пришествие марта. А моя жена сердилась на историю философии только за то, что она исчисляется веками. По каковой причине, казалось ей, книгу об этой истории – даже в беглом изложении – мне не удалось дописать к тому сроку, когда ей было велено заявляться в отель ещё раньше.
Впрочем, в соответствии с моей классификацией философов, она считала себя стоиком, пренебрегала настоящим во имя будущего, и каждое утро, в сабвее, обещала Любе, что как только я сдам свою рукопись в издательство, жить станет легче. Почти как было в прошлом. В Грузии. Где, мол, кстати, – в отличие от преступности в этом сабвее – растут алыча и инжир.
Озираясь на лица попутчиков, Люба выражала сомнение в том, что моя книга станет бестселлером. Жена, между тем, заверяла её, что я пишу в занимательном стиле, хотя, конечно, Нью-Йорк – не Грузия, где размер гонорара определяли не числом читателей-идиотов, а количеством слов. Обыкновенных слов!
Правда, мол, и там за слова платили не так просто и легко, как за алычу или инжир на рынке. А только если сдавал свои слова в издательство в некоей совокупности. Не рассыпанно или изолированно. Не так, как в словарях. Пусть даже они там расписаны по алфавиту.
Однажды, в конце февраля, Люба, то ли в тоске по родной письменности, то ли из уважения к надеждам своей постоянной попутчицы, попросила жену принести почитать «из мужа». Хотя бы начало. Жена предупредила, что даже оно, начало, состоит исключительно из английских слов.
«Английских?!» – вскинулась Люба, и наутро Краснеры заявились к нам всею семьёй, втроём. Плюс – бутылка французского коньяка. Заявились и пали мне в ноги: спаси, дескать, и выручи! Одна надежда на бога и на тебя! Сразу же, впрочем, поправились: на тебя и на бога!
План спасения был криминален, но романтичен: на один только день в моей жизни, на день английского «тэста», мне предписывалось стать Геной Краснером, для чего достаточно было на экзаменационном талоне с Гениным именем и адресом заменить его фотографию моей.
Если бы Краснеры знали меня лучше, они могли бы не только достойней себя вести, но даже обойтись без коньяка: я бы с радостью сделал это даром. Причём, – по многим причинам, из коих принципиальным значением обладали две: моя неизживаемая тяга к перевоплощению и моё презрение к местным врачам, сплочённым сговором усложнять эмигрантам обретение лицензий.
Желая польстить мне, Гена стал философствовать. Зачем, например, убеждал он меня, с российского акушера требовать знание английского на уровне борзописцев и историков философии? Спрашивать надо другое: знает ли он откуда и как в Америке люди лезут на свет? Оттуда и так ли, откуда и как лезут в Ялте?
До эмиграции Гена принимал роды или, как выражалась Люба, «абортировал» целых двадцать лет и был достаточно образован, чтобы понимать вдобавок, что ни с каким человеком – когда он в поту и крови лезет на свет – не требуется вести англоязычную беседу с использованием идиом. Предположим, российский акушер выразился как-нибудь не так, – не полезет же лезущий на свет обратно! А касательно абортов, заключил он, – так же, как и активности, служащей им первопричиной, – минимальное знание языка достаточно. Правильно?
Правильно, ответил я и через неделю поехал вместо него сдавать английский.
Прав Гена оказался не только в рассуждениях, но и в предчувствии: вышла большая беда.
3. Вихрастое пламя стыда
Беда, впрочем, вышла не во время самого экзамена, а сразу после. Я написал всё как следует, подписался тоже как следует, «Краснер», и вручил рукопись вместе с талоном председателю комиссии. Статному индусу в чесучовом кителе.
И тут этот статный индус бросает взгляд на мой талон и – восклицает:
– Так это вы и есть доктор Краснер! Наконец-то! – и обнимает меня за плечи. Причём, обнимает очень тепло. Почти как соотечественника.
Оказалось, что индус – хотя и не соотечественник – живёт на одной площадке с Краснерами и прекрасно знает Любу с Ириной, а меня, то есть Гену, пока ни разу не встречал.
– Я всё сидел, занимался! – пожаловался я ему вместо Гены.
– Молодец! – похвалил меня индус и бросил взгляд на рукопись. – Пишете прилично и говорите сносно. Напрасно Люба ваша жаловалась! И правильно, кстати, говорят в моём отечестве: русские очень скромны! А какой у вас, пардон, профиль?
Я сказал, что профиль – психиатрия. Расчет был прост: индусы не предохраняются от зачатия и охотно размножаются, а потому сознаться, будто я акушер опасно. Наверняка хоть кто-нибудь в его семействе и хоть немножко уже беременен. С психикой же у индусов дела обстоят надёжней. Предохраняются йогой.
Просчёт оказался трагическим: индус, приподнявшись на цыпочках и стараясь казаться ещё более статным, чем был, объявил мне, что вечером приведёт на осмотр своего зятя, который уже второй месяц не решался лишать жену, то есть дочь этого статного индуса, девственности, поскольку не решалась на это она сама. Обещал 20 долларов и национальный сувенир – древнеиндийский самоучитель любви.
Через час, на лихорадочном совещании в «Макдональдсе» между моей семьёй и Краснерами, было постановлено, что Гена домой к себе не возвращается и ночует в квартире Любиной подруги, на неделю укатившей с женихом в Канаду и оставившей ей ключи – кормить кота. Что же касается меня, психиатра Краснера, я переселяюсь на день-два, до исхода кризиса, к Любе с Ириной. Краснерам было неловко и они намекнули, что после моего освобождения купят ещё одну бутылку коньяка. Более качественного. Люба обещала мне не мешать работать над книгой и ходить по квартире в гуцульских войлочных шлёпанцах. Ещё она обещала отменить завтра выходной и отправиться в отель, а Ирина с радостью вызвалась навестить одноклассницу.
– Знаю я эту одноклассницу! – рыкнул Гена. – Сидеть бля дома!
Вечером, в идиллической семейной обстановке за чашкой грузинского чая, выданного мне «в дорогу» женой, и за песочным печеньем по-ялтински, испечённым Любой, я прописал индусским молодожёнам оптимизм. Пояснил при этом, что оптимизм рождается из понимания простого факта, что завтра обстоятельства не могут сложиться хуже, чем сегодня. К этому рецепту я добавил несколько нравоучительных, но весёлых историй на тему первой брачной ночи. Завершил их самой зажигательной сказкой из «Тысячи и одной ночи».
Всё потом вышло как в пьяном бреду, тем паче, что, кроме чая, жена моя, то есть не Люба Краснер, не временная и подставная, а настоящая, – вечная жена из временно покинутого дома, – вернула через мою дочь по моей новой семье, через Ирину, бутылку французского коньяка. Ей хотелось подчеркнуть, что в беде наиболее полноценные эмигранты призваны помогать друг другу без оглядки на дешёвые дары.
Поскольку индусы пили один только чай, всю бутылку – пока разыгрывали перед гостями роли супругов – выдули мы с Любой, и в алкогольном чаду перевоплощения ночь у нас, как мы оба и предчувствовали, вышла не просто супружеской, а именно новобрачной. Расписанной арабской вязью и индийскими красками.
Люба удрала на работу раньше, чем я проснулся.
Перед рассветом мне приснился горящий жираф, который вёл себя более экстравагантно, чем на картине Дали. Он, во-первых, лежал голышом, без покрывала, в двуспальной кровати среди продрогшего Квинса и – хотя пылал тем же ослепительно-оранжевым огнём геенны – притворялся, будто не в силах пробудиться. Во-вторых же, горящий жираф не позволил себе стонать от боли или морщиться от запаха своего палёного мяса. Сознавая вдобавок, что возгорелся он от похмельного скопления гудящих спиртных паров и шипящего стыда за свершённый грех…
Пробудившись, но всё ещё не решаясь разомкнуть веки, я стал отбирать в голове лучшие оправдания своей выходке. После долгих колебаний остановился на очевидном: я – это не я, а Гена Краснер. Женатый на Любе. А потому оказавшийся в её кровати. На своей собственной, Гениной, территории.
Непогрешимость этого довода придала мне силы подняться и направиться в ванную.
До горячего душа, однако, дело не дошло. Стоило мне невзначай вспомнить ночные сцены, особенно последнюю, как плоть моя вспыхнула вихрастым пламенем стыда. Никто и никогда в моём благонравном племени не решался вести себя так похабно, как вёл себя я с собственной же женой! С родительницей моего же потомства!
Задыхаясь в огне, я жадно отвернул синий кран – и в тот же миг из моей груди вырвался не мой, удивительно пронзительный, крик: вся моя пылавшая плоть зашипела вдруг под ледяной струёй и скрючилась от несносной боли.
На крик ворвалась Ирина, отдёрнула и без того прозрачную ширму, оглядела меня с головы до пят, улыбнулась и спросила распевным тоном:
– А вы тут давно-о?
– Это… Принимаю душ, – пролепетал я и прикрыл себе пах, вздёрнув к животу сразу оба колена и плюхнувшись задом в пустую ванну.
– Ду-уш? – протянула Ирина, продолжая улыбаться. – Без воды-и-и? – и подумав, добавила: – Без воды-и-и не бывает ду-уша!
Я тоже вспомнил, что без воды не может быть душа. Вода из крана не бежала – и я был сух…
– Я уйду-у, а вы-и поднимитесь и приди-ите в себя-а-а! – предложила Ирина.
Пришёл я в себя не скоро. Не раньше, чем вернулся к дожидавшейся меня рукописи об истории благомудрия. Предстояло отредактировать главу о «замечательном назарянине». Перечитал её и вычеркнул не мои слова: «Если Иисус Христос жаждет погибнуть за наши грехи, стоит ли расстраивать его их несвершением?»
Потом вспомнил ощупывавший меня в ванной надменный взгляд Ирины. Весь день она смотрела на меня теми же глазами – что, как выяснилось позже, предвещало неожиданное. Тогда, правда, мне казалось, будто, догадавшись о происшедшем между мной и родительницей, девушка мучилась в подборе слов для выражения негодования.
4. Из возбуждающего страха перед предстоящим
В концу дня позвонил Гена. Просил передать жене, что её подруга поругалась с канадским женихом, возвращается к коту, а ему, Гене, не ясно куда сейчас переть. Позвонила и моя жена: проведать как мне работается в трудных условиях. Я отвечал спокойно, но дотлевавший жираф реагировал иначе – воспламенялся и жертвенно дёргался. Я решил, что уйду домой сразу же, как только вернётся Люба.
Вышло иначе. До её возвращения в квартиру ввалились возбуждённые индусы со штофом вина и пряностями. Зять отвёл меня в сторону и поблагодарил за вчерашний рецепт. Потом, задыхаясь от гордости, описал мне ударную сцену из своей последней – и наконец победной – схватки с демоном половой неуверенности.
Как я и ждал, Люба вернулась позже, чем должна была. К разгару пира. Хотя пировали – правда, нервно – только мы с Ириной. Помимо очевидных причин, нервничали мы потому, что индусы не спешили уходить. Грызли лесные фисташки, гоготали по-индусски и дожидались прихода новых пациентов, которых завербовали для меня среди соседей.
Действительно, через час заявился нелегальный эмигрант. Мексиканец. Жаловаться стал не на иммиграционные власти, а на свои смешанные чувства к американской падчерице.
Потом пришёл северокореец, изнемогавший от ностальгии по Южной Корее.
Я прописал обоим то же самое – оптимизм. Квалифицировав его теперь как присутствие духа. Оба просили растолковать смысл этого выражения. Я объявил, будто стремиться надо не к тому, чтобы стать вдруг каким-нибудь совершенно другим человеком, а к тому, чтобы себя изменять.
Люба – от возбуждающего стыда за вчерашнее и из возбуждающего же страха перед предстоящим – доливала себе в стакан испанское вино из штофа. Разговаривать было не о чём: любое слово прозвучало бы глупо. Оставшись, наконец, без Ирины и гостей, мы, не сговариваясь, подались к многосерийному семейству на телеэкране и, избегая встречных взглядов, хохотали громче, чем закадровые фиктивные зрители, представляющие всенародный класс идиотов.
Потом, после того, как оба сделали вид, что на всю оставшуюся жизнь запоминаем каждый финальный титр, мы с Любой – опять же не перекинувшись словом – развернулись друг к другу и стали играть в карты, путая правила одной игры с предписаниями другой. Играли долго, пока в штофе не стало так же пустынно, как на улице за окном. Потом – опять же без слов – вышли в спальню.
В спальне произошло то же самое, что произошло накануне. После французского коньяка. С поправкой – существенной – на дешёвое вино.
5. Чтобы воскресенье было каждый день
Утром, у входа в ванную, меня поджидала Ирина. Сперва объявила, что её сердце принадлежит киноактёру Траволте, а потом вдруг предложила мне всё остальное. Не дожидаясь ответа, добавила, что не спала обе ночи и пригрозила разгласить мою с Любой тайну, если такая же не свяжет сейчас и нас с ней.
Растирая виски и захлёбываясь от смешанных чувств, о которых рассказывал мне мексиканец, я подавил в себе страх и пообещал ей, что стану «секретничать» с ней только завтра, когда Люба уйдёт в отель. Потом – благодаря окольным вопросам – выяснил, что она питала ко мне не презрение, а, напротив, уважение. Кстати, по неожиданной причине: ей вдруг стало известно, что я никогда ещё не ограничивал свободу собственной дочери, её ровесницы.
«Мои предки – форменные свиньи!» – призналась Ирина.
Неделю назад она, оказывается, познакомилась с бравым сальвадорцем, похожим на Траволту, но вверить ему себя не успела, ибо, пронюхав об этом намерении, Гена запер её в квартире.
«Он посадил меня под арест! – возмущалась Ирина. – А мне нельзя жить без свободы: я ведь молодая… Мне пока надо, чтобы воскресенье было каждый день, а не только в воскресенье: я ведь молодая… Мне жизнь нужна, чтоб она была только хорошая, а не хорошая и плохая одновременно! Я ведь молодая!»
Войдя, наконец, в ванную, защёлкнув за собою дверь и опустившись на унитаз, я задал себе давний вопрос: зачем это природе понадобилось усовершенствовать людей, то есть, например, меня, настолько, чтобы их, то есть, опять меня, тошнило от собственной же нечисти, нравственной и телесной? Зачем всё-таки самая грязная из дорог ведёт к самому себе?
Через пару минут, однако, стоя под душем, я с облегчением вспомнил давно же установленную мной истину, что, подобно большинству людей, я в целом – приличный человек. И что дорога, идущая ко мне, не обрывается, а проходит сквозь мою плоть и сознание и петляет дальше, к другим таким же людям, не лучше.
Вот, скажем, возникли на ней новые люди – ялтинские беженцы Краснеры. Не я – на их дороге, они – на моей. Из-за чего, спрашивается, мне должно быть совестно перед Геной? Всё очень прилично: я свалил за него английский, без чего он никогда бы не стал собой, акушером-гинекологом Краснером, а взамен он на несколько дней одолжил мне самого себя.
Или, скажем, Люба Краснер, жена. И здесь всё прилично. Кем я, доктор Краснер, ей прихожусь? Не законным ли мужем? И стоит ли суетиться: ах нет, никакой ты не Краснер, всё это – фарс, ты – это ты, то есть человек, который, дескать, временно притворился им, доктором Краснером. Что всё это значит, – «я», «не я»? Что такое, во-первых, «я»? Не такая же ли условность, как «не я» или «он»? И тоже ведь – условность не вечная! И разве всё сущее вокруг – не зыбкая проекция наших настроений и мыслей? Причём, – изменчивых!
Действительно, если подумать, мир полон вещей, которые мы отличаем друг от друга тем, что каждой даём условное имя. Достаточно забыть имена или пренебречь ими, достаточно перетасовать слова в голове – и мир мгновенно меняется!
Слова правят мирозданием и обозначения! Почему это, например, я не могу зваться – то есть быть – Геной Краснером? И, следовательно, спать с Любой? Не удивился же статный индус, когда узнал, что я – Краснер! Не удивились ведь и другие! Да и кто на свете не поверил бы, будь я с самого же начала не я, а доктор Краснер? Все поверили бы! Даже сам я!
Всё у меня и вправду не хуже, чем у приличных людей! Не хуже я, скажем, своей же жены Любы Краснер. Или возьмём ту же Ирину. Сердце её, положим, и принадлежит Траволте, но разве в этом возрасте остальное не достаётся именно странникам? А кто я ей, как не странник? Ведь мать её, Люба, – не жена ведь она мне! Не Гена же я, в конце концов, не доктор Краснер, не акушер! И потом – грозился не я, грозилась она! Причём, – серьёзно! Ясно, кстати, и то, что Ирина решилась на этот шаг из любви к свободе. То есть к бунту. А если есть бунтарь, – значит, есть и несносные условия. И бунтарское чувство, по моему разумению, грех не поддерживать в людях. Ибо, в конечном счёте, оно и обеспечивает поступательное движение истории!
Выйдя, наконец, на историю, я перекрыл кран, вздохнул и заглянул в зеркальце, свисавшее со вспотевшей душевой стойки.
– Вполне! – кивнул я себе и перестал терзать свою совесть.
Протерев зеркальце рукой и отодвинув его в сторону, осмотрел себя также и в профиль. Знакомый рисунок всколыхнул во мне знакомое же чувство, вовлекшее меня в состояние божественного легкодумия. Тотчас же вспомнилась облюбованная мысль: Мудрость змеи закабаляет нас, а легкодумие Бога освобождает…
Из ванной я вышел насвистывая задушевную мелодию из старого фильма:
Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой,
Крутится, вертится, – негде упасть,
А парень девушку хочет украсть…
6. Причащение к непредвиденному знанию
Остаток дня мы, Краснеры, провели вместе, втроём. Легче всех чувствовал себя я. Позвонил даже жене и настоял на том, чтобы она взяла у Любы рецепт пирожного по-ялтински. Причём, уговорил её немедленно – до моего возвращения – выпечь пробную партию. Люба вырвала у меня трубку и стала божиться ей, будто рецепт этот настолько прост, что пробной выпечки не требуется.
С Геной, однако, беседа у Любы не склеилась. Он звонил раньше, чем я жене, и пожаловался сперва на кота, который после возвращения хозяйки из Канады ходит за ним по пятам, урчит и – судя по виду – собирается выцарапать ему глаз. Потом Гена признался жене, что её подруга, то есть вернувшаяся из Канады хозяйка тоже очень злая. Правда, не на на Гену, а на канадского жениха, которого решила наказать, – и поэтому зазывает его, Гену, в постель. Если всем нам вместе не найти скорого выхода из этого фарса, объявил Гена, то он перестанет хозяйке сопротивляться.
«Не смей! – взвизгнула Люба. – Она диссидентка! И болела гонореей!»
«Почему же, твою мать, ты загнала меня сюда?!»– возмутился Гена.
«А потому, – всполошилась Люба, – что обо всём приходится заботиться мне! И потому ещё, что ты не знаешь языка, а образованным и участливым людям приходится просиживать тут вместо тебя только для того, чтобы сделать нам хорошо!»
«Не дразни! – пригрозил Гена. – На фиг мы сюда вообще свалили?»
«А ты сам это себе на свою задницу надумал! – снова взвизгнула Люба и извинилась передо мной за вульгарность слога. – Кто это сверлил мне там уши про счастье и свободу?!»
«Хватит! – бесился Гена. – Подумай лучше как всю эту херню закончить!»
Однако никто у нас, в счастливой семье Краснеров, заканчивать «эту херню» не собирался.
Прошла ещё неделя. В течение которой я не выходил из дому. Днём дописывал книгу о философии и утолял Иринину жажду к свободе, а вечером принимал пациентов, после чего – на какое-то время – возвращал к жизни угасшую Любину надежду на счастье, утопая вместе с ней – на то же время – в тягучих восточных мелодиях из Гениной фонотеки и в волшебных образах из арабских сказок. Образах, увлажнённых вязким массажным маслом, которое, рискуя работой, Люба тащила из номера люкс в отеле.
Жена моя из прежней – и, как казалось тогда, давней – жизни вела себя мирно, поскольку именно она и посвятила меня когда-то в терапевтические тайны оптимизма и присутствия духа.
С Геной было сложнее. Как-то вечером, когда мы, Краснеры, обедали с новыми пациентами и с нашими индусами, в квартиру, бешеный от водки и ревности, ввалился Гена с Любиной подругой, которую он представил гостям как диссидентку и жену. Вёл себя буйно, но Люба уверила всех, что я его вылечу: это, мол, только первый визит.
Я вывел Гену на кухню и напомнил, что до получения справки о сдаче английского экзамена ему благоразумнее держаться в рамках, то есть подальше от моего – точнее, своего – дома, а иначе не видать тебе, дескать, местной лицензии.
К изумлению гостей, Гена угомонился – вернулся к столу и стал молча пить водку, которую Любина подруга подливала ему в стакан так же настойчиво, как мне – Люба. При этом, под общий смех, диссидентка расспрашивала присутствовавших женщин, включая Любу, о любовных пристрастиях присутствовавших мужей, включая меня, – и, под собственный смех, рассказывала о Гениных. Когда водка в бутылке вышла, Гена вдруг грязно выругался в адрес всех штатов Америки и стукнул кулаком по пустой тарелке. Тарелка разлетелась на осколки, а из кулака хлынула кровь. Протянув салфетку, я велел Гене покинуть помещение. Он расплакался и удалился, но в эту ночь никому в семье Краснеров не спалось.
Утром я уехал на весь день в издательство, а по дороге домой решил обговорить с Любой и Ириной варианты благопристойного выхода из «этой херни»: каждому из нас настало, мол, время отступить в свою жизнь…
Войдя в подъезд, я стискивал голову в ладонях, не позволяя уму отвлечься в сторону от отшлифованных фраз прощального монолога. Хотя я понимал, что выходить из сложившейся ситуации – как, впрочем, из любой иной – следует в шутливой манере, практикуемой людьми с целью дезинфекции нелестных истин, меня одолевала непостижимая грусть прощания с блудным существованием, прощания блудного самца с блудными самками, от которых его отрывают именно тогда, когда неистовство плоти становится условием причащения к непредвиденному знанию о человеке. Грусть эта казалась мне тем более глубокой, чем лучше сознавал я, что прощаться предстояло прежде всего с самим собой: очередное отступление в жизнь означало возвращение в мир, оскорбляющий именно своею реальностью.
Выйдя из лифта и подступив уже к двери с табличкой «Геннадий Краснер», я поэтому так и не знал – что же именно придётся сказать на прощание чужой женщине по имени Люба и её дочери по имени Ирина. Быть может, изреку что-нибудь столь же печальное, сколь печальным я себе раньше казался. В исступлении страсти, скажу, больше справедливости, чем в правилах жизни; ведь живём же все мы, люди, по этим правилам – и вот нам, увы, не живётся; каждый ведь день пробуем, но нет, не живётся…
Или, наоборот, скажу что-нибудь лёгкое, как лёгким – легче, чем мир – я себе казался сейчас. У нас была любовь, скажу я, и именно любовь, ибо любовь, как заметил весёлый поэт, – это не тоскливый стон скрипок, а визг матрасных пружин. Или скажу что-нибудь такое, что будет непонятно мне самому, а потому позволит не только объяснить происшедшее, но и сохранить к нему интерес. Например, – что: единственный способ выявить пределы возможного – это выйти из него в область невозможного.
А может быть, подумал я, ничего говорить и не надо, потому что любые слова, а не только эти – всегда не твои, а чужие слова. Чужие, ни чьи переживания и чужие же, ни чьи догадки. Может быть, я так ничего им и не скажу – заберу свою синюю тетрадь и книги, посмотрю на них такими глазами, когда ни о чём не думаешь, и удалюсь. Так же просто и молча, как просто и молча все мы втроём лгали – не унижаясь до лжи, но всего лишь нагнетая в себе самое изысканное из наслаждений: открытость самообману. Но доступна ли мне эта роскошь молчания? Доступна ли она кому-нибудь? Или это так же недоступно, как никому было недоступно не родиться? Я запутался и, как всегда в таких случаях, почувствовал, что, если не перестану думать, – станет хуже.
Тряхнув головой и выбросив из неё, как из мусорного совка, все скопившиеся в ней слова, я вздохнул и ткнул пальцем в кнопку дверного звонка. Звук оказался самым неподходящим: соловьиной трелью.
Дверь тем не менее не отпирали. Я навалился на кнопку теперь уже кулаком. Соловей стал захлёбываться, закивнув голову вверх и мотая ею в наивной надежде, что я позволю ему вздохнуть. Наоборот: я не отнимал кулака от его горла и наращивал давление на кнопку. Через несколько минут звонок сгорел – и стало тихо. Как на фотографии. Теперь уже прислушиваться было не к чему – и в заново охватившей меня панике мне вдруг стало ясно, что Любу с Ириной увидеть сейчас не придётся.
Эта мысль меня обескуражила. Содержание её показалось мне очень несправедливой. На какое-то время моё сознание прилипло к чернильному пятну на двери, но, вскинувшись наконец, я вдруг в бесконтрольном отчаянии принялся выбивать дверь плечом…
Наконец, из-за лестничного пролёта выступил полуголый индус, показавшийся мне теперь менее статным. То ли жалея меня, то ли переживая из-за отсутствия на нём чесучового кителя, а то ли по волнуясь по какой-нибудь возвышенной причине, он осторожно подошёл ко мне и почему-то отвёл меня в сторону. Появился и зять. Опустил руку на моё натруженное плечо и сочувственно качнул головой.
Потом индус сказал мне, что мою семью вместе с посудой и книгами по медицине умыкнул вчерашний пациент с порезанным кулаком. Зять добавил, что вызвал полицию, но она опоздала, ругнулась в адрес всех беженцев и не составила акта. Оба высказали предположение, что у вчерашнего пациента много денег, но что хотя их у меня пока нету, – справедливость восторжествует.
Я, видимо, смотрел на них осоловелым взглядом – и оба посчитали необходимым добавить, что справедливость восторжествует только потому, что мы живём в Америке. Я, кстати, до сих пор горжусь тем, что ответил на это свершением настоящего подвига: не удавил на месте ни одного из индусов, а просто развернулся и ушёл.
С того самого дня никого из Краснеров я не видел, хотя, к моему неизменному удивлению, тосковал по ним часто.
Люба в отель больше не заявлялась. Впрочем, если бы она и не бросила работу, увидеться там с моей женой ей не пришлось бы. Возвратившись к жене, я настоял на том, чтобы и она, в свою очередь, возвратилась к античной филологии. Объяснил это требование ссылкой на предчувствие, будто в этой области начинается бум. Жена с радостью согласилась уйти из отеля, но попросила мотивировать мой неожиданный прогноз. Я сослался на новость дня: в Алабаме какой-то финалист конкурса всезнаек застрелил победителя за то, что – в отличие от него – тому было известно имя Гомера.
Восемь лет спустя я прочёл в русской газете, что поздравляем, дескать, всех российских эмигрантов: акушер-гинеколог Краснер стал ассистентом профессора на кафедре общей психиатрии в Балтиморском Мемориальном госпитале. Вдобавок – пишет книгу «на любопытнейшую тему: терапевтические возможности перевоплощения».