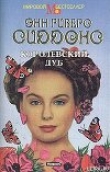Текст книги "Без заката"
Автор книги: Нина Берберова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
X
Вера опомнилась. Перед ней был пустой камин, куда она смотрела, как в жестоком романе, сидя на стуле посреди этой гостиной, где когда-то проживал французский вельможа XVIII века. На черном экране камина была опущена лента этого детства, о котором так-таки некому было рассказать. Слезы высохли у нее на лице и оно слегка одеревенело.
– Наконец-то! – воскликнула Людмила, когда Вера вошла на кухню. – Куда это вы ходили? Тут без вас уж и слезы были, и крики, и капризы.
Ее быстрые, острые глаза обежали Верино лицо. И Вера в ответ будто в первый раз, внимательно посмотрела на нее.
Усталое, хмурое лицо, черные глаза. Расплакавшийся раз навсегда рот. Этой худой смуглой женщине давно – всегда – сорок лет. «Что же делать! – подумала Вера. – Может быть, где-нибудь раньше она бы сошла за красавицу, не ее вина, что в Париже, в двадцатых годах вышли из моды такие лица; усики, сросшиеся брови, жгучий взгляд, нос с горбинкой. Теперь в моде курносые, большеротые, круглолицые. Что делать…» – Удивительно, как совершенно ни во что теперь ценится женский плач – не дороже китового уса или страусового пера. Этот товар просто никому не нужен, – сказала сама Людмила однажды.
– Откуда вы это взяли? – спросил тогда задумчиво Александр Альбертович. – Какие глупости!
Но Людмила твердо стояла на своем. Года три тому назад ее бросил муж, прожив с ней восемнадцать лет. Мужа ее, когда о нем заходил разговор, всегда почему-то жалели.
– Куда это вы ходили? – спросила она опять. – Мне иногда кажется, что вы так уходите неизвестно куда, что вы и не вернетесь больше.
Вера улыбнулась широкой улыбкой.
– Если я не вернусь, то вы непременно – и очень скоро выйдете замуж за Александра Альбертовича. Только я вернусь.
Людмила засверкала глазами.
– Как вам не стыдно! Как вам не стыдно так меня пугать. Я вас с полицией верну.
– Да я же говорю, что уходить никуда не собираюсь, – опять улыбнулась Вера. – Мне и здесь хорошо.
– Это неправда.
Вера присела у двери.
– У меня умер друг детства, – сказала она, опустив глаза. – Он покончил с собой.
Людмила молчала.
– Я его с Петербурга не видела, мы были очень дружны. Он вспомнил обо мне.
Молчание. «Надо поскорее, а то она не успеет».
– Он скрипач, он приехал в Париж из Америки.
– Вера! – крикнул Александр Альбертович из спальни.
– Он повесился? – спросила Людмила жадно.
– Нет, он застрелился.
– Вера, – снова крикнул Александр Альбертович и она вскочила. – Что же ты не идешь? Да где же ты? Где была? С кем? Гуляла? А мне ничего не сказала. Бросила… А я проснулся, тебя нет, двенадцатый час. Людмила говорит: не знаю. Я кашлял сильно. Вот, – и он протянул Вере фаянсовый тазик с мокротой.
Она посмотрела на тазик, на него.
– Пожалуйста, не волнуйтесь, дорогой, милый, – и она, взяв его за плечи, заставила лечь обратно в постель. – Ничего не случилось. – Нет, она все еще не может молчать. – Случилось одно горе, не пугайтесь, не у вас, у меня. Помните, я вам когда-то говорила про Адлера.
– Ну хорошо, вот про Адлера. Расскажешь мне сейчас. А я совсем болен. Я кашлял. И я разбил градусник, я уронил его.
Она послала Людмилу за градусником в аптеку, помогла ему умыться, оправила постель. И принесла из кухни бульон и овсянку. Фаянсовый тазик она вынесла сама. – Людмиле он не позволял приближаться.
Ему было тридцать лет. Глаза его были огромны и совершенно лишены жизни – будто глаза слепого от рождения; невозможно было поверить, что он смотрит ими. Было похоже, что он ими слушает. На тонком длинном лице они были как два светлых пятна, и в их громадности и прозрачности было что-то вместе, и женственное, и мертвое. Он был худ, как призрак и красив, как те больные и, вероятно, безумные дети короля Эдуарда, которые изображены в кружевах и бархате на известной картине Деляроша. После бульона и овсянки он закашлялся и выплюнул кровь. Вера тепло укрыла его и отворила окно.
– Мои ножки, – пробормотал он, задремывая. Она принесла ему грелку.
И тогда потекли часы – часы ее жизни. Их было много, этих часов. Наведя глянец на кухонный кран, уходила Людмила. На дворе был май, был декабрь, – но Вера ведь все любила, так раз навсегда ей вздумалось отнестись к жизни. И не все ли равно, какая на дворе погода, и кто здесь, рядом с ней, и что ждет ее за срывом вон того глубоко сидящего календарного листика, когда она любила все, любила всех.
– «Ты все понимаешь». – «Ты всем нравишься». – «Ты всегда всем довольна», – говорили ей. Но продолжим, продолжим (просыпаясь ночью твердила она в страхе), продолжим еще эту преступную, эту железную любовь к жизни, другого ведь ничего у нас нет, одна она не уйдет, не изменит, умрет с нами вместе… И мертвою зыбью качалось за окнами этого дома время.
«А за окном цветочного магазина цветы обещали такую огромную, такую счастливую жизнь…»
Откуда это?
Это она сама сочинила в тот день, когда стояла над Саминым телом. Это было год тому назад, нет больше. Помнится, Полина приехала (одна – без мужа, без детей), помнится, они вместе ходили подготавливать мадам Адлер в больницу для нервно больных; на похоронах было так мало народу. Это было, кажется, весной. Не той, предыдущей. А сейчас – декабрь.
Это было полтора года тому назад.
Людмила полощет белье, Александр Альбертович смотрит огромными, полными слез глазами; Вера стоит посреди комнаты с фаянсовым тазиком в руках.
XI
Вера старалась вспомнить, когда именно к ней пришло впервые желание его смерти? Она припоминала свою жизнь с Александром Альбертовичем – три года. Она пытала свою память. Прошлый год: все было то же, и это желание в ней уже было; позапрошлый – когда он еще иногда вставал, иногда ходил; и год до этого – год Давоса, которого он не выдержал, не захотел, из которого бежал. Это, вероятно, было между первым и вторым его плевритом – через месяц после приезда из России; она тогда почувствовала, что хочет, чтобы он умер. Нет, это, может быть, было еще раньше, еще до отъезда, когда он был здоров. Она рыщет по последним петербургским месяцам. Он никогда не был здоров. И тут ей вспоминается венчание с ним в церкви, и она перестает вспоминать, думать, ворошить свою жизнь.
Он теперь дремлет весь день, и ему уже мало что надо. Доктор приходит все реже. Людмила требует, чтобы Вера взяла себе в помощь сиделку. Но посторонние люди Вере мешают.
– Единственно, кого я сейчас терплю, это вас, – отвечает она Людмиле, и то только потому, что вы вовремя уходите.
– Неужели вам не страшно? – спрашивает та, еще потемневшая, еще заострившаяся за эти годы. – Я все жду, когда вам станет страшно, тогда я перевезу свои вещи и перееду.
– Пока не надо, – отвечает Вера и смотрит в окно: оно раскрыто настежь – днем и ночью. На дворе… полагается быть зиме. Но зимы нет.
– Ложная весна, – говорит доктор, – как бывает ложная грудная жаба. В декабре месяце очень удивительно. Для туберкулезных – зарез.
Теплый дождь журчит днем и ночью по водосточным трубам, веет мягкий, тяжелый, сонный ветер; светает в десять часов утра, а в два уже горит в домах свет. Говорят, где-то на бульваре распускаются каштаны. Иногда ночью гремит и грохочет по крышам настоящая весенняя буря, ударяясь в прохожего сорванной вывеской, звенит разбитыми стеклами, рвет каменную трубу. К утру стихает. Облака лежат над городом; Сена, вздувшись, медленно уносит с набережной кирпич, песок, сторожевую будку.
С недавних пор Вера каждый день начала выходить к Сене и гулять по набережным: так велел доктор.
– Я понимаю, я все понимаю: героизм, любовь, жертва. Но час в день моциона – очень нужен. Вполне необходим для молодой женщины. Вы – молодая женщина.
«Я – молодая женщина, – повторила она про себя. – Черт знает, как это глупо звучит! Что за дурак!»
Но однажды она послушалась и вышла, просто так, ни за чем, вышла перед завтраком, в дождевике и толстых башмаках. Она ходила полтора часа, перешла на другой берег, зашла в Тюильри, и так было непривычно двигаться, дышать сладким, нежным воздухом, что вернулась она домой, словно выпив чего-то крепкого, и глаза у нее блестели, и горело лицо. Полтора часа! Александр Альбертович до вечера не говорил с ней, и только вечером сказал, что простил и забыл. И пусть она завтра опять выйдет.
Теперь у нее было две жизни. Первая была все та же, все тут же, с Людмилой, доктором и им, которого поздно было куда бы то ни было везти, которого незачем было уже лечить, который становился призрачно страшен в сумерках (а теперь всегда были сумерки) – два глаза смотрели из глубины комнаты на нее, на шприц с камфарой. Лечили не самую болезнь, а какие-то связанные с ней боли: пролежни, спазмы, кровотечения. И не стыдно было бы признаться первому встречному, что она хочет и ждет его смерти. Но когда началось это, когда? Неужели она не уследила? Это вкралось в ее жизнь, как вкрался сам Александр Альбертович: она не заметила его, это он заметил ее… «О тебе спрашивал один человек, – объявила однажды Шурка Венцова (это было так давно), – о тебе спрашивал – видела, тот, высокий, худенький. Он один, кажется, не был тогда пьян».
И Вера, помертвев, теряясь, чувствуя от волнения тошнотную слабость, спросила:
– И ты сказала ему, как меня зовут?..
Вторая жизнь начиналась за воротами дома. Мелочная лавка. Апельсины, яблоки. Тихий дождь, мокрый тротуар, и вдруг – лужа, в которой так отчетливо и спокойно отразилось что-нибудь яркое; воздух, движущийся на нее, упорный механизм собственного тела, ощущение жизни – необходимое, без которого она не может существовать, теряет себя, гибнет, ощущение: «я и ветер», «я и небо», «я и город» – дающее, не счастье, не о счастье теперь речь, а отдых, передышку. Она шла, ни о чем не думая, на обратном пути она начинала спешить и к концу уставала. Не раздеваясь, входила она в спальню и останавливалась в дверях. Ничего не случилось, он был по-прежнему здесь и думал, закрыв глаза, и это было лучше.
Только ей он позволял поднимать себя, убирать за собой.
– Я надоел ей, – шепнул он однажды, показывая на Людмилу, проходившую по комнате шумнее, чем следовало. – Она хочет, чтобы скорее умер.
Он теперь говорил шепотом, голоса у него не было. И однажды, когда они были вдвоем и текли, текли эти вечерние часы, и она шила, отрываясь ежеминутно, чтобы взглянуть на него или сказать ему что-нибудь, он медленно и тихо произнес:
– Давай вместе.
Она посмотрела на него, положив работу, и он добавил:
– И скорей.
Она подумала, что из всего того, что он ей говорил, это все-таки еще не самое страшное и что ее испугать не так-то легко.
– Ты останешься здесь… У тебя будет такая длинная, длинная, жизнь…
Он опять подождал. Она молчала.
– Ты не хочешь со мной?
Она положила руку ему на худую грудь, наперсток блестел у нее на пальце. Она молчала, не сводя глаз с его лица.
– Не хочешь! – прошептал он и опустил веки.
Она закрыла обеими руками лицо. Она просидела так некоторое время. Когда она взглянула на него, он спал. Сон его был теперь так тонок, что при нем нельзя было даже глубоко вздохнуть. И то, что нельзя было глотнуть воздуха в эту минуту, показалось ей особенно мучительным.
«Если бы в эту ночь!» – подумала она. Но в ту ночь он требовал показать ему коробку камфарных ампул. Зрение его так ослабело, что прочесть, что было написано на них, он не мог, но он долго разглядывал их, сжимая в руках коробку, пока его лицо не исказилось от плача.
– Милый, дорогой, – сказала она, – не надо плакать. Слава богу, сегодня ничего не болело и жар был совсем маленький, и завтра я не уйду никуда.
И она воткнула шприц в его сухую, всю исколотую ногу.
Теперь она уже не уходила к себе на ночь. На низком, узком, двухсотлетнем, как все здесь, диване, она ложилась, научившись во сне слышать все, что делается в комнате. Из окна шла влажная свежесть; в пролете двух домов иногда мелькала звезда. Когда в первый раз пришло к ней желание освобождения? Давно, давно. Оно пришло с тоской, с яростью. Может быть это было еще до свадьбы…
– Да, я вижу, была у вас ноченька! – сказала утром Людмила. – Замучил совсем?
– Нет, не совсем.
– Послушайте, хотите облегчить и ему и себе? Ведь все равно.
– Нет, не хочу.
– Вы сами знаете, что нужно сделать.
– Знаю, но не сделаю.
– Хорошенькую вы жизнь видели. Веселенькая молодость! Если бы не вы, он бы еще в прошлом году успокоился. Зачем это вам?
Вера не ответила. Она вдруг вспомнила: это началось в ту минуту, когда она впервые увидела Александра Альбертовича. Шурка распахнула перед ней дверь маленького венцовского «зальца».
– Вот. Знакомьтесь, граждане.
И Вера увидела на стуле, подле клетки с канарейкой, на фоне остатков когда-то могучего фикуса, не того, кого ожидала увидеть.
XII
Удивительны были это одиночество, эта тишина, которые настали после разлуки с Самом. Затих Петербург: не ходили трамваи, прорастала трава в щелях гранита, не звонили в церквах, молчали заводские гудки; затих мир, из которого сюда не доносилось ни одного звука: ни о землетрясении на Филиппинах, ни об изобретении американского ученого, ни о заключении мира союзников с немцами. Затихла Вера, потому что не с кем было спорить, смеяться, шептаться, некого было ждать, не к кому было бежать и некого было любить. Гимназия была позади, Сама не было, Шлейфер оказалась в чека – не сидела, а служила; отец Шурки Венцовой, священник, был выслан в Ладогу, и Шурка ездила к нему и пропадала неделями. От этих первых двух лет юности не осталось в памяти ничего, кроме волчьей, пещерной, жизни: волчьей несытости, печки, очередей, каши, которую ставили на ночь в теплый духовой шкаф, а утром съедали, писка чужих детей вселенных в дедушкину комнату – с отцом, путиловским рабочим, и матерью, белобрысой бабой, так и не научившейся пользоваться уборной.
Настю отпустили, и она, уезжая и собирая пожитки, плакала и говорила, что столько слез ни по ком никогда еще не проливала. Она оставила Вере своей платок, тот, который укрывал ее с головы до колен и в котором она бегала через улицу в лавочку и к Адлерам. И Вера всю зиму носила его, надевая поверх старую, тесную шубу. А шляпы в доме не осталось ни одной, их все обменяли своевременно на крупу.
Обменяли ковер, обменяли лисью ротонду, обменяли блюда и швейную машинку, и в неомраченном, в молодом и веселом лице матери появилось выражение усталости и грусти. Отец не подавал виду: он левел, старался найти всему объяснение, оправдание. Мать верила ему на слово, но Вера видела: она делает усилие, она не просто старается. Над нежным виском появился у нее седой волос; он вился и сверкал, и Вера безжалостно вырвала его. Потом их сделалось много и они даже стали идти таким печальным материнским глазам.
Были книги, были театры – и Вера несколько раз, по какой-то необъяснимой случайности, сидела в царской ложе в Александринке, где бархат с барьера был сорван и почему-то среди красных кресел стоял простой железный стул. Были семечки, семечки и шинели; тьма зимой и белые ночи летом – особенно почему-то в том году долгие и светлые. Сперва – каток в столовой, сталактитами замерзшая вода в ванной, хлынувшая из лопнувшей трубы; потом – совсем особенный, рушащийся, умирающий город, все красоты и медленную смерть которого Вера готова была отдать за банку сгущенного молока, пробитую гвоздем, из которой можно было высосать жирную жидкость, за кусок жесткого сала, за пыль какао, щекочущую горло, которую она глотает ложками, когда отец приносит из института паек на спине. Но главное – одиночество, вот что тогда было: не к кому пойти, некого ждать, некого любить. Затихает мир вокруг, затихает город. Но Вера не хочет затихать, она хочет буйствовать. Ей двадцать лет; сбывается ее мечта – она становится похожа на мать, она становится все лучше. Начинается какое-то таинственное цветение: она может петь; недавно она нарисовала тот пейзаж, что виден, если высунуться из окна (решетка сада, знаменитый особняк, взятый под хлебный распределитель, дерево); она умеет танцевать, и, однажды, она сочинила стихотворение. Но важнее всего то, что она ничего не боится.
Любить некого, но тайное буйство обуревает ее все сильнее, ей кажется, что еще немного и – как в рассказе Гаршина – растение пробьет стеклянную крышу и посыплются стекла. Пусть вокруг нее посыплются стекла! Очень это будет хорошо. Великолепно. Замечательно. Но только, пожалуйста, не надо замуж. Не надо приличного господина, представленного ей в знакомом доме, не надо родительского согласия. Не надо признания и первого поцелуя… Ей хочется чего-то совсем на все это непохожего; она еще сама не выдумала, чего именно.
И вот, из ничего, из пустоты и тишины замерзшей вокруг жизни появляется однажды Шурка Венцова с чуть-чуть свеклой тронутыми губами, с челкой, в высоких, ярко-рыжих шнурованных ботинках на босу ногу. Соскучилась. Пришла. Пришла узнать, во что превратилась любимая моя дурища, не засидели ли ее мухи?
Высоко заложив ногу за ногу, отставив руку с папироской, дыша французскими духами, она рассказывала о себе. У нее изменилась улыбка, на улыбку ее весело смотреть. У нее стала красивая шея, она открывает ее, открывает кусок рубашки, начало груди. Голос у нее задорный, рот влажный. От нее не хочется отводить глаз.
– Политикой я не занимаюсь, – говорила она, – жизнь у меня – кинематограф! Написала роман: пожилая женщина, актриса, влюбляется в одного молодого доктора. Она чувствует, что не имеет права, но… минута страсти, и она берет его, как вещь. Потом выясняется, что доктор – ее сын. Они кончают с собой… Я встретила Шлейфер и рассказала ей (она, между прочим, слепнет). Шлейфер сказала, что рабочим и крестьянам это не нужно. Как будто все – рабочие и крестьяне! Есть еще мы на свете.
Вера, приоткрыв рот, кивает головой.
– Оказывается, еще в гимназии у нее началась катаракта, – сыплет Шурка, – теперь – каюк: зачем в чеку пошла? Есть бог! Спросила меня: а что твой отец, он ведь был служителем культа…
– Зачем же выясняется, что доктор – ее сын? – спрашивает Вера с опозданием. – Пусть лучше он бросит ее, как вещь, – а она покончит одна.
Шурка думает, сощурясь.
– Может быть, я соображу. У меня теперь времени нет: у меня – сильное чувство.
И она, перебравшись на кровать, рядом с Верой, начинает длинный рассказ, подробный, как если бы она рассказывала кинематографический сценарий: «Слева он стоял, я немножко позади, а между нами лампа. Он обернулся и сказал: нет, не так: он сперва улыбнулся, и я подумала, что он думает, то я думаю, что он думает… Оказывается: ничего подобного!»
И так далее, – о каких-то чувствах, словах, поцелуях, об опыте настоящего Шуркина романа, об одном жутком вечере, когда ее спасла очень узкая – дудочкой – юбка, и о другом, уже менее жутком, когда ничего не спасло.
Шурка сморкается, размякает и, обняв Веру, стихает.
– У тебя страшно сильно бьется сердце, – вдруг говорит она, – даже смешно. Всегда так?
– Наверное всегда… Ты его любишь?
– Ну конечно.
– А он тебя?
– Ясно.
– Какое счастье!
– Кинематограф! – и Шурка пожимает плечами. – Нет, просто удивительно, до чего у тебя сердце шумное. Как железная дорога.
XIII
В попову квартиру ходили – вот уже несколько месяцев – по черной лестнице. Дверь в кухню была приоткрыта, из нее рвался липкий, сладкий пар: запах кипящего глинтвейна. Попова родственница стояла посреди кухни, красная, с каплей под носом; она готова была ринутся, если понадобиться, в любую сторону, а пока обводила глазами стол с нарезанными для бутербродов ржаными ломтями, плиту, на которой пыхтел медный чан с вином. На окне стояла четверть самогона, Шуркин брат, Геня Венцов, когда-то ученик восьмиклассного коммерческого, а теперь молодой человек неопределенных занятий, прилаживал к четверти пробочник; его приятель и друг, Матренинский, все время облизывая пальцы и виляя задом, потому что боялся испачкаться, стриг кусками селедку и воблу для бутербродов. Тут же лежала длинная, жесткая, лилового цвета колбаса.
Задолго до этого дня, Геня Венцов решил устроить пир по случаю встречи Нового года. Он и Матренинский достали все, начиная с дров для плиты, с дрожжей для хлеба. Еще накануне поставили они сообща тесто, а нынче с утра протопили в комнатах: Шурка и Геня жили в столовой и зальце, остальные комнаты по коридору были отданы жильцам, впущенным своевременно. Вызвали родственницу из Обухова. «Только, тетенька, просим вам ничему не удивляться и впечатления оставить при себе», – заявил ей Геня и поцеловал ей толстенькие ручки. «Вы, тетенька, наверное, слегка устарели, но по хозяйству очень вас просим». Она сделала обиженное лицо, да так с ним и осталась. Были приглашены: Вера, две новые Шуркины подруги, Матренинский, все три жильца и какой-то господин с женой, жившие по соседству. В столовой был накрыт стол – скатертью, приборами, остатками серебра; в зальце – наставлен граммофон и мебель сдвинута в угол. Шурка, в пышном платье, извлеченном из сундука, в каком-то маскарадном монисте и почему-то лиловых чулках, встречала гостей и сажала их в угол зальца. По стенам висели портреты архиереев.
Когда Вера вошла на кухню, тетенька как раз уносила в столовую глубокую миску с винегретом, и в кухне находился один Матренинский. Он представился, ополоснул пальцы, снял с Веры шубу и унес в коридор.
– Глинтвейн, – сказал он возвращаясь и приподнял крышку кастрюли. – Согревательное! – и он многозначительно посмотрел на Веру.
К этому вечеру, к первому своему балу – как говорил отец – она сделала себе платье из куска синего шевиота, лежавшего уже много лет у нее в комоде, пришив к вороту падавшее до плеч старое, тонкое и дырявое кружево. Ей казалось, что платье и впрямь вышло бальным. Обуви у нее не было, она пришла в валенках, но Геня был предупрежден, и увидев Веру, сейчас же вынес ей Шуркины старые остроносые туфли, которые оказались Вере в самую пору. Здесь же в кухне, Геня заставил ее чокнуться и с ним и с Матренинским. Оба переглянулись и извлекли из-за окна какую-то заповедную косушку. Ей дали кусок колбасы на корочке. Она глотнула и устояла, не дрогнув. «А на ты со мной?» – спросил Геня, который, видимо, успел со всеми гостями хватить по рюмке. «Отпустите меня», – сказала Вера, заметив, что Матренинский выбежал, а тетенька все не возвращается. Но Геня уже продел свою руку под ее локоть, и тогда она сделала второй глоток и поставила пустой стакан куда-то вверх донышком. Дверь в комнаты приняла ее, словно открытый люк.
В зальце ревел граммофон. В его оловянной трубе отражались: платье Шурки, лицо Матренинского, головы и ноги гостей, которых Вере показалось очень много. Ее сейчас же пригласили танцевать. Кавалер попался чуть ниже ростом и очень молчаливый. Потом она пошла с другим, потом с кем-то третьим, который показался уже знакомым.
– Мы ведь уже танцевали сегодня с вами? – спросила она, облетая в вальсе зальце.
Но он молчал. И вместе с тем он держал ее не совсем так, как раньше ее держали другие: она чувствовала на себе его руку, и в этой руке был покой. Было что-то, что мешало ей запомнить черты его лица, отличить его от других, и даже по голосу она не знала его, потому что не слышала его голоса. Впрочем, ей почему-то сразу показалось, что он не очень молод. Когда он отошел, ей бросилась в глаза его начинающаяся лысина и – несмотря на это, или именно поэтому – какой-то аккуратный и приятный ей затылок. «Вот он, мой!» – шепнула ей Шурка, показывая глазами на Матренинского, и Вера почти не удивилась. Она чуть не спросила: а кто это? Но удержалась.
Ужин был готов. Гости повалили в столовую; кавалеры ухаживали за барышнями обмахивая стулья носовыми платками, говорили громко, что уже вспотели, наваливали себе и дамам на тарелки винегрет. Гостей оказалось гораздо больше, чем Шурка предполагала: Геня позвал каких-то полувоенных господ, один из них привел очень миленькую, но довольно пьяненькую девочку лет четырнадцати. Господин, пришедший с женой, оказывается, принес с собой гитару. Самогон был разлит по рюмкам, все схватились за бутерброды. Матренинский ударил в медный таз из-под варенья. «А-а-а», – заревело несколько голосов. Новый год был встречен.
«Это уже было когда-то», – метнулось у Веры в мыслях. – Вероятно, во сне. Да и не было времени сейчас вспоминать. Хорошо, что была одна среди этих чужих и уже пьяных людей, была взрослой, была храброй… Хорошо. За самогоном ей налили глинтвейна. Справа от нее сидел коммунист, приведший девочку, слева – она разглядела его, наконец! Ему на вид было за сорок, лицо у него было обветрено, нижняя челюсть выдавалась вперед.
Странно было, что он почти не взглядывал на нее, но она знала, что он все время ее видит. За столом было тесно и она касалась иногда плечом его плеча, – но ведь она твердо решила раз навсегда ничего не бояться. За столом было шумно и чтобы заговорить, надо было еще приблизиться, но он не заговаривал и не приближался. Один раз он взял ее пальцы и заставил обхватить стакан и выпить, и тогда посмотрел на нее и даже не в глаза ей, а прямо в рот, и улыбнулся, и обвел – все молча – глазами сидящих за столом, но никто не обратил на него внимания, и Вера тогда заметила, что, собственно, вокруг совершенно никто о них не помнит: Шурки и Матренинского уже нет, все пьяны, тренькает гитара, на конце стола сидит кто-то один, подозрительно-трезвый, и смотрит в струны; пьяную девочку уговаривают не показывать грудь. Дымится прожженная скатерть.
«А любить то все-таки некого, – подумал Вера и встала, и он тоже встал, – разве что его?» – она прошла в зальце и в голове у нее началось какое-то прояснение.
Там в углу сидели две Шуркины подруги с двумя кавалерами и целовались Время от времени Геня бегал куда-то за дверь и тушил свет, тогда начинались прерывистые визги.
Молчаливый человек вдруг спросил:
– Вы не знаете, где тут можно посидеть, поговорить? Вера не оглянулась на него.
– Вы умеете говорить?
Он засмеялся.
Вера знала, куда идти: были комнаты по коридору, одна из которых была когда-то Шуркина. В коридоре им навстречу шарахнулась тетенька.
– Вот сюда, – сказала Вера, открывая какую-то дверь и повертывая выключатель.
Но свет не зажегся. Они постояли в дверях, пока глаза не привыкли к тьме и не различили длинную, низкую оттоманку, слева у стены.
– Побудем здесь, – сказала Вера, – здесь не так жарко. Она подошла к оттоманке и вдруг легла, вытянувшись во весь рост и закинув руки за голову. Он подошел к окну и поднял до половины штору, стало светлее от луны.
– Скажите что-нибудь, – попросила она. Но он все молчал. – Где вы? Вы здесь?
– Да, я здесь.
– Почему вы все молчите?
Он подошел к изголовью оттоманки, заслонив Вере окно.
– Вам ничего не хочется? – спросил он.
– Хочется жить, тратиться. Это дурно?
– Нет.
– Это смешно?
– Немножко. Впрочем, это естественно.
Она закинула голову и посмотрела ему в лицо.
– Вы что, умный?
Он улыбнулся.
– Подвиньтесь немножко, – сказал он.
Он сел рядом с Верой, как-то боком; его усталое, жесткое лицо менялось в сумраке, глаза смотрели вверх, притягиваемые светом в окне.
Она стала ждать его взгляда. Он провел рукой по ее руке; рука у него была сухая и тяжелая. Молча, он дотронулся до ее шеи, потом поднялся к ее лицу, и рука вдруг стала невесомой, мимо уха, к виску, по бровям, Вера чувствовала его ласку.
Он встал, отошел и опять пропал; он стоял у окна, и она не могла его видеть.
– Предположим, что вы лунатик, – сказала она.
Он не отозвался.
– Вы ушли в форточку?
Он ответил серьезно:
– Нет, я здесь.
Она засмеялась и вдруг сама услышала, как смех выдал ее. Она смолкла, но было уже поздно. Он возник у края оттоманки и вдруг вытянулся рядом с Верой.
Его рука легла ей на лицо, она чувствовала губами его ладонь, она дышала запахом этой ладони. Это была маска, наложенная перед операцией; стучит кровать, сейчас все провалится… сейчас она… еще секунда…
Вера закрыла глаза, и от его лица, надвинувшегося на нее, ей стало еще душнее, чем от его руки. Он поцеловал ее несколько раз, в губы, и второй поцелуй (она знала это, знала!) был слаще первого, а третий – слаще второго. Она почувствовала, как холод бежит по ее обнаженным ногам. «Не надо», – сказала она вдруг и захотела вырваться. «Нет, надо, надо» – прошептал голос над самым ее ухом. Она не знала, что будет такая боль и крикнула; он зажал ей рот рукой, она заметалась, не узнавая лицом эту руку.
В комнате наступила необычайно острая тишина.
– Простите меня. Боже мой, отчего вы не сказали! – проговорил он с трудом, ставя слова и взял ее Веру за руку. Она не отняла руки, но и не взглянула на него.
– Какой пьяный и какой вежливый, – проговорила она.
– Простите меня. Боже мой, если бы я знал!
– …оказался неприятный сюрприз?
– Не говорите так. Зачем это?
– Не говорите вы сами так много. То молчали, а теперь вдруг разговорились.
Он бережно поправил ей платье и опять взял руку.
– По крайней мере, как вас зовут?
Она перевела на него глаза. Она все еще лежала на спине, он сидел рядом. В комнате становилось все светлее: луна косо и бледно входила в полузанавешенное окно. Можно было различить большую кафельную печь в углу. И вдруг Вера почувствовала, что больше так невозможно, что волнение (как ей казалось, унизительное волнение) охватывает ее. Рыдания заходили у нее в груди.
– Маруся, – сказала она совсем тихо.
Он смотрел на нее, сжимая ей руку. Он сам не знал, что ему сказать. Луна внезапно отпечатала широкий квадрат на крашеном полу. И только сейчас сюда донеслось шарканье танцующих, граммофон.
– Чья это комната? – спросила она, совладав с голосом.
– Не знаю, я первый раз здесь в гостях.
– Разве вы не живете у Венцовых?
– Нет.
Они опять замолчали.
Он поднял ее руку и тихо поцеловал ее, и она своей удержала его руку, притянула к своему лицу и положила себе на лоб.
– Когда я в прошлом году был в Архангельске, – сказал он вдруг ясным, трезвым голосом, – там был один человек, который проделал весь путь от Гренландии до Берингова пролива.
Она легла на бок и внимательно принялась смотреть на него:
– Мне и без того холодно, не рассказывайте мне про Гренландию.
– Этот человек потом уехал в кругосветное путешествие.
– Он вернулся?
– Нет еще.
– Он и не вернется.
– Почему?
– Потому что из кругосветного путешествия никогда не возвращаются.
Теперь вместо граммофона рычал голос под гитару.
– Когда мне было десять лет, я отправилась в кругосветное путешествие. И я не представляю себе, когда вернусь.
Он улыбнулся.
– Маруся, вы очень, очень милая. Я, по правде сказать, не думал, что вы такая.
У нее замерло сердце. Еще одно слово и она поняла, что поцелует ему руку, которую держала близко у самого своего лица.
– Вы не в обиде на меня?