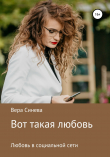Текст книги "Девять месяцев одного года, или Как Ниночка Ниной Серафимной стала"
Автор книги: Нина Курилло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
3
Октябрь
Цветы, любовь, деревня, праздность…
А. С. Пушкин
О чем можно думать, когда черный «мерседес» везет вас по Рублево-Успенскому шоссе, в окна «мерседеса» заглядывает солнечная октябрьская суббота, справа по борту проносится выложенный круглым булыжником косогор, над косогором – неправдоподобно гладкие стволы каких-то опрятных деревьев, а впереди слева, частично перекрывая вид на дорогу, неподвижной данностью торчит крутой неразговорчивый затылок водителя? Можно думать, что вы в Европе и что вообще вы – Шерлок Холмс и вас везут к важному человеку по делу государственной важности, и сейчас машина остановится, крутой затылок шофера обернется стандартной шоферской физиономией с обязательным носом картошкой, ибо и в Англии людям шоферского звания положено иметь нос картошкой, и важно скажет: «Сэр… то есть, простите, леди! Теперь я должен завязать вам глаза, но это не от недоверия к вам, о нет! Это исключительно в целях вашей безопасности, чтобы враги, когда поймают вас и начнут пытать, не смогли узнать адрес!» Так они по-любому не смогут, и глаза не надо завязывать: какой нормальный человек, не знакомый с Горками-9 или Горками-7, сможет запомнить дорогу? Ну, может, какой нормальный человек и сможет, но точно не я: мне, с моей неспособностью найти нужное место, равных нет. Если только Митя. Когда он учил меня водить машину – а у нас с Митей была белая иномарка… к тому моменту, как мы ее приобрели, ее одряхление достигло той степени маразма, когда по очереди отказывают разные органы – иной раз прямо во время езды, так что мы с Митей непосредственно на ходу или, наоборот, во время скоропостижной остановки вынуждены были постигать подробности машинной анатомии – глушитель, молдинг, лонжерон, подвеска… – Так вот, когда Митя учил меня водить машину (а именно из-за этого занятия я и вылетела со второго курса – уже вечернего отделения), мы часто оказывались в незнакомом месте. Собственно, в нем мы каждый раз и оказывались – в смысле каждый раз в новом незнакомом месте. И каждый раз мы начинали орать – я за рулем, а Митя рядом: «…! …! …! Где мы?!» Мы орали до тех пор, пока к нам не подходил какой-нибудь местный человек и не рассказывал, где мы. Тогда мы звонили Подкормкину – художнику и нашему с Митей соседу… Ну, теперь Митиному и Ликиному соседу… И Подкормкин тоже начинал орать: «…! …! …! Как вы меня достали!» И где-нибудь через час или два Подкормкин подъезжал на своей пятнадцатилетней «девятке»: «Бездельники! Извращенцы! Трахайтесь дома! Людей мучить!» Не переставая орать, Подкормкин – двухметровый, лысый и нелепый, как грустный динозавр с похмелья, – вылезал из «девятки» и начинал прилаживать буксир. Не знаю, орал ли Подкормкин во время акта транспортировки, но во дворе нашего дома на Маяковской он разорялся так, что я выпрыгивала из машины:
– Ах, бездельники?! Ну все, солнышко, сам ходи к своим продюсерам!
– Нин! Ну чего так сразу-то? – Подкормкин тут же обмякал и ссутуливался.
Дело в том, что Подкормкин – очень талантливый художник и пьяница, как, впрочем, все очень талантливые художники. Подкормкин умел все: он умел рисовать портреты, плакаты и цветы, он умел иллюстрировать книги про мировые катаклизмы и про кошек, он умел придумывать логотипы для телефонных справочников и сочинять солидные слоганы для фирм-однодневок, поскольку фирмам-однодневкам требуются особенно солидные слоганы и логотипы… Подкормкин умел даже самостоятельно выходить на заказчиков, то есть спонсоров или продюсеров – в те времена не делали разницы между этими понятиями и обзывали этими понятиями каждого, кто сумел обзавестись малиновым пиджаком, ногатой секретаршей и офисом – комнатой в каком-нибудь помещении, хотя бы и в гараже. Нет, ну правда: однажды я была в офисе, расположившемся в одноэтажном деревянном здании при мебельном складе – судя по запаху, офис еще вчера был сторожкой, в которой уютненько спал сторож со своей верной сторожевой дворнягой… Так вот, Подкормкин не умел только одного: вести переговоры с заказчиками. Когда дело доходило до обсуждения финансовых вопросов, он намертво замолкал и настолько свирепо упирал глаза в пол, что заказчик в первое мгновение робел почти до обморока, а потом вдруг догадывался: этот будет работать за копейки. Ну, за центы – в те времена расчеты производились в долларах. И как-то раз на Подкормкина снизошло озарение: нужен свой собственный спонсор. То есть не спонсор, а продюсер, точнее сказать, агент, короче, человек, который будет спесиво ронять: «Торг здесь неуместен!» Или лучше так: «Вы это серьезно?» – и такой спокойно-ироничный взгляд как бы на полууходе. Или снисходительно: «Нет, это несерьезно», – и тоже почти на полууходе и с пожиманием плеч. Но без наигрыша, с полным осознанием своей значительности и даже с полуулыбкой.
– Нет, вот тебе вообще нельзя улыбаться! – Митя гневно таращит на меня глаза. – Сказано же: тупое и непробиваемое чувство собственного достоинства! Что, хочешь все испортить?! Заржешь – убью! Давай показывай!
И Митя с Подкормкиным злобно на меня пялятся. Я, стараясь не хихикать, делаю свирепо-равнодушную морду – я весь день репетировала ее перед зеркалом – да-да, челюсть слегка вперед. В качестве образца Митя предложил взять лицо, точнее, облик и особенно взгляд проститутки – мы специально ездили за этим взглядом на Ярославское шоссе – там по вечерам кастинг сразу за строительным рынком.
…Мы с Митей на нашей белой иномарке (я, разумеется, за рулем – практика есть практика) медленно едем вдоль обочины, и время от времени от строя отделяется какая-нибудь фигуристая фигура и изящно наклоняется к окну. Потом сразу выпрямляется:
– Нет, с девушкой не обслуживаю! – И пластмассовый взгляд мимо.
Или:
– С девушкой двойной тариф! – И тоже пластмассовый взгляд.
– Учись, дура, учись! – восхищенно шепчет Митя. – Вот, кстати: можешь жевать жвачку! Но только молча и с ожесточением!
Итак, я должна изображать Митину свиту, или эскорт. Может быть, секретаршу – Митя же вроде продюсер или директор. Короче, кого-то предельно молчаливого, с длинными ногами в мини-юбке и в шубе нараспашку.
– Почему нараспашку? – спросите вы.
А как же иначе – шуба-то не моя, а свекрови, и выдана до вечера. И хотя свекровь не такая уж корпулентная дама, но все же не такая доска, как я, – и шуба на мне висит, как на вешалке, да и рукава коротки. А если нараспашку, то не так заметно, особенно если сапоги-ботфорты, мини-юбка и красная помада. Вообще-то Митя терпеть не может красную помаду, но тут – надо.
Может быть, вы спросите, а почему просто не скопировать мимику какой-нибудь западной модели – той же Кристи Терлингтон, например? Ну вы скажете! Под Кристи Терлингтон ни один наш спонсор деньги не выложит: нет у Кристи Терлингтон того самого фирменного взгляда, в котором сразу и «Мрак!», и «Жуть!», и, главное, – «Не учите меня жить!»
Первый же наш с Митей выход в свет, то есть на фирму заказчика – а это, кажется, и был офис при мебельном складе где-то в районе Сокольнической эстакады – первый же наш выход оказался абсолютно победоносным. Не знаю, повлияла ли на заказчика, краснолицего короткопалого пузана, белая, вымытая по этому случаю иномарка, которая, что и говорить, эффектно подрулила по ссаному мартовскому снегу прямо к мебельному офису, красная ли помада вкупе с распахнутой шубой и бесстыжими ногами в прозрачных колготках парализовала заказчикову волю, респектабельный ли Митин костюм возымел свое действие, но заказчик согласился сразу и бесповоротно на все условия и даже тут же выплатил какой-то совершенно умопомрачительный по тем временам аванс, который Митя и Подкормкин спустили за пять дней, чтобы за шестой и седьмой Подкормкин успел нарисовать изображение разных шкафов и кроватей в самых завлекательных позах: «Мебель фабрики “Сосенка и елочка” – по вашему желанию дизайн, комплектация и доставка!»…
– Здесь лучше свернуть на маленькую дорожку, а то век стоять будем. – Крутой водительский затылок обернулся-таки носом-картошкой и маленькими добродушными глазками. – Уже и по субботам пробки! – И снова передо мною затылок, но одновременно и маленькие глазки, улыбающиеся в зеркало заднего вида.
Мы сворачиваем на дорожку прямо в лес, и вдруг вдалеке – коровы! Нет, ну реально – коровы! Штуки три! Как на картине – прямо тебе «малые голландцы»: бело-коричневые, чистенькие – коровы, разумеется, а не малые голландцы… да еще на фоне опушки, залитой мягким солнечным светом.
– Коровы! – ахаю я.
– Ты что, коров не видела? – смеются маленькие глазки в зеркало заднего вида и даже оглядываются на меня.
– Да видела конечно! – уверенно говорю я.
А когда я, собственно, их видела? А правда, когда? На даче, как известно, коровы не водятся. А в деревне, в настоящей деревне – чтобы с бабусями в платочках, с веселыми гусями, с колодцем и с гармошкой – я ни разу не была. Вот потому-то я, наверное, и бездельница, что не была в деревне. Ведь Пушкин что говорил? Не помните? А я помню – меня бабуля заставила выучить: «Москва – девичья, Петербург – прихожая, деревня же наш кабинет». Это из «Романа в письмах». Мне почему-то ужасно нравится, что Москва девичья и что деревня – кабинет – еще больше нравится… А что, очень даже понятно: просыпается такой молодой Пушкин и, даже не разомкнув сонные вежды, чувствует: там, за распахнутым окошком, нежная влажная травка под босыми ногами прекрасных поселянок, запах земляники, бесконечная юность… И сразу – прыг из кровати – прямо как есть, в белоснежной батистовой сорочке до полу, и – к столу, и – хвать перо! чтобы не расплескать и солнце на подушке, и прозрачную салатовую тень от ветки, вбегающей в распахнутое окно… И – никакой работы, а только праздность вольная, подруга размышленья…
– Понятно вам? – говорила я вчера в аудитории, обращаясь ко всем вместе и ни к кому в отдельности, но больше всего, конечно, не к Савелиям, как-то особенно мучительно изнывавшим от анализа ранней лирики Пушкина. – Вам ясно, что праздность – это не безделье, не ленивое ничего-не-делание, как на Таити, а… – и тут я задумалась: а что «а»? Какой подобрать синоним к слову «праздность»?
– Может быть, «вдохновение»? – предложила Зоя.
Зоя, с блестящими волосами, собранными в аккуратный пучок, в черной водолазке без рукавов и узкой темно-серой юбке до колен, напоминает молоденькую актрису, пришедшую на кастинг – пробоваться на роль бизнесвумен. Образ слишком безукоризнен, чтобы быть правдой, и ясно же – никто не поверит, что вот эдакое совершенство с острыми локтями и коленками всего лишь какая-то бизнесвумен. Ну, может быть, кто и поверит, но только не красивый внук, который измучился огибать взглядом Милу, загораживающую Зоин полупрофиль. Вот уж где подлинное вдохновение, вот уж где праздность вольная – так это в его, внуковом, взгляде, в котором, однако, время от времени проскальзывает досада, когда Мила оборачивается, или встряхивает волосами, или еще как-то перекрывает светлый путь – путь от гелевой ручки, которая что-то царапает во внуковой тетради, до черной водолазки без рукавов.
Надо же, как забавно! Забавно и немного грустно: я ведь никогда не видела этот взгляд со стороны! А только – пусть и на какие-то доли секунды – в упор.
– То есть ты хочешь сказать, Ниночка, – саркастически щуритесь вы, – ты хочешь скромно сообщить, что именно ты всегда была под прицелом такого взгляда?
Да, да, да! Именно это я и хочу сказать: этот взгляд я раньше только ощущала, потому что раньше – в школе, в институте, да мало ли где, хоть в вагоне метро! – этот взгляд был обращен на меня. И я чувствовала его ухом, затылком, коленкой, скулой, чтобы вдруг неожиданно обернуться и перехватить, пока он не ускользнул, пока не юркнул в показное равнодушие или в острейший интерес к надписи «Уступайте места пассажирам с детьми и инвалидам!», пока наконец не превратился в мучительное, заливающееся краской смущение – смущение почти до слез, до обжигающего щеки стыда, но никогда – до злости, потому что такой взгляд может быть только там, где чистота, там, где…
– Вдохновение? Может, и вдохновение… – говорю я. – Но все-таки праздность – это еще и покой, и гармония, и еще что-то…
– …А врешь! Не видела ты коров! – нос-картошка вдруг снова оборачивается и смеется мне в лицо. – Ну, если по телевизору…
– Ну хорошо, не видела. – Я тоже смеюсь. – Так уж получилось. Скоро тридцать, а коров не видела, виновата.
– Тридцать? Да ладно! – картошка бесцеремонно разглядывает меня в зеркало заднего вида. – А вид у тебя несолидный – для тридцати-то… Ты уж не обижайся, – спохватывается картошка.
– Да кто же на комплименты обижается?
Но картошке и в голову не приходит делать комплимент: для картошки несолидный вид – это вид худосочный, да еще в потертых джинсах, одним словом, тьфу, а не вид!
«Худая корова еще не газель!» – любила повторять моя свекровь, светски улыбаясь – мол, это я не про присутствующих.
– Ниночка вовсе не худая, а стройная, – пытается сгладить неловкость гостья – мощная пятидесятилетняя тетка из министерства, ради которой свекровь и закатила ужин с салатами, запеченной курицей и мороженым на десерт.
К этому судьбоносному ужину у себя на Селезневке свекровь готовилась едва ли не месяц: свекор закупил партию вина – в те времена найти хорошее вино было непросто даже человеку из министерства.
Мы с Митей должны изображать дружную молодую семью, проявляющую уважение к благообразному, похожему на советского разведчика папеньке и особенно к маменьке – свежей не по летам, нет, ну правда, свежей натуральной блондинке: в меру пышной и в меру вальяжной… А сорокалетней коренастой приживалке Люсе по случаю грядущего нового назначения свекра пожаловано позапрошлогоднее свекровино платье. Платье отливает благородным металлом и потому очень гармонирует с оправой Люсиных очков, а еще оно до того туго натянуто на мощных Люсиных боках, что кажется, что это и не платье вовсе, а атласный диванный чехол – того и гляди лопнет на упругой до каменной непробиваемости диванной подушке.
– А сколько вам, Ниночка, лет, если не секрет? – не унимается госпожа министерша. – Двадцать девять? Ну надо же! Ни за что бы не подумала. Как вам это удается?
– Элементарно: замедленное развитие. – Митя сосредоточенно, ни на кого не глядя, обгладывает куриную ногу. – Она, кстати, продолжает расти. Когда я на ней женился, было метр семьдесят семь, а сейчас метр семьдесят восемь.
– Неужели? – теряется тетенька и с жалостливым любопытством смотрит на меня.
Я стараюсь не выпасть из образа почтительной невестки и хватаюсь за спасительную курицу. Больше хвататься не за что: Люся пересолила все салаты. Я, даже не поднимая глаз от тарелки, вижу, как у свекрови глаза белеют от злости, а свекор, тоже не отрывая глаз от курицы и дергая шеей, судорожно проглатывает кусок, а у Люси – она сидит подле свекрови, чтобы вскакивать как ошпаренная и подавать напитки и пироги, – у Люси запотевают очки от предчувствия вечернего шоу, в котором ведущая партия, разумеется, у свекрови: «Вредители! По-человечески же просила! Прийти в платьях… то есть в платье и костюме с галстуком! Не выступать! Отцу новое назначение! Что? Только мне это нужно?»
Но сейчас за столом наш, то есть Митин, выход. Собственно, Мите ничего и не нужно делать – поддерживай себе светскую беседу.
– А кто вы, Ниночка, по гороскопу? – министерша предпринимает еще одну героическую попытку вывести разговор на должный уровень светскости.
– Жаба она! – мрачно роняет Митя.
И тут мы со свекром не выдерживаем и начинаем хохотать, невзирая на зловещее молчание на том конце стола, где исходит безмолвным бешенством свекровь и потеет в очки полузадушенная свекровиным платьем Люся.
– Как – жаба? – госпожа министерша замирает, но лишь на одну растерянную долю секунды и вдруг с радостью присоединяется к нашему хохоту. – Жаба? Я завтра же расскажу в отделе! Ха-ха-ха! – министерша прихахатывает светским баском. – Жаба по гороскопу – это замечательно! Кстати, Митя! А почему бы тебе не пойти к нам? Ты же, кажется, журналист?.. Ну вот! Нам нужна живая молодежь! Свежая кровь!.. Жаба!
Вечером свекровь неистовствует:
– Идиот! Бездельник! На блюдечке – готовое место работы! И делать-то ничего не нужно!
– Мам! Мы же вроде хотели папу пристроить? Ну – и скажи спасибо. Нельзя же, чтобы сразу вся семья. Пусть папа ничего не делает в министерстве – на новой должности, я хотел сказать. А я как-нибудь так.
– Не смей! Не смей про отца!
– Мам, да ладно тебе! – И Митя снисходительно целует свекровь в макушку. – Да, мам, ты нам не подкинешь?..
…Вы меня, разумеется, спросите:
– А тебе, Ниночка, не стыдно было сидеть на шее у свекрови? Жить на ее деньги?
Ну, во-первых, это не ее деньги, а свекра: он же трудится в министерстве – теперь на новой должности. А во-вторых, нет, не стыдно.
– Да ведь ты, Ниночка, тунеядка и бездельница! – качаете головой вы. – Свекровь-то может не работать: она – мать семейства! А ты – тьфу! Люди должны трудиться на благо общества или грядущих поколений!
А плевать я хотела на ваши грядущие поколения! Вон они – сидят себе все в прыщах и хамски меня изучают, спокойно так, даже не отводя глаз, как будто я музейный экспонат, скажем, Аполлон Бельведерский. Или Давид. И еще впечатлениями обмениваются, эдак лениво, даже не поворачивая головы кочан, как заправские мачо:
– Не, фигура отстойная… – это, допустим, реплика мачо Савелия – допустим, Савелия-справа.
– А рожа ничего себе так… А как ты думаешь, она …? – это, допустим, мачо Савелий-слева.
И все в таком роде, и подслушивать не надо. А ты стой и молчи, как будто не понимаешь. Ведь если ты препод – ты как поп-звезда: тебя только ленивый не обсудит, а ты только и можешь: «Не вижу ваши ручки… Достаньте ваши ручки и записывайте…» И стоишь ты перед грядущими поколениями – весь как есть на просвет, словно Давид в Пушкинском музее – без одежды и даже без последнего фигового листка.
И ты должен стоять и терпеть, потому что это твоя работа. РА-БО-ТА. Ненавижу это слово. А еще ТРУД. «Мир, труд, май!» – был такой лозунг в моем детстве. Я уже тогда была убеждена, что второе слово здесь явно лишнее, – против мира и мая я никогда ничего не имела. Но вот труд упорный мне с детства тошен. И серьезный человек, который встал в шесть, в семь съел положенный завтрак из овсянки и еще какой-нибудь полезной дряни и пошел трудиться – этот человек мой личный враг! Потому что я убежденная бездельница. Да, я идеологически выдержанный и морально устойчивый лодырь! Да я на все пойду, лишь бы ничего не делать! Да я горы сверну, лишь бы не трудиться!
– А разве тебе не приятно, получая деньги, знать, что ты их честно заработала? – удивитесь вы.
Нет, искренне отвечу я вам. Я не испытала ни малейшей радости от того, что Пузырь выдал мне деньги, а я расписалась в какой-то ведомости. Но, может быть, в вашем вопросе ключевое слово не «зарабатывать», а «честно»? Тогда мне и вовсе нечего вам сказать, потому что нечестно я тоже никогда не зарабатывала. Допускаю, что это может быть весело. Неслучайно у торговцев фруктами и подержанными автомобилями, у чиновников и работников жилищно-коммунальной сферы такие прихихикивающие бегающие глазки. Мне кажется, глазки у них бегают не оттого, что им деньги нужны, а от азарта, который сродни даже похоти…
– Еще десять минут, и мы на месте. – В зеркало заднего вида на меня с беспокойством посматривают глазки водителя.
Наверное, глазки заметили, что меня укачало – не столько от езды, сколько от истошного запаха земляники, источаемого картонным ароматизатором, висящим под зеркалом заднего вида.
– А ты, значит, Варьку литературе обучать будешь?
– Да, если сложится.
– А чего ж не сложится? Варька девчонка хорошая. Да и мама у нее добрая.
Мама у нее добрая! Хорошо хоть не сказал «хозяйка». А мог бы: ведь кто она для него? Вот именно – работодатель. И для тебя, Ниночка, тоже. Так что можешь сколько угодно думать, что ты Шерлок Холмс и тебя везут к важному лицу по секретному делу, а на самом деле ты всего лишь обслуживающий персонал. И тебя, как последнюю тощую гувернантку, по-барски отправят обедать – на кухню, вместе с садовником, кухаркой и прочей дворней, а уже потом – к барышне.
3,5
Октябрь – продолжение
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка…
А. С. Пушкин
…А барышня, возможно, мила и даже временно человечна: ей грустно и нельзя танцевать. И пухнет барышня от безделья, интернета и чипсов с колой, разумеется, диетической. А добрая мама грустной барышни пухнет от злости, причина коей – неразрешимый конфликт, как в греческой трагедии, – это когда сталкиваются страсть и долг: страсть влечет добрую маму в спа-салон и в молл – там распродажа летней коллекции хрен-его-знает-чего от хрен-его-знает-кого, долг же повелевает остаться с больной инфантой, которая задолбала уже своим Эминемом… А еще добрая мама наверняка накачана силиконом по самый педикюр.
Когда-нибудь, лет через пятьдесят, мы будем восхищаться этими женщинами-первопроходцами, проложившими своими телами путь в эру пластической хирургии. И вы, в вашем прекрасном силиконовом далеко, в те светлые дни, когда апгрейд тела станет не более удивительным, чем обновление операционной системы компьютера или автомобиля, вы вспомните изуродованные лица тех, кто подарил вам спасение! Да-да, спасение, ибо красота спасет мир. Посмотрите на эти лица… Не смейте отворачиваться или, хуже того, хихикать над франкенштейном с раздутой губой и съехавшей к уху обездвиженной щекой с интенсивно подергивающимся верхним веком над слезящимся глазом – результат задетого тройничного нерва… Не отводите взгляд и представьте себе… ну, скажем, героического кролика – ну, хорошо, крольчиху, которая сама (sic!) мужественно оплачивает (кредиткой мужа, разумеется) акт своей вивисекции… Или нет, даже не так: вообразите себе остров доктора Моро и самого доктора Моро, который выходит к своему звериному народу и объявляет: пумы! пантеры! а также львы, орлы и прочие куропатки! Сегодня я буду вас пытать за пятьдесят тысяч баксов, но только двоих из вас! Нет-нет, я сказал – двоих, а не всех… да не суйте мне свои кредитки!.. толпиться бессмысленно – кусать соседей – тем более. Тубо! Фу! Стоять!.. Остальные – на следующей неделе, запись у собаки Павлова… Да не толпитесь же!..
И когда вы вглядитесь в эти перекроенные лица, вы поймете: быть женщиной – великий труд…
Догадываюсь, что вы хотите спросить: «А зачем же ты, Ниночка, согласилась ехать в эту силиконовую долину, если тебе плевать на деньги?» А и правда, зачем? Изучить повадки, вкусовые пристрастия и прочее в этом ареале обитания? Может, и так, но, наверное, я просто не знаю, что делать со всем тем временем, которое мне осталось. Что делать со всей этой осенью, в которой нет Мити, то есть меня с Митей, то есть меня, то есть осени… тьфу! короче, вы поняли…
Потому что нет ничего лучше, чем осень, когда ты идешь от института пешком – в никуда или просто в октябрь, потому что октябрь так мимолетен, что его легко прозевать, но сейчас он здесь – с городом и солнцем влюблен в тебя, он нескромно треплет подол твоего смешного короткого темно-синего платья в красный цветочек… Смешного потому, что до колен, а ниже – тощие ходилки, растущие из грубых, тяжелых, почти мужских, башмаков.
– Ну точно пальма из кадки, – смеялась утром бабуля. – И при чем тут джинсовая куртка? Она же велика на три размера… Не лучше ли надеть плащ – октябрь на дворе…
…Потому что нет ничего лучше, чем юный октябрь, когда солнце дурачится, то ныряя за высокий кирпичный дом, то мягко скатываясь тебе на нос, а улица пятится от тебя вместе с автозаправкой, автобусной остановкой и загорелым белобрысым мальчишкой в линялых джинсах и голубой рубашке. Мальчишка неизвестно откуда нарисовался, и на самом деле уже и не мальчишка – наверное, немного старше меня… Но он смешно шагает задом наперед, чудом не налетая на добродушных прохожих, он размахивает руками, хохочет мне в лицо и счастливо орет:
– Я не переживу, если вы уйдете из моей жизни!
– Классная заготовка! – я тоже смеюсь. – А что обычно отвечают?
– Я в нее и не входила! – мальчишка жеманно поджимает губы и на секунду останавливается.
Я едва не налетаю на него:
– Не смешно! Еще!
– Умри, несчастный! – Мальчишка возобновляет шаг задом наперед.
– Так себе… А ты типа такой отвечаешь: спаси, о великодушная!
– Вроде того.
– Да ну… все варианты уже разобрали… А, наверное, самый распространенный: еще как переживешь! Или – придется пережить. Да?
– Вообще-то, – он прыжком перестраивается и идет уже рядом, в ногу со мной. – Вообще-то чаще просто называют имя… Я, кстати, Митя.
На переходе я узнала, что Митя живет на Маяковской, в квартире бабушки. Бабушка умерла два года назад… Возле магазина «Русский лен» я была в курсе, что Митя окончил факультет журналистики и теперь ищет работу… точнее, предки ее для Мити периодически находят. Рядом с магазином «Дары природы» стало известно, что Митя терпеть не может дичь и креветки, зато любит манную кашу и черносмородиновое варенье, а также пирожки с мясом, с капустой, с картошкой, с зеленым луком и яйцом, музыку Джорджа Бенсона и Херби Хэнкока, а бледная полоска над верхней губой – последствия хоккея во дворе дома у бабушки, точнее клюшки Подкормкина, который и в школе был таким длинным, что, когда Митя как-то выскочил из подъезда, клюшка пришлась ему аккурат по губе, хорошо, что зубы целы остались, а журналистика Митю вообще-то не интересует, но это лучше, чем право, но хуже, намного хуже, чем слэпом на бас-гитаре…
Недалеко от МИДа Митя спросил:
– Ты замуж за меня пойдешь?
– Когда?
– Завтра.
– Завтра пойду.
– Нет, завтра не получится. Завтра только документы подадим. А замуж через месяц. Идет?
– Идет.
Вы, наверное, подумали, что я так легко согласилась, потому что мне никогда предложения не делали? Ха! Да я их считать устала, ваши предложения, – нет, ну начальные классы школы не в счет, конечно. Я про вменяемый возраст – после шестнадцати. Ну ладно: было одно. Но экзотическое – оно исходило от мамы жениха, то есть жених, может, и не знал, что он жених, он был соседом и бывшим одноклассником моей англичанки, довольно молодой вертлявой брюнетки, живущей где-то рядом с метро «Динамо». Уж не знаю, где бабуля ее отыскала, но английский англичанка знала хорошо. Так вот: англичанкин одноклассник повадился зависать у нее во время наших занятий. Я очень радовалась одноклассниковым приходам, поскольку они приходились на самое ужасное – согласование времен, перфектные формы, причастия… а еще модальные глаголы, местоимения… Я толком и не помню теперь, как этот сосед и одноклассник выглядел – вроде высокий шатен с бородой, а может, и брюнет… Но маме его я чем-то приглянулась: в одно из занятий, после того как сосед выпил весь кофе на кухне, где я, разумеется, тоже ошивалась, его мама и заскочила якобы за спичками. Или за солью. Да-да, именно так все и было – мама, невзрачная такая востроносая мышь, продефилировала непосредственно в комнату для занятий и сообщила что-то типа: «здравствуйте, я соседка якобы за спичками»… ну или за солью – я, собственно, не вслушивалась в ее соль и спички. Я радовалась временной отмене системы английских времен… А потом, когда соседка со спичками или солью узнала, что я сирота (вообще-то неясно, кто ей выдал эту дезу: папа-то у меня, как вам известно, жив себе в Америке по контракту вместе с женой Аней), так вот, когда она решила, что я круглая сирота, то обрадовалась не на шутку: «Возникать меньше будет!» – заявила она моей англичанке. Не верите? Я тоже не поверила, но англичанка клялась, что так и было. И тогда я попросила передать моей неудавшейся свекрови, что папа у меня есть, а еще бабушка, и поэтому возникать я буду…
А когда меня впервые увидела Митина мать, в ее взгляде было: «Вот оно! Я знала, я всегда знала!» И тут-то мне и стало понятно, кто я такая на этом свете: я – материализовавшийся ночной кошмар моей свекрови. Вообще у меня сложилось ощущение, что с самого Митиного рождения свекровь ждала от него какой-то пакости, и когда появилась я, она, оправившись от первого шока, даже с некоторым облегчением вздохнула: ну что ж, лучше это, чем, упаси господь, джаз. Как я узнала позже, свекровь ничто так не пугало, как невесть откуда взявшееся Митино увлечение джазом – никто в их добропорядочной министерской семье в джазе замечен не был. Вообще-то свекровь напрасно боялась: к классическому джазу, который слушала моя бабуля, Митя был довольно равнодушен, отдавая предпочтение стилям фьюжн, джаз-рок и даже соул.
…А Горки не случайно называются горками: переулок между высокими каменными заборами то скатывается вниз, то взмывает к молочно-белой глухой стене. Стена качается и плывет, плывут коричневые гофрированные ворота гаража, подпрыгивают поднятые в немом приветствии пушистые лапы елок, истерическим маятником пляшет земляничный ароматизатор. Утренняя овсянка подкатывает к горлу, сквозь оглохший пульсирующий ритм в ушах прорезается радостное «Приехали! Вам удобнее выйти здесь, а я загоню машину». Качка прекращается, но переднее сидение продолжает плыть и плыть… лучше не смотреть, упереть невидящий взгляд в никуда – в воображаемую точку прямо перед собой… Правую щеку обдает волной свежести, и я чувствую холодеющую испарину на лбу: кто-то открыл мою дверь. Я неловко выношу отяжелевшую ногу за порог:
– Нет-нет! Все хорошо, я сама.
– Да вы совсем зеленая! Алексей! Да брось же ты машину – помоги дойти! – в молодом женском голосе высокими нотками вибрирует беспокойство.
Я чувствую, как тяжелая мужская рука бережно берет меня под локоть и ведет куда-то вперед: я старательно смотрю только перед собой – на посыпанную разноцветным гравием дорожку, и знаю, что любое движение глаз может обернуться новым приливом дурноты.
Мне настолько нехорошо, что почти не стыдно. Понятно, что позже стыд непременно придет: еще бы – выдавать предобморочные фокусы в незнакомом доме. Да еще в присутствии хозяйки дома – меня уже усадили в кресло в большом светлом холле, и я сумела сфокусировать взгляд на обладательнице обеспокоенного голоса, высокого, немного капризного, но совсем не жеманного. Такой голос бывает у девчонок, которые с детства уверены, что все их любят, сколько бы этим девчонкам ни было лет. У хороших девчонок.
Очень маленькая и очень тоненькая молодая женщина в белой футболке, темных спортивных штанах и резиновых шлепанцах стоит передо мной и внимательно в меня всматривается. У нее темно-рыжие волосы, стянутые в хвостик, и остренький подбородок хитренького миловидного лица. Легкая посадка головы и общая грациозность выдают хореографическую подготовку.