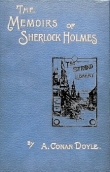Текст книги "Дело о смерти и меде"
Автор книги: Нил Гейман
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Дело о смерти и мёде
Нил Гейман
В краях, где появлялся убеленный сединами старик с огромной коробкой за плечами, еще долго после его исчезновения судачили о том, что же могло случиться с этим чужеземцем. Многие сходились во мнении, что он принял свою смерть где-нибудь на узкой и тесной для двоих горной тропинке; они же, не покладая рук, раскапывали подпол в крохотной хижине на вершине холма, принадлежащей Старику Гао, надеясь отыскать богатство или редкое сокровище. Что же они там нашли? Пепел, золу и несколько обгоревших жестяных поддонов.
Естественно, такое стало возможно после того, как пропал и сам Старик Гао. В тот отрезок времени, пока из Ляцзяна присматривать за пасекой на холме не приехал его сын.
Скука, —написал в 1899 Холмс, – вот первопричина всех проблем. Отсутствие интереса. Кажущаяся банальность происходящего. Преступление не может не привлечь к себе внимания, если в его раскрытии кроется вызов самому себе. Когда же все разгадки очевидны, или в преступлении не кроется вообще никакой загадки, – какой тогда смысл тратить на них время.
Простой пример: убит человек. Очевидно, что кто-то его убил. Не так очевидны причины, но то, что их всего пригоршня, – понятно. Кому-то он где-то перешел дорогу, или кто-то возжелал того, что было у этого человека, или же просто в припадке ярости произошло убийство. Где же в этих мотивах вызов сыщику?
В ежедневных газетах, читая полицейскую хронику, я раскрываю дело еще до того, как закончится статья. В общих чертах, но иногда и с точностью до некоторых деталей. Слишком безыскусны нынче преступления. Сыпать бисер перед полицейскими, предоставляя интересующие их ответы? Нет уж. Пусть сами думают; там, где я не вижу вызова самому себе, многие из них видят для себя.
Мой вызов – наступать на пятки разгадке. Тогда я действительно живу.
Холмы в этих краях неспроста называли горами: видеть на вершинах неплотный туман было обычным делом. На усыпанных яркими цветами склонах пасеку держал и Старик Гао. Жужжание пчел, перелетавших от бутона к бутона, особенно под жарким, хоть и бледным, весенним солнцем, всегда умиротворяло его. Но не приносило удовольствия, – ведь в деревне, за холмом и долиной, многочисленные ульи его двоюродного брата уже ломились от меда. А ведь год только начался. Конечно, по его мнению, желтый и светло-коричневый мед, который вырабатывали его пчелы, был куда лучше белого и тягучего, однако с продажи даже самого лучшего меда Старик Гао имел вдвое меньше своего деревенского родственника. Тем более и самого меда пчелы приносили ничтожно мало.
Конечно в них все дело. На пасеке двоюродного брата содержались сплошь трудолюбивые, неутомимые полосатые золотисто-коричневые работники. Они собирали пыльцу и нектар в совершенно невообразимых количествах. У Старика Гао пчёлы были черные, блестящие словно пули, – не прилежные создания, собиравшие лишь столько материала, сколько требовалось им самим, чтобы перезимовать. Бесспорно, излишек всегда находился, но его было совсем немного, и старый пасечник продавал его, не покидая деревни, – тогда кому-нибудь из соседей доставалась единственная маленькая баночка. Сверх этого можно было бы выгадать с продажи выводка: сладких на вкус ячеек, заполненных личинками пчел (натуральным протеином по сути), – однако такое случалось крайне редко, потому что после выемки пчелы замыкались в себе, становились сердитее и, соответственно, еще ленивее. Их не заботило в такие периоды даже необходимость выведения потомства, так что Старик Гао продавал ячейки с выводком, только когда не видел необходимости продавать мед в конце года.
Он был весь в своих пчел: такой же угрюмый и такой же суровый. Однажды он был женат, но его жена скончалась во время родов. Убив мать, сын прожил сам всего неделю, – уведя за собой и все слова, которые он мог бы сказать в день похорон отца, и все цветы и подношения, которые мог бы приносить на его могилу. После этих событий он видел себя канувшим в Лету, безвестным, никем незамеченным при жизни. Как его пчелы.
Но вот Старик Гао встретил того самого седого незнакомца, бродившего по едва просохшим горным тропинкам с внушительной сумкой, похожей на ящик, за плечами.
– Я не боюсь грабителей. – Так отвечал пасечник своему двоюродному брату, когда узнал от него, что по горам бродит какой-то чужеземец и разыскивает пчел. Разговор случился за несколько дней до этой встречи, когда Старик Гао приезжал в долину, намереваясь купить целое ведро отбракованного, нетрудоспособного выводка, скорее всего, обреченного там на смерть. Он заплатил за него невзрачную сумму. Это был корм для его пчел, во-первых; ну и если повезет, он мог бы и перепродать часть тому, кто не знал ничего об уготованной судьбе личинок.
Мужчины пили чай в хижине возле пасеки на другой стороне огромного холма. Двоюродный брат Гао переезжал туда поздней весной, когда пчелы начинали давать первый мед; он жил, спал и ел в ней, опасаясь грабителей, весь сезон, вплоть до первых морозов. За сотами и бутылями с белоснежным густым медом приходили либо жена либо кто-нибудь из его детей. Принеся в деревню, они продавали его там.
– Он не грабитель, – продолжил двоюродный брат. – Я направлю его к тебе. Ответишь на его вопросы, покажешь своих пчел, и получишь за это немного денег.
– Он разговаривает по-нашему? – спросил Гао, думая о незавидной судьбе того, кому придет в голову потревожить его черных, блестящих пчел. Думая также о том, что благодаря этой свирепости он может спокойно жить дома, а на пасеку приходить только за медом.
– Акцент у него ужасающий. Говорит, что учился языку у моряков, а они все в основном из Гуанчжоу. Но перенимает он буквально на лету. Хотя и уже старый.
Моряки Старика Гао не интересовали. Он вздохнул, – не только об этом, но и о том еще, что впереди предстоял четырех-часовой путь в свою деревню под не на шутку палящим дневным весенним солнцем. И еще о том, что его двоюродный брат мог позволить себе пить такой превосходный чай каждый день.
На свою пасеку он пришел ещё засветло. Мысль о достатке не выходила у него из головы, он взвешивал несобранный мед и соотносил выручки. У него было всего одиннадцать ульев, а у его двоюродного брата – больше сотни. Пока он мысленно управлялся с продажами, пчелы дважды укусили его: один раз чуть ниже мизинца, другой раз в шею, чуть выше ворота. Он бы и не заметил этого, – ведь за всю жизнь его укусили бесчисленное количество раз, да и места укусов давно уже не зудели и не распухали, – но когда кусают свои пчелы всегда обидно.
Встретились они на крылечке дома Вдовы Цянь. Рано утром этого дня к дому Старика Гао прибежал кто-то из местных мальчишек и сказал, что кое-кто – «высоченный, седой и, наверняка, варвар», так он сказал дословно, – расспрашивает о нем. Идти пришлось через всю деревню, но поспеть за легкими шагами мальчика было не просто. Скоро его провожатый вообще пропал из виду, свернув и скрывшись за одним из заборов. Старик Гао остановился. Осмотревшись вокруг, он заметил на крыльце знакомого дома седого крупного мужчину с чашечкой чая в руках. Пятьдесят лет назад он часто бывал в этом доме. Его жена и мать Вдовы Цянь были хорошими подругами, но сегодня он даже поверить не мог, что после смерти обеих женщин, об этом кто-то помнит. Вдова Цянь пригласила старого пасечника в дом, угостила чаем и представила чужеземцу. Поставив свою коробку на пол, он присел за маленький стол, отхлебнул еще чаю, поставил кружку рядом с кружкой Гао и сказал:
– Мне бы хотелось увидеть ваши пчелы.
***
Когда умрет Майкрофт, следом падет и Империя. Никто об этом не задумывался всерьез, кроме нас двоих. Его тело лежало передо мной, покрытое белой простыней с ног до головы, и мне казалось, что с двумя вырезанными на ткани глазницами, он действительно станет похож на приведение, – в самой распространенной, обыденной интерпретации. На смертном одре он, к моему удивлению, распух, стал еще массивнее и необъятнее. Белые пальцы были толстыми, словно колбаски.
– Добрый вечер, Майкрофт. – сказал я. – Доктор Хопкинс сказал мне, что жить тебе осталось не более двух недель. Еще он попросил ни при каких обстоятельствах не говорить тебе этого.
– Он кретин тупоголовый. – ответил Майкрофт, разделяя каждое слово спазматическими глубокими вдохами. – Я не протяну даже до пятницы.
– Думаю, до субботы минимум.
– Ты всегда был оптимистом. Но увы. В четверг вечером я уже предстану перед господами Снигсби и Малтерсоном, которые заведуют похоронным бюро, в качестве задачки по геометрии. Вот кому придется приложить максимум своих способностей, чтобы переправить мой труп через узкие двери и коридоры сначала из комнаты, а потом из самого здания.
– Ты забыл лестницы. – поправил я. – Я полагаю, что они выломают оконную раму, и спустят твой труп вниз, словно огромный белый рояль.
Майкрофт сдавленно фыркнул.
– Мне пятьдесят четыре, Шерлок. Мой мозг – само Британское Правительство. Не эта бессмысленная возня с бюллетенями и голосованием, а сама суть правления. Кроме меня никто больше не знает, чем закончится передвижение войск на Афганской возвышенности для забытых Богом берегов Северного Уэльса. Никто кроме меня не видит всей картины, целиком. Представь, как эти люди и их дети отреагируют на Независимость Индии. Какие будут беспорядки.
– Индия обретет независимость? – переспросил я, поскольку раньше даже не задумывался об этом.
– Это неизбежно. В течении ближайших тридцати лет, по грубым оценкам. Я уже написал по этому поводу несколько меморандумов. И еще несколько по другим важным вопросам. О революции в России. Бьюсь об заклад, до нее осталось не больше десяти лет. О проблемах в Германии. О про… – он закашлялся. – В-общем, о многом. Конечно, я не жду, что их прочтут. И что они будут поняты. – Кашель моего брата был свистящ и высок, словно где-то хлопало створками окно. – Думаю, ты понимаешь, что если бы я смог жить дальше, Британская Империя умножила бы свое могущество еще на тысячу лет, неся в мир порядок и прогресс.
Когда мы были детьми, Майкрофт уже тогда делал свои грандиозные заявления, подобные этому, а я в ответ, обязательно парировал чем-нибудь колким и едким. Сейчас он лежит при смерти в этой скромной бледной комнате, и, естественно, я ничего в ответ ему не скажу. Тем более, мне определенно казалось, что он имеет в виду не современную Империю, – не ту дефектную конструкцию, собранную из порочных, ошибающихся людей, – а ту, что существовала в его голове: величественную силу, ратующую за гражданские права и процветание вселенной.
В империи я не верю. Да и не верил никогда. А вот в Майкрофта – всегда.
Майкрофт Холмс. Пятидесяти четырех лет от роду. Увидевший зарю нового века. Умерший на несколько месяцев раньше Королевы, которая, хоть и была воробьем стрелянным, на тридцать лет была его старше.
У меня не выходила из головы его безуспешная кончина. Неужели никак этого нельзя избежать?
– Конечно, ты прав, Шерлок. Если бы я больше занимался спортом. Если бы питался, как дрозд, горсткой семечек, а сочному кровяному стейку предпочитал брокколи. Если бы завел семейное гнездышко, где-нибудь в глуши, – милую женушку и спаниеля. Если бы делал всё, что мне противоестественно от природы, – то, конечно, я бы прожил бы еще дюжину лет, а может и больше. Но что бы это изменило глобально? Практически ничего. Раньше я впал в старческий маразм или позже, – что бы поменялось? Чтобы создать и обучить службу Общественного Правопорядка, чтобы она стала действительно функционировать, нужно не меньше двухсот лет. Я уж молчу сколько нужно для тайной агентурной сети…
Я продолжал молчать.
Как скупа обстановка вокруг его постели в этой бледной комнате! Стены абсолютно голы. Никаких цитат из своих собственных речей или мыслей. Ни рисунков, ни фотографий, ни картин. Как это всё не похоже на обстановку моего кабинета на Бейкер-стрит. Как не похож его мозг на мой! Майкрофту не нужно было вообще ничего снаружи. Всё, что было внутри – всё, что он когда-то читал, видел, что довелось пережить, – всё было под рукой. Он мог закрыть глаза, – и пройтись по Национальной Галерее, или пролистать каталог Библиотеки Британского Музея. Или, что более вероятно, сопоставлять донесения разведки с отдаленных уголков Империи, соотносить их с ценами на шерсть в Уигане и с уровнем безработицы в Хоуве, – и основываясь на этом, отдать поручение о продвижении по службе одного или о бесшумной, подобающей предателю, казни другого.
Майкрофт опять зашелся страшным кашлем. Когда успокоился, произнес:
– Ведь это преступление, Шерлок.
– Не понял, что ты сказал?
– Преступление. Самое настоящее, брат, не менее омерзительное, жестокое и чудовищное, чем каждое из тех, что ты расследовал, в которых всё упиралось в несчастные шиллинги. Преступление против универсума. Против природы. Против порядка.
– Вынужден признаться, что не понимаю тебя, дорогой брат, ни на дюйм. А каком преступлении ты говоришь?
– О моей смерти. Как частном случае. – Майкрофт немного помолчал. – Да вообще о Смерти. – Он поднял лицо и взглянул прямо мне в глаза. – Я совершенно серьезно. Разве это преступление не достойно расследования, а, Шерлок? Оно уж точно займет тебя надолго. Его ты так просто не раскусишь. Это тебе не поимка третьего корнетиста небольшого оркестрика из Гайд Парка, который с помощью стрихнина избавился от дирижера.
– Мышьяка, – автоматически поправил его я.
– Надо же, а я думал, ты догадался, что зелеными хлопьями, попавшими в суп несчастного, на самом деле были маленькие кусочки краски, засохшей и отколупившейся от эстрады. – Он снова закашлял. – Отравление мышьяком это всё мишура была, ложный след. Стрихнин, – вот что прикончило беднягу.
В тот день Майкрофт больше ничего мне не сказал. Это оказались последние слова мне, потому что незадолго до полудня следующего дня, то есть четверга, он прекратил кашлять навсегда. Пришла пятница, и молодцы из конторы Снигсби и Малтерсона, аккуратно вынули рамы из окон бледной аскетичной комнаты и спустили останки моего брата на улицу, точь-в-точь, как огромный рояль.
На его похоронах были только я, мой друг Ватсон и наша кузина Харриэт. Майкрофт успел специально распорядиться, чтобы кроме нас никого не было, – ни из Службы Общественного Порядка, ни из Министерства Иностранных Дел, ни членов клуба Диоген. Затворник всю свою жизнь, он хотел остаться таким (или в достаточной степени похожим) и в смерти. Одним словом, лишь трое нас. Священника же, который брата моего не знал, и поэтому даже не подозревал, что предает земле всеведущую и крепчайшую руку Британского Правительства, в расчет брать не стоит.
Четверо рослых, крепко сбитых мужчин, на веревках опустили гроб к месту, где отныне навсегда упокоятся останки моего брата. Должен сказать, что это нелегкий (а он весил действительно немало фунтов) путь был пройден без единого грубого, бранного слова, за что все четверо получили от меня по окончании дополнительно по пол-кроны.
Но умерший, пятидесяти четырехлетний Майкрофт продолжал прерывисто кашлять в моем воображении, – и в этих призрачных звуках я чувствовал притяжение тех слов, что он практически сказал тогда: « Вот преступление, которое имеет смысл расследовать».
***
Незнакомец говорил с акцентом, который был не так уж и плох, хотя его словарный запас оставлял желать лучшего. Так или иначе, он старался воспроизвести местный диалект с максимальной точностью. «Быстро же он учится», – думал Старик Гао. Он был хмур и молчал; перспектива вести на свою пасеку чужестранца была ему не по нутру: чем реже и меньше он тревожит своих пчел, тем лучше у них складываются соты. Старик сплюнул в дорожную пыль. «А что если пчелы укусят чужестранца, чем это может грозить?»
По выражению лица незнакомца Старик Гао не мог понять ничего, что случалось с ним впервые. Слишком уж необычны были его черты: крупный, с горбинкой нос, напоминавший клюв орла, высокий загорелый лоб, и глубокие, довольно частые морщины. Волосы незнакомцы были настолько белы и редки, что напоминали серебряные нити. Одно было очевидно при взгляде на него, – он был предельно серьезен. Возможно в связи с каким-то несчастьем.
– Зачем Вам это?
– Я изучаю пчел. Ваш брат сказал, здесь Вы имеете черных пчел. Особенных.
Старик Гао рассеянно пожал плечами. Он не собирался прояснять незнакомцу, кем именно приходится ему тот человек.
Незнакомец поинтересовался, завтракал ли собеседник, и после того, как Старик Гао отрицательно помотал головой из стороны в сторону, попросил Вдову Цянь принести бульона, плошку риса и что-нибудь, достойное трапезы, из имевшегося на кухне. А там имелись паштет с древесными грибами и жаркое из овощей с какой-то полупрозрачной речной рыбешкой, внешне не отличимой от головастика, – всё это мужчины в тишине съели.
– Для меня большая честь будет, если вы покажете мне своих пчел.
Старик Гао ничего не ответил, а незнакомец тем временем расплатился с Вдовой Цянь и нацепил свой огромный заплечный прямоугольный мешок. Он подождал, пока Старик Гао выйдет на дорогу, и направился за ним следом. Его ноша практически не утомляла его, и Старик Гао подумал, неужели все варвары, даже в преклонном возрасте, такие сильные.
– Откуда вы приехали?
– Из Англии, – ответил незнакомец.
Старик Гао припомнил это название. Когда-то давно его отец рассказывал ему о войне с этой страной. Дело касалось торговли и опиума.
Дорога вела вверх по склону холма, – хотя можно точно сказать, что эта дорога походила на настоящую горную. Подъем был крут и каменист, и Старик Гао несколько раз пытался экзаменовать уровень подготовки незнакомца, ускоряя шаг. Однако, сколь бы тяжела ни была ноша за плечами, он ни разу не отстал.
Были, конечно, случаи, когда он останавливался. В эти моменты он исследовал цветы, не срывая их; это были маленькие белые цветы, которые с приходом весны усыпают весь холм, но так поздно весной они цветут только по этому склону. На одном из них ему случилось увидеть пчелу. Незнакомец присел на корточки и принялся скрупулезно ее рассматривать. Он достал из кармана весьма крупную лупу, затем записную книжку и что-то написал в ней буквами, которые Старик Гао не мог разобрать. Еще он никогда не видел увеличительного стекла, и когда сквозь него увидел свою пчелу, искренне поразился и ее черноте и ее силе и ее уникальности.
– Ваши?
– Да, – ответил Старик Гао. – По крайней мере, из этого же семейства.
– Тогда не сомневаюсь, она сама отыщет дорогу домой. Не будем мешать ей. – произнес странник, поднялся и спрятал в карман лупу и записную книжку.
***
Мой дорогой Ватсон!
Наш разговор сегодняшним вечером, и в частности, Ваша убедительная критика привели меня в некоторое замешательств, и я, тщательно всё обдумав, готов видоизменить кое-что из того, что недавно полагал своей точкой зрения.
Я с покорностью приму тот взгляд и те поступки, которые Вы изложили в материале о происшествии весной 1903 года, – благо это было мое последнее дело перед выходом на пенсию.
Я знаю, что Вы еще будете корректировать рукопись перед публикацией, дабы скрыть имена истинных действующих лиц и места, где произошла история, и поэтому хочу предложить Вам подправить кое-что и в самом сценарии. Я полагаю, Вы примете смещение акцента с сада Профессора Прэсбери в сторону обезьяньих гланд (ну или каких угодно внутренних желез мартышки или лемура), присланных ему из-за границы таинственным незнакомцем. Готов допустить, что операция по пересадке гланд побочно отразилась на жизни и внешности Профессора, – скажем, он мог передвигаться, подобно шимпанзе, или был способен быстро забираться на деревья, или мог прыгать с ветки на ветку. Что если он мог с невероятной ловкостью перелезать через заборы, это было бы весьма устрашающей злодейской чертой. Готов допустить, что у него и хвост мог вырасти, – но думаю Вам, мой дорогой друг, это показалось бы весьма безрассудным дополнением. Хотя сколько бессмысленных витиеватостей, фразеологических лепнин в стиле рококо, Вы, Ватсон, уже позволили себе в своих рассказах, чтобы хоть как-то скрасить утомительную монотонность и однообразие моей работы.
Прилагаю к вашему будущему рассказу свой последний монолог, который в безапелляционном порядке прошу никоим образом не править. Я хочу, чтобы мое отношение к долголетию, к глупым методам людей продлить свои глупые никчемные жизни, – и вообще, к глупости самих этих попыток, – не допускали неверных толкований, были ясны каждому читателю. Вот моя заключительная речь:
В том, что человек сможет жить вечно, кроется реальная опасность. Представьте, что склонность человека потреблять, свойственная всякой юности, не будет иметь границ; что материальное или чувственное накопление будет самоцелью. Сколь низко тогда станет цениться жизнь, какой бессмысленной тратой времени она обернется! И как быть душе, спиритическому аспекту нашего бытия, которая не может не откликаться на зов свыше? Каким страшным припадком, какой изматывающей будет эта внутренняя борьба на выживание!
Да, пожалуй с такими словами я допускаю, что удалюсь от дел.
Как бы ни сложился рассказ, непременно вышлите его мне, прежде чем отнесете в издательство.
Остаюсь Вашим старым другом и покорным слугой,
Шерлок Холмс
11 августа 1922 года
Ист Дин, Суссекс
***
Они пришли на пасеку Старика Гао часам к четырем по-полудни. Все одиннадцать ульев, серых деревянных ящиков, размещались в три ряда позади некоей постройки, которую «хижиной» можно было назвать с большой натяжкой, – это была конструкция, состоящая из четырех столбов, крыши и плотной промасленной ткани, заменявшей стены и смягчавшей весенние дожди и летние грозы. На маленькой угольной жаровне, имевшейся внутри, можно было приготовить что-нибудь простое из еды, и, если накрыть и ее и себя одеялом, быстро согреться. Недалеко от неё, почти в самом центре сооружения, находился деревянный поддон, на котором лежала продолговатая подушка, вышитая старинным узором: и рисунком и мягкостью она очень напоминала керамику. Однако Старику Гао в те недолгие осенние дни, когда он собирал мед и оставался ночевать на пасеке, этого было достаточно. Два-три дня ему обычно хватало, чтобы управиться с делами: дождаться, пока угомонятся растревоженные ульи, пока извлеченные соты преобразуются в вязкую густую суспензию, которая стечет в подставленные снизу ведерки и горшки, которые он каждые раз приносил из дома. Даже на то, чтобы растопить опустевшие ячейки, липкие от воска, пыльцы, грязи и пчелиного помета, и собрать в небольшом горшочке натуральный пчелиный воск, а сладкую водянистую эмульсию скормить обратно пчелам. На этом его работа на пасеке заканчивалась, и он спокойно мог уходить обратно в деревню и продавать свой крошечный (по сравнению с двоюродным братом) урожай.
Когда незнакомец принялся исследовать все ульи, один за одним, Старик Гао с невозмутимым видом наблюдал: как он надел шляпу и опустил на лицо сеточку, как внимательно разглядывал поднимавшихся пчел, как потом вытащил лупу и осмотрел соты, и только в завершении всего королеву, – как всё это было привычно для варвара, и абсолютно бесстрашно. За время осмотра он не то что не раздавил ни одной пчелы, он даже больно не сделал ни одной из них. К последнему улью впечатление Старика Гао сменилось на противоположное: он был восхищен чужеземцем. Его глаза блестели, видя мягкие плавные движения, которые, как ему казалось, абсолютно не приемлемы для любого варвара.
Старик Гао разжег жаровню, собираясь вскипятить немного воды. Угли еще не успели как следует раскалиться, а незнакомец уже извлек из своего мешка, оставленного в углу, невиданное сооружение из стекла и металла. Он наполнил верхнюю половину водой из ручья, а в нижней разжег небольшой огонь. Прошло буквально несколько минут, и в его распоряжении оказался полный чайник кипящей воды. Достав из той же сумки две оловянные кружки и бумажный сверток, незнакомец бросил в воду несколько зеленых листиков, находившихся внутри свертка, и через несколько минут угостил Старика Гао таким вкусным и душистым чаем, который он не пробовал даже в гостях у своего двоюродного брата.
– Я бы хотел остаться здесь, в этом доме на все лето. – произнес незнакомец.
– Да это даже домом назвать нельзя! – ответил Гао. – Оставайтесь лучше внизу, у Вдовы Цянь найдется для Вас комната.
– Меня интересует жить здесь, – сказал незнакомец. – К тому же я прошу вас дать мне в аренду один из ульев.
Старик Гао засмеялся. Внизу жители деревни уже многие годы не слышали от него такой реакции; многие считали, что он отучился раз и навсегда; однако, в данный момент он смеялся и от восхищения и от удивления, бессильный сдерживать эти природные импульсы.
– Я совершенно серьезно говорю. – Продолжил незнакомец. Он положил между собой и хозяином пасеки, (оба сидели на полу, скрестив ноги) четыре серебряные монеты. Три из них были мексиканскими песо, серебряными кругляшками, распространившимися и прижившимися в Китае всего год назад, а одна – серебряным юанем, монетой гораздо большего диаметра. Старик Гао даже не понял, откуда незнакомец их достал, но ответ на этот вопрос не занимал его совсем, потому что перед ним лежало чуть-чуть больше его обычной годовой выручки. – Я плачу эти деньги, и хочу, чтобы кто-то приносил мне сюда еду. Я думаю, раз в три дня будет приемлемо.
Старик Гао ничего не ответил. Допив чай, он поднялся. Отбросив в сторону промасленную ткань полога, вышел наружу. Оглядев все одиннадцать ульев, выбрал тот, который содержал четыре вынимающиеся секции с сотами (и был единственным на всей пасеке) и подвел к нему незнакомца.
– Вот этот улей Ваш. – сказал он.
***
Растительные экстракты. Это же очевидно. Они действуют какое-то время, но оно всё равно подходит к концу, сколь бы ядовита субстанция ни была. Бедный Профессор Пресбери, натерпелся же он в последние дни своей жизни! Однако стоит признать, что выбранный им путь не был вовсе невежественным.
Занимаясь его делом, я исследовал всё: семена, стручки, коренья, даже порошок из сушеных листьев и стебля. Это была моя пища для ума, – я раздумывал, я выдумывал, я ломал голову, я рефлексировал, – под соусом из слов моего давнишнего учителя по математики: «любой интеллектуальной проблеме для решения достаточно лишь наличие интеллекта».
Всё что я брал от растения, – всё было смертоносным.
Я пытался выработать что-то из него, что не приводило бы к летальному исходу, однако мои методы были катастрофически неэффективны.
Это не было делом на три трубки. Первые времена я даже прикидывал в уме, сколько конкретно мне придется выкурить, (приготовившись скурить в общей сумме три сотни), как внезапно простая и содержательная идея, – нет, пока только намек, – указала мне направление. Способ обработки растений, позволяющий добиться удобоваримости для человеческого желудка.
В общих чертах, подобное исследование невозможно было провести в стенах моего кабинета на Бейкер-стрит. Вот так, осень 1903 стала переломным моментом в моей карьере. Я переехал в Суссекс и всю зиму читал. Мне было не важно, что попадало в мои руки: энциклопедии, монографии, памфлеты или пособия, – лишь бы это было издано на бумаге и касалось разведения пчел. В апреле 1904 мне, наконец, был доставлен от одного из местных фермеров первый выводок этих насекомых, и, подкованный лишь теоретическими знаниями, я помчался вперед.
Иногда я ловил себя на мысли, что удивлен, как Ватсон ни о чем не подозревает. Но опять же, это удивление не было искренним, потому что к умопомрачительной узколобости Ватсона я давно привык, и, признаться, иногда на нее рассчитывал. И всё равно, неужели он не догадывался, каково мне жить, когда нет необходимости расследовать какое-нибудь преступление, в какое мрачное уныние ввергает меня простаивание моего мозга.
Неужели он действительно поверил, что я отстранился от дел? Кому, как не ему, знать, каков я.
Он был у меня в гостях даже (если придерживаться строгих фактов), когда мне доставили посылку от фермера. Отойдя на почтительное расстояние, он наблюдал, как я пересаживаю пчел в подготовленный улей, – за этой длиннющим, перетекающим, жужжащим щупальцем, поместившимся в не такой уж и объемной коробке.
Он видел, что я вдохновлен, но ничего не сказал.
Годы потянулись своей чередой. На наших глазах развалилась Империя, доказало свою несостоятельность правительство; мы наблюдали отстраненно за бедными мальчишками, героически гибнущими в траншеях Фландрии. Моя точка зрения на мир и жизнь стала немного другой. Я осознал, что делаю не то, что правильно, а то, что способен сделать именно я.
Черты моего лица исказились до неузнаваемости. Пальцы, в основном суставы, распухли и ломили (хотя надо отдать должное моей закалке и моему иммунитету, приобретенному за время исследования ядов в лаборатории, – без них последствия многочисленных укусов, сопровождавших первые годы, были бы куда серьезнее). Ватсон, мой дорогой, неустрашимый и глупый Ватсон, исхудал, побледнел и поседел; его усы теперь почти сливались с кожей. Но моя решимость не изменилась ни на унцию. Я хотел завершить свои исследования. Тем более, что в них явно наблюдался прогресс.
Луга Саут Даунс, как никакое иное место, подошли для проверки моей первоначальной гипотезы. Я построил пасеку по своим собственным чертежам, ну и конечно, точно следуя указаниям, данными Лэнгстротом; не тешу себя мыслью, что избежал ошибок, свойственных начинающему пчеловоду, а что касается исследовательской работы, загубил один или два урожая, что, уверен, ни один из фермеров никогда не делал и вряд ли сделает в будущем. «Ядовитый улей», – так, думаю, назвал бы Ватсон рассказ, если бы стал описывать то, чем я был занят. По мне, так уж лучше бы он назывался «Тайна Завороженной Курсистки», – это привлекло бы больше внимания к собственно научной основе всего дела, если кому-то вдруг захочется изучить мои работы. (Дело в том, что Миссис Тэлфорд, повариха в местном Институте Женщин, не проконсультировавшись со мной, взяла с одной из полок в хранилище горшочек с медом и использовала его для печенья, – и я сперва гневно отчитал её, и сразу же, дабы загладить подобное поведение, пообещал лично приносить несколько горшочков непосредственно к ней на кухню. Естественно, урожай с уникальных ульев я теперь хранил в отдельном, запирающемся на ключ, шкафу).
Я заводил улей с датскими пчелами, в качестве эксперимента. С немецкими, с итальянскими, с кавказскими и со словенскими, с Краньско-Горы. Конечно, мое сердце обливалось кровью от мысли, что вся британская ветвь пчеловодства практически погибла. Мне посчастливилось найти и купить у старинного Аббанства в Сент-Элбэни крохотный улей с уцелевшей королевой, и я вкладывал все свои силы и эмоции в его восстановление.