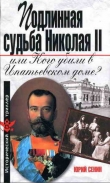Текст книги "Наследство последнего императора. 2-я книга"
Автор книги: Николай Волынский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– Что же видели?
– Они перед вылетом переоделись и загримировались, чтоб походить на мужчин, точнее, на своих же спасителей. На немецких авиаторов.
– Вот как? А отчего же вы так уверены?
– Там, понимаете ли, в комнате великих княжон найдены их волосы, в косы заплетённые и отрезанные. Четыре косы, волосы разного цвета от четырёх разных барышень. Кроме Романовых, там никаких девиц никогда с такими косами не было.
– Волосы? – удивился Горшеневский. – Зачем же их отрезать?
– А вы попробуйте надеть на голову авиаторский шлем, если у вас длинная коса.
– И пробовать не буду! – засмеялся Горшеневский.
– Позвольте, сударь, – робко подал голос Чемодуров. – Это не то. Это не совсем те косы…
– Как так «не те»? – обернулся к нему Модестов. – Вам что-то не понравилось, любезный?
– Нет-нет… Всё нравится, – испугался старик.– Только вот… Великие княжны никаких кос не обрезали.
– Тогда чьи же? Кому принадлежат? Может, вам? – раздражённо спросил Модестов.
– Великим княжнам.
– Ничего не понимаю – чушь! – заявил Модестов. – Отрезанные косы четырёх княжон никто не отрезал!.. Совсем разум, что ли, потеряли в тюрьме?
– Видите ли, сударь, – осторожно произнес Чемодуров. – Эти косы, числом четыре, княжны привезли с собой из дому. Из Царского Села. Им там, дома, пришлось остричься – насовсем, по-солдатски под нуль, когда заболели. В Царском Селе, зимой, в прошлом году, в марте. От хвори у них волосы выпадать стали. Вот и отрезали. И с собой косы привезли.
Модестов брезгливо посмотрел на старика и повернулся к Горшеневскому.
– Деменция полная, – с раздражением кивнул он в сторону бывшего камердинера. – Неужели не видите?
– М-да, – неопределённо протянул Горшеневский.
– Или вот ещё, – продолжил Модестов. – Родственница императрицы – сестрица родная Лизавета, в девичестве Элла, которая из Алапаевска сбежала. Всем давно известно, что эта Елизавета Фёдоровна, бывшая великая княгиня, которой Бог подарил мужа-педераста, – профессиональная германская шпионка, как и её августейшая сестрица. Состояла на полном жаловании у кайзера – он ей тоже кузен. И прикрытие себе придумала для отвода глаз военной контрразведки – монахиней заделалась. Шпионь себе направо и налево, и ничего.
– Да-да, – подтвердил Горшеневский. – Я тоже слышал. Бесспорно, кто же заподозрит монахиню да к тому же игуменью Марфо-Мариинской обители? К смертной казни была приговорена за шпионаж. Но выкрутилась, сука немецкая. Сестричка Александра Фёдоровна, императрица бывшая, конечно, споспешествовала.
– Несомненно! Без императрицы не обошлось! – подхватил Модестов. – А сама императрица была агентом кайзера, и тоже на содержании. Как тут не выручить сестру, а тем более коллегу по шпионажу! Вот вам и разгадка, почему именно братец Вильгельм озаботился царской семьёй, а не братец Георг, английский король. Кто же ещё согласится приютить германских шпионок? Какая держава? Только Германия.
Чемодуров попытался что-то возразить, даже привстал, но, видно, в последний момент передумал и снова опустился на стул, совершенно огорчённый.
– Что? – спросил его капитан. – Что-то добавить хотите?
– Да, сударь, добавить, – несмело проговорил камердинер. – Кайзер Вильгельм, хотя и в родстве состоит… Однако ж императрица Александра Фёдоровна терпеть Вильгельма не могла, можно сказать, всегда ненавидела. Сильнее ненавидела она разве что Керенского.
– Да-с, – вздохнул капитан. – Керенский… Герострат проклятый, масон, хуже Ленина. Всё развалил, всё пустил по ветру. Попадись мне, проклятый адвокатишка, эсер, мизерабль! Вот первый виновник всех наших бед. На части живого мерзавца перочинным ножом разрезал бы! Ещё в прошлом июле можно было на что-то надеяться, ввести диктатуру и сохранить государство и армию. Но как только Ааронка Керенский объявил своего же брата по заговору генерала Корнилова66
25 августа 1917 года генерал Л. Г. Корнилов с верными ему войсками предпринял, в сговоре с Керенским, попытку восстановить хоть какой-то порядок в столице и стране. Для этого свергнуть Временное правительство и установить военную диктатуру – до Учредительного собрания. Предполагался дуумвират – Керенский-Корнилов. Но в последний момент Керенский испугался, предал Корнилова, объявил изменником и посадил генерала и его единомышленников в тюрьму. Генерал Корнилов бежал на Дон, где казацкая старшина поначалу не приняла ни его, ни первых добровольцев белого движения, выступивших сначала против Временного правительства, потом против большевиков.
[Закрыть] изменником, все полетело в пропасть. Безвозвратно. Ленин, конечно, тоже мерзавец, но гораздо меньший – хоть не врёт о своих целях.
– Только вот насчёт Ааронки, – заметил Модестов, – вы, дорогой коллега, не совсем правы. Точнее, совсем неправы.
– Как? – даже приподнялся на стуле капитан Горшеневский. – Что вы имеете в виду? Что имеете возразить? В чем я не прав?
– В том, что именно Керенский является перед державой и перед всеми русскими людьми преступником номер один, вы абсолютно правы. Расстрела для него мало. Да и живьём разорвать на части – несправедливое наказание. Слишком гуманное. Вот только насчёт его еврейства – чушь, сказки для дураков. Или для тех, кто свою бездарность оправдывает кознями всемирного кагала. Пархатое еврейство Керенского или того же Ленина есть увёртка для нашей кретинизированной интеллигенции и тупого офицерства. Для части офицерства, для части его, конечно! – поспешил добавить чиновник, со значением глядя в глаза Горшеневскому. – Для той, которая хоть и заблуждается, но – вполне добросовестно.
– Так-так, продолжайте, пожалуйста, – невозмутимо кивнул капитан.
– Керенский родился не так далеко от наших мест, там же, где и Ленин, – в Симбирске. По отцу он из духовенства, по матери – из потомственных дворян, хотя одна из прабабок Керенского была крепостной крестьянкой. Это точно, я специально интересовался. А вот что Керенский был масоном, – правда, но все молчат. И что всё Временное правительство было масонским – опять молчат! А почему молчат? Да потому что тайна сия ещё более страшная, и мировой кагал перед масонством просто меркнет.
– Вы так убеждены? – удивился Горшеневский.
– Абсолютно! – заверил Модестов.
– Да откуда же у вас такие сведения? Такие деликатные сведения?
– Деликатные – да, – с усмешкой согласился Модестов. – Из надёжного источника, будьте уверены77
Двоюродный брат Модестова, приват-доцент Александр Порфирин, состоял в русской военной масонской ложе петроградского филиала «Великий Восток Франции». Был ли сам Модестов масоном, точно не известно (авт.).
[Закрыть].
Горшеневский встал, подошёл к окну и задумался, глядя во двор.
– И все же с волосами у вас, сударь, не то вышло-с, – подал голос Чемодуров, обращаясь к Модестову.
– У меня? С моими? – расхохотался чиновник и шлёпнул ладонью себя по лысине. – Куда уж дальше?
– Великие княжны здесь уже стрижеными были. Только шляпки надевали, когда выходили из дому, чтоб внимания лишнего не привлекать, – веско заявил Чемодуров.
Модестов только усмехнулся.
– Вам бы… Вам бы, Терентий Иванович, отдохнуть, как следует. И поспать. Чтоб не воображали себе невесть что и не сочиняли.
– Да, надо бы, – грустно согласился старик. – Уж, наверное, в Тамбовской…
Вошёл давешний унтер. Принёс тюремную миску с горячей гречневой кашей и оловянную ложку. Поискал глазами, куда бы поставить.
Модестов взял свои костыли и тяжело поднялся со стула.
– На мой стол ставь, служивый, – предложил он. – Идите сюда, Терентий Иванович, откушайте на здоровье.
Чемодуров сидел над тарелкой и все не мог приступить к еде. Плакал, роняя слезы в кашу. Горшеневский громко кашлянул.
Старик поднял на него глаза и затих. Медленно проглотил первую ложку, посидел и зачерпнул второй раз.
– Вот и хорошо, – ободряюще улыбнулся капитан. – Вот и славно.
Когда Чемодуров доел и попытался встать, комната закружилась, и он с трудом устоял.
– Благодарю покорно, – выговорил Чемодуров. – Теперь я могу к себе?
– К себе? Это куда? – спросил капитан. – Ах, да! Понял. В камеру?
– Да, в неё. Больше некуда. Соснуть бы немного…
– Проводи! – приказал Горшеневский унтеру.
Тот бережно взял старика под локоть и повёл к двери.
У порога Чемодуров остановился. Обернувшись, спросил:
– Господин капитан, а я мог бы?.. Сходить туда… в дом?
– Ипатьева?
– В его, в его…
– Боюсь, как бы вы не опоздали, – отозвался Модестов. – Не наши, так чехособаки там половину разграбили.
– А мне ничего не надо, – сказал Чемодуров. – Моего там ничего нет. Мне поглядеть.
– Наверное, можно, – сказал Горшеневский. – Только следует вам завтра, никак не сегодня – теперь поздно, с утра обратиться в штаб начальника гарнизона, а там – к полковнику Жереховскому или капитану Малиновскому. При штабе составлена дознавательская группа – особая. Упомянутые господа офицеры её возглавляют. Они-то вам и нужны. Может статься, и вы им понадобитесь.
– Так я, значит-с, того… – Чемодуров стряхнул несуществующую пыль с колен. – Того-с… э-э-э, значит, как ваша милость скажет, я могу идти-с?
– Идите, идите! – энергично закивал Горшеневский.
А Модестов хмуро пожал плечами и уставился в бумаги, всем видом своим говоря старику: надоел, без тебя дел полно.
– А потом у вас есть куда идти? – спросил Горшеневский.
Но старик не ответил и даже не обернулся. Он застыл у открытого окна и смотрел поверх цветов герани, в горшках на подоконнике, на тюремный двор.
– Терентий Иванович! – позвал капитан.
Старик вздрогнул и выговорил изумлённо:
– Спасён! Спасён, слава Господу и Царице Небесной! Чудо – чудо! – и широко перекрестился.
– Знакомого увидели? – заинтересовался Горшеневский, подходя к окну.
Прискакал и Модестов на одной ноге, оставив костыль у стола.
– Ещё один воскресший? – ядовито осведомился он.
3. АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, КАМЕРДИНЕР ИМПЕРАТРИЦЫ

А. А. Волков, бывший камердинер императрицы Александры
ПОСРЕДИ тюремного двора, вымощенного мелким круглым булыжником, стоял деревенский мужик – рослый, в косую сажень, в изношенной крестьянской поддёвке, отороченной серой смушкой и собранной на талии в гармошку, в полосатых портах и разбитых лаптях с грязными онучами. Чёрная с проседью борода, нечёсаная, свалявшаяся. Грязно-серые лохмы вылезли из-под полуразваленной шляпы, которая годилась разве что на воронье гнездо или для огородного пугала. Пришелец нерешительно оглядывался, словно не понимал, куда зашёл.
К мужику шагнул тюремный надзиратель.
– Чего-сь надоть, лапоть рваный? Не в трактир припёрся. Стража, зачем пропустили?
Крестьянин вдруг выпрямился – резко, по-военному, и прямо-таки ошпарил взглядом надзирателя:
– Ты что же, Спиридонов, харю суконную свою так высоко задрал? – осведомился мужик. – Ведь сам – крестьянский сын! Как и я, между прочим. А часовой хорошо знает, кого надо пропустить. Лучше тебя знает.
Надзиратель вздрогнул, отшатнулся, выпучил по-рачьи глаза и густо побагровел.
– Ваша милость, госпо… господин Волков? Вы ли это?..
– Трудно меня узнать? Верю, – усмехнулся мужик. – Но все-таки это я.
– Прошу покорнейше извинить, – резво согнул спину надзиратель. – Радость-то какая видеть вас в добром здравии!..
– Врёшь ты всё, Спиридонов. И не рад ты вовсе, и здоровье моё не так чтобы очень доброе.
– Вы к нам по делам? Чем могу служить-с?
– Ты уже мне услужил, когда я арестантом у тебя был. Начальник тюрьмы здесь?
– Ещё с паужина88
То же, что и ланч у англичан.
[Закрыть] не пришли-с. Да вот они – пришли, стало быть-с!
В железную калитку в воротах протиснулся толстяк в мундире и направился в контору. Пройдя мимо крестьянина, внезапно остановился, обернулся:
– Тебе чего надобно, любезный?
И вдруг вскричал:
– Господин Волков! Алексей Андреевич! Да вы ли это? Глазам своим не верю!..
– Тем не менее, это я, любезный Пинчуков. Резво ты мимо проскакал. А Спиридонов мне и вовсе чуть было плетей не пообещал. Совсем загордились вы тут при большевиках, вознеслись…
Начальник бросился к пришельцу, схватил обеими руками его руку и затряс так сильно, что с его круглой физиономии слетели капли пота. Потом отошёл на шаг, продолжая с изумлением разглядывать гостя с ног до головы.
– Трудно, трудно вас узнать! Как вы, однако, измучены. Значит, спаслись… А ведь мы вчера по вам панихиду отслужили!
– Благодарю за заботу, – усмехнулся Волков.
– Из Перми телеграмма приходила, что вас там в тюрьме были расстреляли!
– Значит, не до конца расстреляли… В такое, наверное, поверить нелегко.
– Нелегко! – подтвердил Пинчуков, снова хватая Волкова за руку. – А вы вон какой герой: прямо из зубов красных драконов вырвались!
– Кто сей? – спросил Модестов старика Чемодурова, но тот лишь всхлипывал и мелко крестился.
– И вы не знаете, Сергей Феофилактович?
– Теперь знаю. Не сразу догадался, – ответил Горшеневский. – Перед вами – господин Волков Алексей Андреевич, личный камердинер бывшей императрицы Александры. Натурально цепным псом при ней состоял. Никто мимо него проскочить не мог. Даже сам Распутин. Это же какие тайны царского двора он носит в себе!
– И я вспомнил, – сказал Модестов. – В списке заложников, расстрелянных в Пермской тюрьме. Из придворных там содержались генерал Татищев, матрос Нагорный… Отдельной графой – великая княгиня Елена Петровна со сворой холуёв. Ещё графиня Гендрикова, гофлектрисса Шнейдер. И Волков. Все расстреляны! Кроме княгини. Как же он объявился с того света? Воленс-ноленс подумаешь, что без колдовства не обошлось, – хмыкнул он.
– Какое колдовство, Алексей Автономович! – отмахнулся капитан Горшеневский. – Не один он такой на свете. Нужно просто хотеть жить. И, конечно, немного везения. Про Чистосердова, присяжного поверенного и члена революционной управы, до большевиков, слышали?
– А что Чистосердов?
– Прямо из-под винтовок, из расстрельного строя бежал. Совсем голым. Как праотец Адам.
Тем временем Пинчуков, увидев, как по воротнику поддёвки Волкова поползла вошь, сказал решительно:
– Знаете что, Алексей Андреевич? Пойдёмте ко мне. Баньку-с велю истопить, жена соберёт поужинать, чем Бог послал, наливочка найдётся – ещё довоенная, точнее, дореволюционная.
– Благодарю сердечно, – сказал Волков, растрогавшись. – Банька… – он мечтательно закрыл глаза. – Настоящее чудо… А вот и наш Терентий Иванович!
С крыльца конторы сошёл Чемодуров и, шаркая подгибающимися ногами, поковылял к Волкову. Они обнялись.
– Как, Терентий Иванович? Не получилось в Тамбовскую?
Чемодуров заплакал. Пинчуков и Волков переглянулись и одновременно вздохнули.
– Государь, – всхлипывал Чемодуров. – Государь, я узнал сейчас…
– Да, – сказал Волков. – И я узнал, ещё в Перми. Расстрелян, Царство ему Небесное… А что с семьёй?
– Нет, не так! – воскликнул Чемодуров. Слезы у него моментально высохли. – Жив Государь! И Государыня! И детки! Врали красные бесы про расстрел. Врали!
– Вот как! – удивился Волков и снова переглянулся с Пинчуковым. Тот закатил глаза и развёл руками.
– Ведь вы тоже всё знаете! – с упрёком сказал Чемодуров начальнику тюрьмы.
– Не могу утверждать наверное, – осторожно возразил Пинчуков. – Я только четыре дня как в городе. Как большевики заложников стали хватать, загодя выехал подальше, в деревню, к родным супруги. Тем и спасся. Иначе не быть живу.
– А теперь на старую службу? – поинтересовался Волков.
– Не знаю. Комендант чехословацкий временно назначил другое начальство. Но и мне работа найдётся, – обещали в прежней должности. Тюрьма, хоть и пустая, но скоро будет тесно. Чистку большую чехи по городу делают.
Издалека послышался сухой треск – словно сломали пучок хвороста.
– Вот! – кивнул в сторону прозвучавшего залпа Пинчуков.– Уже вовсю чистка идёт. И то верно – иначе все вражьи дети тут не уместятся. Что, Терентий Иванович? Хотите что-то сказать?
Чемодуров не ответил – он съёжился и втянул голову в плечи.
– Так! Считаю, мы всё решили, – заявил Пинчуков.– Сейчас велю запрягать. Если новое начальство позволит.
Капитан Горшеневский разрешил заложить пролётку, но кучера не дал. Пинчуков сам взял вожжи, через полчаса они были на самой большой барахолке Екатеринбурга. Здесь Волков выбросил свою страшную поддёвку со вшами, порты и лапти. Не торгуясь, купил ещё хороший макинтош на тёплой подкладке, за ним поношенный английский френч, яловые офицерские сапоги с одной уцелевшей шпорой и новенькие французские кавалерийские галифе – явно украденные со склада союзников. Белье покупать не понадобилось: Пинчуков, с разрешения Горшеневского, взял два комплекта исподнего у тюремного каптенармуса. Один для Волкова, второй чуть ли не силой сунул в руки Чемодурову: старик отказывался поверить в такое счастье.
Вечером на квартире начальника тюрьмы Чемодуров и Волков – оба красные, блаженно распаренные, в чистом белье (старое со всем населением сразу ушло в печь) – сидели за столом, где в блюде лежал поросёнок с пучком зелени в зубах – истекающий жиром, в коричневой корочке с белыми трещинами. Грибы были солёные и маринованные, к ним ещё зелёные полосатые шарики арбузиков, мочёных в бочке. Был и квашеный, по-местному, в бочке, омуль, от которого шёл такой дух, что непривычных жителей столицы Чемодурова и Волкова едва не вырвало прямо за столом. Но после первой рюмки кедровой водки, своей, не монопольной, омуль уже не показался тошнотворным.
После второй рюмки Чемодуров загрустил, глядя на ветки яблонь, которые через открытое окно протянулись прямо в горницу. Слегка оживился старик, лишь когда принесли самовар. Он выпил только два стакана, после чего Пинчуков велел прислуге отвести Чемодурова, засыпавшего на ходу, в постель.
А сам открыл ещё штоф – с другой водкой, прозрачно-зелёной, на черносмородиновых почках. Выпили ещё и ещё, после чего Волков свою рюмку отодвинул в сторону и покачал головой:
– Ещё совсем недавно думал: всё! Жизнь кончена навсегда, а Россия отныне – сплошной красный ад. Бесконечный. Ужас без конца.
– Ну что вы, родной мой! – возразил Пинчуков. – Их песенка спета. Вся Россия восстала против большевизма. Фронт на юге, другой на севере, третий на Волге, у нас уже четвёртый, свой, сибирский фронт образовался. И союзники – Антанта у нас, а у большевиков никого.
– Да, нет у них союзников, – согласился Волков. – Пока. На нынешний момент.
– И завтрашний момент им ничего не обещает, – заверил Пинчуков. – Все передовые державы на нашей стороне. Даже Северные Американские штаты. Даже Япония! С такими союзниками…
Он многозначительно двинул бровями и налил ещё по одной.
– Союзники … – с неожиданной ненавистью произнес Волков и тут же оборвал себя. – А знаете, ваш омуль – настоящий деликатес. В Европе такого не знают.
– И не скоро узнают.
– А что до союзников… Не хочется самому верить, но жизнь заставляет. Это не союзники, любезный Григорий Степанович.
Вилка с омулем застыла в руке Пинчукова.
– А кто же?
– Грабители и мародёры. Неужто вы верите, что вооружённые иностранцы пришли, исключительно чтобы устроить наше счастье, что мы для них – прямо-таки братья родные? Чтобы потом, после краха большевиков, откланяться и уйти с такими же чистыми душами и пустыми карманами, как и пришли?
– Конечно, любая помощь должна быть вознаграждена, благодарность, знаете ли… – уклончиво произнес Пинчуков.
– Им не нужна наша благодарность. Им нужно наше добро! Причём всё и сразу. Выгодно будет белых поддерживать – поддержат. Предложат большевики больше золота, нефти, угля, леса – станут Ленин и Троцкий союзничкам братья родные…
– Вы, верно, очень измучились в эти дни, – ещё дальше отвёл от темы Пинчуков.
– Скрывать не стану. Измучился. Не дни – месяцы.
– Как же вам удалось уйти?
– Долгая история… Вам, действительно, интересно?
– Очень, Алексей Андреевич.
– Хорошо…
…Мы прибыли в Екатеринбург из Тобольска в мае, второй партией, с великими княжнами и цесаревичем. Сначала большевики увезли в дом Ипатьева только членов царской семьи. Потом комиссары возвратились к поезду.
– Волков! На выход.
Беру чемодан, была у меня ещё банка варенья, но приказали банку оставить. Сказали: привезут мне её потом. Так и не привезли. Не жаль мне варенья, только зачем врать? Сказали бы честно: чаю с малиной захотелось, я бы так отдал.
Нас – гофмаршала Татищева, графиню Настеньку Гендрикову, госпожу Шнейдер Екатерину Адольфовну – отвезли в тюрьму. Меня с Татищевым к заложникам, женщин в больничную камеру, обе были хворы. Через неделю пришёл новый приказ, ночью: «На выход – на вокзал».
– Меня тогда уже не было, – удовлетворённо отметил Пинчуков. – Господь вразумил: в самое время уехали мы с Макарьевной моей.
Волков кивнул:
– Да, нужно правильно читать знаки судьбы … – он скользнул взглядом по яблоневой ветке, обронившей в комнате два жёлтых листка. Потом посмотрел вверх на синий бархат за окном, где прошуршал ветер, заглушая сонный треск цикад, а когда затих, цикады затрещали ещё дружнее. В тёмном бархате медленно возникла свежая большая звезда.
– Да, – вздохнул Волков. – До чего же мы бываем легкомысленны. Надеемся, что всё само образуется, что Бог за нас всё сделает, – опасная привычка, я бы сказал смертельная. Чисто русская. Когда нас беда выучит?..
– Ещё по одной? Хороша получилась? – спросил Пинчуков.
– Изумительна!
Прожевав кусок омуля, Волков заметил:
– Хороша ваша водка. Даже в дворцовых погребах такой не сыскать… было. И, в самом деле, своя?
– Своя, своя. Чужой не держим. Даже монопольки. А насчёт знаков… Вы их видели? Читали?
– Да. Надо сказать, что тогда уже стали доходить до нас слухи о скором наступлении белых. Комиссары засуетились. Всем служащим выдали жалованье за три месяца вперёд. Понемногу уголовников, кто помельче, выпускать стали. Самое удивительное, заложников начали освобождать. И до нас очередь скоро должна была дойти – мы часы считали.
Однажды ночью вызвали в контору меня и женщин. Заложили две пролётки. В одну меня посадили с красноармейцем. На удивление, солдат был совсем без оружия. В другую пролётку посадили Гендрикову и Шнейдер – вообще без охраны. Спрашиваю солдатика, куда везёт нас. Он отвечает – по-доброму так, вежливо:
– Или к семье царской, в Пермь, или прямо в Москву.
От такого ответа у меня сердце зашлось. Ведь мы уже знали о расстреле семьи, хотя не верили поначалу. Болтали также, что расстреляли только Государя, а семья в Перми. Но мы в эту сказку не поверили. Значит, плохо наше дело.
Приехали на вокзал. Солдатик говорит:
– Вы здесь побудьте немного, а я схожу – ваш вагон, арестантский, поищу.
Ушёл красноармеец. Ночь. Вокруг ни души. Я слезаю с извозчика – кучер молчит. Будто не видит меня. Подхожу к женщинам. Говорю шёпотом:
– Слезайте. Уходим. Нельзя нам дальше ехать.
А они… Глазам и ушам своим не поверил: руками замахали, в один голос запричитали:
– Нет-нет! Не пойдём, да и зачем? Нас же в Москву везут!
Дескать, если тебе что пригрезилось, то уходи сам. И этот кучер всё слышит, но делает вид, что ему наши разговоры неинтересны.
– На тот свет нас везут, – говорю. – Поймите, наконец! Опомнитесь. Верьте мне!
Они снова руками машут: слышать не хотим.
– Господи! – перекрестился Пинчуков. – Помяни царя Давида и всю кротость его. Ведь это был момент!
– Да, – вздохнул печально Волков. – Само провидение говорило: «Спасайтесь! Даю вам случай!» Я знак понял, а женщины… За ошибку свою, за наивность недопустимую они очень скоро заплатили. По высшей цене. И я мог заплатить. Потому что никуда не ушёл.
– Так что же вы-то?! – воскликнул Пинчуков.
– Понимаете ли… Я и сам тогда засомневался. Может, и, в самом деле, зря паникую? Ведь кто оставит смертников без охраны? А нас оставили. Значит, не на погибель везут? Но вот если я сейчас уйду, они вполне могут женщин расстрелять. Из злости на сбежавшего.
Тут и красноармеец наш вернулся. И смотрит так странно, будто удивляется, что мы ещё здесь.
Повёл нас в арестантский вагон. Там много народу уже было, тут же и великая княгиня Елена Петровна, принцесса сербская. При ней самая настоящая миссия – чуть не дипломатическая: майор армии Мичич, солдаты Милач, Божич и, представьте себе, Абрамович. И секретарь миссии – русский майор Смирнов.
– Они же подданные иностранной державы!
– Да, кроме майора… И Елены Петровны. Она – супруга великого князя Иоанна Константиновича. Значит, уже наша. Приехала мужа повидать и хлопотать об освобождении. Причём, от имени правительства Сербии. Князь содержался в Алапаевске, в ссылке. На тюремном режиме.
Большевики не пустили Елену Петровну в Алапаевск, приказали возвращаться домой. Она ни в какую: без мужа никуда не поеду. Сказала, что правительство Сербии хлопочет перед Лениным об освобождении князя. Тогда ей предложили пожить в гостинице. И поместили в тюрьму. Сказали – здесь самая лучшая в городе гостиница. Шутники!
Короче, привезли нас в Пермь и сразу в тюрьму.
– Там, я слышал, порядки потяжелее, чем у нас, – заметил Пинчуков
– Как сказать… Я не почувствовал. Смотритель тамошний благожелательным человеком оказался. Но кормили плохо.
На прогулку выходили только я и майор Смирнов. Когда хотели, тогда и гуляли: запретов не было. Сербы не ходили, боялись: во дворе иногда заключённых расстреливали. На глазах у всех охрана убила бывшего жандармского офицера Знамеровского. В тот день к нему жена с сыном из Гатчины приехали, но свидания им не давали. Знамеровский и выразил неудовольствие, сказал охране что-то резкое. Его тут же и убили. Прямо во дворе.
И вот как-то ночью приходит в камеру надзиратель:
– Кто Волков? Одевайтесь.
Привёл в контору. Там ждут трое красноармейцев. При оружии. Простые, славные русские парни.
Пришли Гендрикова и Шнейдер. Настенька Гендрикова спрашивает, куда нас теперь.

Внутренний вид Пермской губернской тюрьмы
– В пересыльную тюрьму.
– А потом?
– А потом в Москву. Это уж точно на сей раз, не сомневайтесь.
Настенька и Шнейдер повеселели: не на расстрел. Мне же стало очень тревожно – до холода в сердце.
Когда набралось заключённых одиннадцать человек, мы колонной, попарно, тронулись в путь.
Вели нас пятеро конвоиров, командиром матрос – весёлый, с папироской.
Провели нас через весь город. Скоро на Сибирский тракт вышли. Я удивляюсь: где же пересыльная тюрьма? Один арестант мне отвечает:
– Давным-давно миновали пересыльную. Я знаю, я сам тюремный инспектор.
Значит, на расстрел.
И тут я внезапно окоченел, будто в лёд превратился. Ни страха, ни ужаса – никакого чувства. Будто я – уже и не я.
Оглянулся, вижу, старушка Шнейдер с корзиночкой в руках едва ковыляет. Настеньку не вижу.
Едут навстречу крестьяне, несколько возов с сеном. Остановились, заговорили с конвоем.
Матрос дал команду свистком – стали и мы. Смотрю на ближайший воз, на лошадь, которая сзади чужого воза стала и сено из него щиплет.
И тут словно молния ударила меня. Будто со стороны себя самого вижу: как я в темноте проскальзываю между лошадью и возом на другую сторону дороги и в лес. Хорошо, прыгну, а дальше? Вдруг там забор! Ведь не видно ничего.
Снова свисток матроса:
– Вперёд!
Мы идём.
Стало чуть-чуть светать. Оказалось, не зря сомневался: по обеим сторонам дороги высокая изгородь, выше моего роста.
И вдруг наши конвойные такие любезные, такие услужливые стали! Предлагают каждому, у кого вещи, помочь нести дальше. Всё ясно. Чтоб не мёртвых грабить. Отобрали корзиночку и у Шнейдер. А в корзиночке той, я ещё в тюрьме видел, две деревянные ложки, несколько кусочков хлеба да ещё мелочь какая-то женская. Пустяки, в общем. Всё равно взяли, мародёры.
Свисток. Матрос кричит:
– Направо!
Свернули на другую дорогу, боковую, – в лес. Здесь уже забора нет. Снова свисток.
– Стой! – кричит матрос.
Снова возы с сеном нам навстречу. И эти остановились, мужики с конвоем разговаривают.
Тут слышу голос где-то в глубине у меня – то ли в сердце, то ли в душе. И говорит мне с укоризной: «Ну что же ты стоишь, глупец! Беги!» И сразу как будто кто-то сильно толкнул меня в спину, хотя сзади не было никого. Но боль от толчка была натуральная и затихла не скоро. «Спаси, Господи!» – подумал я. Перекрестился, пригнулся, проскочил между возом и лошадью, перепрыгнул канаву и пустился изо всех сил в лес.
Лесок был редкий, мелкий, сплошной валежник под ногами. Сзади кричат: «Стой! Стреляю!» Я ещё больше наддал, как вдруг споткнулся. И в тот же момент раздался выстрел, потом второй. Пули просвистели над головой.
Слышу: «Всё, готов!» И потом: «Не останавливаться, вперёд!» И свисток матроса.
Выдержал я минуту, резко вскочил и, петляя, добежал до больших деревьев.
Я мчался без остановки, продирался через кусты, завалы бурелома, через валежник. Провалился в болотце по пояс, выбрался, слышу: винтовочные залпы вдалеке.
Потом узнал: расстреляли всех, а на старушку Шнейдер, видно, из-за её нищей корзинки, даже пулю пожалели. Прикладом снесли ей полчерепа, головной мозг выпал на землю. Слава Богу, хоть скончалась в секунду. А некоторые умерли не сразу, их опять же прикладами добивали.
Волков замолчал, потёр ладонью грудь с левой стороны.
– Ещё стопочку? – предложил Пинчуков. – Как лекарство.
– Лекарство? – усмехнулся Волков. – Разве есть лекарство от ежедневных ужасов? Главное, какой смысл большевикам в таких зверствах? Врагов себе плодят. Чем им угрожала Шнейдер? Настенька? Я?
– Слушайте! – перебил Пинчуков и замер.
Вдалеке раздались несколько сухих винтовочных залпов.
– Ну, а это как назвать? – хмуро произнес Волков. – Чехи проводят чистку среди русского населения. Кого вычищают? Кого расстреливают? Кто им дал право? Без следствия и без суда… Изверги, хуже большевиков. По крайней мере, не лучше. «Освободители»…
Пинчуков промолчал и налил ещё по одной.
– Сколько я бежал, не знаю. Казалось, полдня, пока не упал без сил под какой-то стог. Лежу, перед глазами круги цветные, ничего не вижу вокруг, грудь горит внутри, и сердце сейчас лопнет. И кажется мне – да так натурально кажется – будто все это на самом деле со мной уже было. И лес, и воз с сеном. И матрос со свистком, и лошадь, таскающая сено…
Пролежал я долго. Уснул, и приснилось мне, что я умер. Проснулся в страхе – нет, живой. Встал и пошёл наудачу в ту сторону, где вроде бы должен быть Сибирский тракт. Вообще, нужна любая дорога, а уж она куда-нибудь да приведёт.

Слева направо: Е. А. Шнейдер, И. Л. Татищев, Пьер Жильяр, А. В. Гендрикова, В. А. Долгоруков. Тобольск, 1917 г.
Когда вышел на дорогу, солнце пошло на закат, быстро темнело. Странно, мне поначалу совсем не хотелось есть. Потом захотелось зверски. Я шёл пшеничным полем, пшеница уже колосилась вовсю. Я срывал колосья, растирал в ладонях, но зерна ещё не затвердели, и погрызть досыта не удалось, но хоть мучного молока из колосьев пожевал. Когда совсем стемнело, ушёл в лес ночевать, снова нашёл стог.
Попытался уснуть, но какой там сон – холодно! И страшно: чуть звук какой или ветка треснет, сердце от ужаса заходится.
Утром снова вышел на дорогу. Навстречу крестьяне. Женщины, в основном. По народной привычке, здороваются с незнакомым и при том как-то странно смотрят на меня. Потом понял: ведь я без шляпы, только носовым платком голову обмотал. И оттого всем непривычен и подозрителен.
Проходил мимо какого-то хутора. На огороде пугало. Снял я с него рваную шляпу, нацепил на голову и пошёл дальше. Теперь встречные не удивлялись.
Голод меня уже с ног валил. Долго собирался с духом, наконец, в следующей деревне постучал в самую бедную избу. Вышла худая пожилая крестьянка. Попросил кусочек хлеба. Она вынесла довольно большой ломоть, а когда попросил попить, принесла воды и стала извиняться, что квас у неё не готов.
– Надо было побогаче дом выбрать, – хмыкнул Пинчуков
– Не скажите, – возразил Волков. – Богатые, как правило, прежде ищут выгоду. Выгодно отдать меня красным – отдали бы. Бедный человек чаще добр, сердечен и честен. Можете мне поверить. Хотя и среди бедных вы тоже встретите редкостных подлецов.