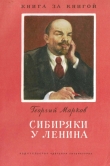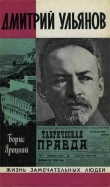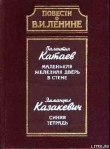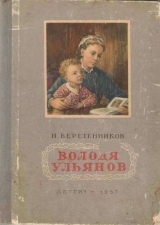
Текст книги "Володя Ульянов"
Автор книги: Николай Веретенников
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Николай Иванович Веретенников
Володя Ульянов


Книгу «Володя Ульянов» написал двоюродный брат В. И. Ленина – Николай Иванович Веретенников.
Книга рисует образ юного Ленина. В детстве Н. И. Веретенников дружил с В. И. Лениным, вместе они проводили каникулы, вместе играли.
Н. И. Веретенников родился в 1871 году в Саратове, окончил Казанский университет и многие годы преподавал физику и математику.
После Великой Октябрьской социалистической революции И. И. Веретенников отдал много сил воспитанию советской молодежи.
При активном участии Н. И. Веретенникова были созданы музеи В. И. Ленина в Казани и в деревне Кокушкине.
Книга «Володя Ульянов» неоднократно издавалась и переведена на многие языки.
Н. И. Веретенников умер 31 марта 1955 года.

Расскажу вам о том далеком времени, когда наш великий вождь Владимир Ильич Ленин был мальчиком.
На мою долю выпало исключительное счастье: я был свидетелем детства и юности Владимира Ильича и разделял с ним игры и развлечения. Его мать, Мария Александровна Ульянова, и моя мать – родные сестры.
Володя Ульянов родился и жил до окончания гимназии в Симбирске, на Волге. Теперь этот город называется Ульяновск.
Каждое лето семья Ульяновых приезжала в деревню Коку́шкино. Туда же приезжала на лето из Казани и вся наша семья.
Много лет прошло с тех пор, но воспоминания о Володе так свежи, так ярки, что кажется, точно это было только вчера.
Я ясно представляю себе невысокого, коренастого мальчика со светлыми, слегка вьющимися, необыкновенно мягкими волосами над выпуклым лбом; с искрящимися, порой лукаво прищуренными карими глазами; смелого, энергичного, очень живого, но без суетливости, резвого иногда до резкости, никогда, однако, не переходившей в грубость.
Таков был Володя в те далекие дни. Он был разговорчив, но далеко не болтлив, наблюдателен, чрезвычайно остроумен и так находчив, что не терялся никогда и ни при каких обстоятельствах.
Поездка в Симбирск
Как-то весной собралась мама в Симбирск, к тете Маше, и обещала взять меня с собой в гости к Володе. Ему было тогда лет десять – одиннадцать, а мне – на одиннадцать месяцев меньше.
Трудно передать, как я обрадовался, что увижу Володю. Я был прямо в восторге.
А старшие братья и сестры поддразнивали меня.
– Вот поедешь повидаться с Володей, – говорили они, – зато летом он уже не приедет в Кокушкино.
Я не был плаксой, но тут разревелся и решительно отнимался от соблазнительной, первой в жизни поездки на пароходе и кратковременного пребывания в Симбирске, лишь бы не лишиться летом общества Володи в Кокушкине.
Только когда вмешалась мама и дала обещание, что наша поездка не помешает приезду Володи на каникулы, я успокоился.
В Симбирске Володя встретил меня очень радушно. Бегали мы во дворе и в саду, играли в пятнашки, горелки и черную палочку, но больше всего мне понравилась игра и солдатики. Володя сам выреза́л их из бумаги и раскрашивал цветными карандашами. Было две армии: одна у Володи, другая у его младшего брата, Мити.
Солдатики стояли благодаря отогнутой у ног полоске бумаги. Размер этой полоски был строго установлен – одинаковый в обеих армиях, но различный для солдат и генералов. У последних полоски были шире, и поэтому они были более устойчивы. Армии строились в боевом порядке по краям большого стола, и начинался бой.

Стреляли горошинами, щелкая их пальцами. Бойцам, но падавшим от удара горошиной, выдавались ордена, разрисованные Володей. Чтобы позабавить меня и подразнить братишку, Володя незаметно для Мити острым гвоздиком прикалывал у некоторых солдатиков подставки к полу. Эти воины от ударов горошины легко сгибались, но не падали, а Митины солдаты и даже генералы валились. Это очень удивляло Митю. Он не догадывался о шутке брата и невероятно горячился, настойчиво стараясь сбить именно этих несокрушимых воинов.
Приезд Ульяновых в Кокушкино
Еще зимой, в письмах, мы выясняли, когда и кто из Ульяновых приедет летом в Кокушкино. В Симбирске тогда жили и мой старший брат – преподаватель гимназии, и сестра – учительница городской школы.
Я переписывался с Володей и очень стыдился своего плохого почерка. Володя советовал мне взять себя в руки и исправить почерк. Я нисколько не сомневаюсь, что на моем месте Володя так и поступил бы и никакие трудности его не остановили бы.
Ульяновы приезжали в Кокушкино каждое лето, но иногда не все вместе.
Отец Володи, Илья Николаевич, был директором народных училищ. Нередко случалось, что он то задерживался дольше в Симбирске, то отлучался из Кокушкина в Казань на день – два по делам службы.
Обычно к приезду Ульяновых мы были уже в деревне. Семья у нас была большая. Моя мать работала стенографисткой, и если работа ей позволяла, то, как только у нас, младших, кончались занятия и начинались каникулы, мы переселялись в Кокушкино; в Казани оставалась только старшая сестра Люба, служившая на телеграфе.
Ехать надо было на лошадях. Еще накануне отъезда, бывало, бежишь во двор посмотреть, тут ли ямщики, и вертишься возле лошадей, сгорая от нетерпения.

Илья Николаевич и тетя Маша с детьми, приехав из Симбирска на пароходе, останавливались у нас в Казани и затем уже на лошадях отправлялись в Кокушкино. Ни в Казани, ни в Симбирске железной дороги тогда не было.
Володя садился обычно на козлы и шутил с ямщиком:
– А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?
Он вообще любил шутки, и крестьяне называли его «забавником».
Один ямщик нюхал табак. Его спрашивают:
– Зачем нюхаешь?
– Это, – отвечает ямщик, указывая на тавлинку[1]1
Тавлинка – табакерка из бересты.
[Закрыть] с нюхательным табаком, – мозги прочищает.
Так как за понюшкой следует чиханье, то Володя говорил одно время, услышав какую-нибудь глупость: «чихни», то есть прочисть мозги.
Мы знали всегда заранее день, когда должны были приехать Ульяновы в Кокушкино, и старались угадать час их приезда. Целым обществом отправлялись пешком встречать их километра за два, на перекресток, к постоялому дворику. Иной раз мы не угадывали время приезда и выходили два – три раза в день. Встретив, всей компанией, радостные и веселые, возвращались домой.
С приездом Ульяновых в Кокушкино наступал для нас настоящий праздник. Отменялись занятия иностранными языками, подготовка к переэкзаменовкам, и общий тон детского веселья повышался. Мы, ребята, все время висли на плечах у Ильи Николаевича и буквально ловили каждое его слово. Называли мы его «Илья-и-Николаич», считая, что у него два имени.
Он очень любил детей и никогда не отстранял их. Только взрослые останавливали нас, оберегая спокойствие нашего любимца.
Кокушкино
На крутом берегу реки стоял так называемый «большой», или «старый», дом, а в нескольких метрах от него, через дорогу, – флигель.
Впоследствии в этом флигеле Владимир Ильич жил во время ссылки в 1887/88 году.
Но кто же мог тогда подумать, что здесь, в Кокушкине, в этом самом флигеле, Владимир Ильич будет отбывать свою первую ссылку!
Недалеко от флигеля раскинулась маленькая деревня с мельницей.
О деревне Кокушкино соседние крестьянки говорили так: «Смотрю я на вашу деревнюшку и думаю: что за чуда така она махонька, да така развеселая», разумея, вероятно, ее довольно красивое расположение на высоком берегу реки Ушни.
В болоте, окаймлявшем пруд у дома, в теплые летние вечера задавали концерты лягушки. В саду, расположенном рядом с флигелем, и на деревьях по берегу реки заливались соловьи.
В Кокушкине все было ветхо: в большом доме печи испорчены – не топились, крыша протекала, лодка дырявая, купальня тонула, мостки к ней проваливались. Не было средств поддерживать все в порядке.
Над этими недостатками мы подтрунивали, но они нисколько не смущали нас. Нам всем тогда казалось, что ничего красивее Кокушкина нет. Если кто-либо видел новые места, мы спрашивали:
– Ведь хуже Кокушкина?
– Да… Нет реки… Мало деревьев…
Даже то, что из Казани надо было ехать сорок километров по плохой грунтовой дороге, нравилось нам. Поездки в деревню переносили в другой мир, далекий от обыденной жизни и надоевшего за зиму города.
Наш дед, Александр Дмитриевич Бланк, был врачом. Он жил в деревне Кокушкино и лечил крестьян.
Еще при жизни деда было принято, чтобы все его дочери приезжали в Кокушкино. Для Марии Александровны предназначалась комната в мезонине старого дома, которая так и называлась «ульяновской», а флигель был построен для остальных четырех его дочерей, приезжавших также с семьями на лето.
Эти летние «съезды» продолжались и после смерти деда, и тогда размещались так: тетя Маша с мамой – в угловой комнате большого дома, Илья Николаевич – в кабинете, Володя со мной – в соседней комнате.
Володе нравилась эта комната тем, что в нее можно было проходить через окно.
Вполне узаконенный путь через окно был установлен и во флигеле, в среднюю большую комнату, где стоял самодельный бильярд с войлочными бортами. С северной стороны от дороги в эту комнату входили из цветника через балкон, а с южной, из другого цветника, – через окно, к которому даже вела с земли маленькая лестница (сходни).
Летним днем в этой бильярдной комнате была сосредоточена жизнь всего дома.
Вскочив часов в девять с постели, еще до чая, мы с Володей бежали сюда.
Нас привлекал не только бильярд, на котором всегда кто-нибудь играл, – здесь обсуждались будущие прогулки, отсюда собирались идти купаться или кататься на лодке, составлялись партии в крокет; у старших братьев шли приготовления к охоте, изготовлялись фейерверки и т. п.
Здесь как-то склеили большущего змея, величиной с дверь. Побежали через плотину на луг запускать его. Володя еще советовал привязать колясочку, чтобы змей тащил ее.
Сбежались и крестьянские ребята запускать нашего диковинного змея. Он взлетел и действительно тянул веревку с большой силой. Мы все схватились за веревку, дернули ее рывком, и змей поломался.
Игры
Володя любил играть на бильярде.
Часто играли «на игрока», то есть проигравший выбывал из игры и следующую партию был только зрителем.
Чаще всего Володя сражался на бильярде со мной, как с более сильным игроком. У меня с ним произошел такой разговор.
– Почему, – спрашивает Володя, – ты играешь на бильярде лучше, чем Володя Ардашев (двоюродный брат)?
– Да, – говорю, – он меньше играет или не так любит эту игру, как я.
– Нет, ты не заметил: он как-то не так держит кий.
– А и в самом деле: я обхватываю кий правой рукой сверху, он – снизу. Может быть, поэтому, а я и внимания не обратил!
Однажды я предложил Володе играть в шахматы. Он уже тогда хорошо овладел этой игрой.
– Сыграем, когда ты будешь играть как следует, – ответил он. – Ты не играешь, а «тыкаешь» (то есть двигаешь фигуры не продумав).
Я стал настаивать и сказал:
– Вот на бильярде я лучше тебя играю, а не отказываюсь.
– Ну, это уж твое дело, – ответил Володя.
Конечно, ни на минуту я не подумал отказаться от игры с ним на бильярде.
Володя относился ко всем играм вдумчиво и серьезно. Он не любил легких побед, а предпочитал борьбу.
Володя и его сестра Оля установили у нас строгие правила игры в крокет, вывезенные из Симбирска (они и там играли). Например, они не позволяли долго вести шар молотком и требовали короткого удара.
Гимнастическими упражнениями Володя не увлекался. Он отличался только в ходьбе на ходулях, да и то мало занимался этим, говоря, что в Кокушкине нужно пользоваться тем, чего нет в Симбирске.
Из раннего детства
В Кокушкине Володя всецело отдавался отдыху и играм, между тем как в Симбирске даже в раннем детстве он много читал. Книги он брал в Карамзинской библиотеке, куда ходил со своей старшей сестрой, Анечкой.
Шутя Анечка спросила меня:
– А что, Коля, рассказывал тебе Володя, как он в библиотеку ходил?
– Нет, не говорил. А что?
– Ты его расспроси. Это интересно.
Володя не сразу и не очень охотно рассказал, что по дороге в библиотеку на улице ему попадались гуси, которых он дразнил. Гуси, вытягивая шеи, нападали на него, и, когда эта атака принимала слишком настойчивый характер, он ложился на спину и отбивался ногами.
– Почему же не палкой? – задал я вопрос.
– Палки под рукой нет. Впрочем, все это пустяки, дурачество, да и было это чуть не два года тому назад.
Чрезвычайно живой и резвый, Володя ни со мной, ни с другими ребятами никогда не ссорился. Он просто отходил, отдалялся от тех, кто не подходил ему. И говорить нечего: у него никогда не бывало драк или потасовок со сверстниками, а между тем, отстаивая какое-нибудь положение, он всегда очень горячо спорил.
Володя держался очень просто и естественно, никаких претензий на первенство не проявлял. Это первенство проступало, так сказать, непроизвольно и поэтому никого не задевало и не вызывало зависти, а лишь служило примером.
Он обладал неизъяснимым обаянием, привлекавшим окружающих.
Купанье
Весело постукивает мельница, жужжат и кружатся мухи, палит зноем жаркий июльский день. С реки, от купальни, доносятся крики и смех ребят.
Самое большое удовольствие для нас – это купанье, купанье с утра до вечера.
– Ты сколько раз сегодня купался, Володя?
– Три. А ты?
– А я уже пятый.
Нередко к концу дня у ребят насчитывалось таких купаний до десятка.
Володя, я и другие ребята – все мы с самого раннего детства любили полоскаться в воде, но, не умея плавать, барахтались на мелком месте, у берега и мостков, или в ящике-купальне. Старшие называли нас лягушатами, мутящими воду. Это обидное и пренебрежительное название нас очень задевало. Я помню, как и Володя, и я, и еще один из сверстников в одно лето научились плавать. Вообще в семь – восемь лет каждый из ребятишек переплывал неширокую реку, а если без отдыха на другом берегу мог и назад вернуться, то считался умеющим плавать. Когда маленький пловец переплывал речку в первый раз, его всегда сопровождал кто-либо из более старших.
Но курс плаванья на этом не кончался – мы совершенствовались беспредельно: надо было научиться лежать на спине неподвижно; прыгать с разбега вниз головой; нырнув, доставать со дна комочек тины; спрыгивать в воду с крыши купальни; переплывать реку, держа в одной руке носки или сапоги, не замочив их; проплывать без отдыха до впадения ручья, прозванного нами Приток Зеленых Роз (так как там росли болотные растения, напоминающие по форме розы), или даже до моста у соседней деревни Черемышево-Апокаево, а это уже близко к километру.
Эта деревня растянулась по дороге, ведущей в Кокушкино, длинным рядом крестьянских изб. Ближняя к Кокушкину половина состоит из русского, а другая половина – из татарского населения. Не потому ли она и носит название Апокаево? Апокай – по-татарски «сестрица».
Лодка
Немудрено, что, так сроднившись с рекой, мы выдумывали всякие затеи, чтобы использовать полностью все, что она может дать. Спустили на воду старую большую лодку, человек на пятнадцать. Она уже прогнила, протекала и с трудом поднимала трех – четырех мальчиков, да и то приходилось непрерывно вычерпывать воду ковшом. Мы приделали к ней вместо весел колеса, сами смастерили вал с лопатками по концам и ручками посередине, приладили его поперек лодки и поехали по реке: один правил, другой вертел вал, а третий вычерпывал воду.
Однако этого было мало, это нас не удовлетворяло, да и одному было тяжело вертеть вал с колесами. Хотелось поехать всей компанией, человек в шесть. Конечно, мы отлично понимали, что лодка не выдержит нас всех и пойдет ко дну.
– Так что же? Тем лучше, тем интереснее: посмотрим, как мы сумеем спасаться! – воскликнул Володя.
Надев такие рубашки и штаны, которые все равно дожидались воды и мыла, мы попрыгали все на наш «пароход», или, как назвал его Володя, «рукоход».
Чтобы не намочить сапоги, сняли их и сложили на носу лодки, предполагая в случае «кораблекрушения» схватить их и доставить в руках на берег.

Володя, сняв сапоги, оставил их в купальне, предложив и другим так поступить. Однако никто не послушался этого предусмотрительного совета.
Как мы и предполагали, лодка, несмотря на то что выкачивали воду уже в два ковша, скоро наполнилась водой и пошла ко дну.
Бросились не спасаться, а спасать сапоги. Хватали какие попало. Спас чью-то пару и Володя. Но один из нас успел схватить только правый сапог, а другой, левый, утонул.
– Вот теперь на одной ноге и попрыгаешь! – сказал Володя.
Все прыснули. Только горемычному неудачнику было не до смеха.
Общим советом решили искать сапог. Развесив одежду для просушки на прибрежных кустах, стали нырять один за другим, а то и по два сразу, но безуспешно: вытаскивали со дна тину, иногда коряги, но пару к сапогу несчастливца выудить никому не удавалось.
Раздавались голоса, что поиски надо прекратить: сапог – не топор, не прямо упал на дно; к тому же мы набаламутили воду, прыгая с погружающейся лодки, да и в уши набралась вода при многократных ныряньях.
– Ну, воду выбьешь о подушку, – говорит Володя. – Не оставлять же сапог на дне! Вы как хотите, а я буду искать.
И, не дожидаясь ответа, Володя прыгнул головой вниз и довольно скоро вынырнул, держа что-то рукой в воде.
Мы подумали, что это опять коряга, но нет – то был сапог.
У ключа «Поварня»
В маленькой деревеньке Кокушкино все ребята были или много старше, или значительно моложе нас, да Володя и вообще любил общаться со взрослыми, более отвечавшими ему по развитию и интересам.
Вот почему и в эпизодах, описываемых мною, почти не фигурируют маленькие.
А сейчас я расскажу, как Володя ходил слушать пение мальчика-татарина Бахави́я.
Помню яркий солнечный день. Вскочив с постели, бежим вперегонки с Володей вниз по крутой тропинке среди деревьев, осыпающих нас каплями утренней росы, и по зыбким мосткам в купальню, бросаемся в воду, плаваем сажёнками, стараясь высунуться как можно больше из воды, лежим на ее сверкающей поверхности, кувыркаемся, ныряем и, насладившись купаньем, бодрые, освеженные, идем домой.
Солнце поднимается выше и выше. На обеденный отдых и водопой пригнал небольшое кокушкинское стадо подпасок Бахавий.
Володя любил слушать пение этого веселого парнишки. Бежим через плотину мимо мельницы на луг по другую сторону реки Ушни, к запруженному ключу «Поварня».
Бахавий, увидев Володю, затягивает татарскую песенку.
Общее содержание песни в передаче Бахавия таково: крестьянский мальчик был подпаском, потом батрачил, а затем его «забрили в солдаты».
Из этой старинной песни видно, что в те далекие времена простые люди ненавидели царскую солдатчину с ее нелепой муштрой и издевательствами.
У меня до сих пор остался в памяти один из куплетов этой песни на татарском языке:
Сары, сары, сап-сары,
Сары чечек саплары,
Сагынырсын, саргаирсын,
Кильсэ сугыш чаклары.
Что в переводе значит:
Желтые, желтые, очень желтые,
Желтые ветки цветов,
Соскучишься, пожелтеешь.
Когда наступят дни воины.
Не успел Бахавий кончить песню, как появился пастух Антон и еще издали начал бранить Бахавия за то, что тот слишком рано пригнал стадо.
– Да как же без часов узна́ет он время? – заступается Володя.
– Отмерил четверо лаптей, вот и узнал! – возражает Антон.
Однако ни Володя, ни я не понимаем, как это лапти могут заменить часы.
Только после наглядного разъяснения Антона и Бахания мы поняли, что в полдень в это время года отбрасываемая человеком тень равна длине четырех его ступней. (Предполагается, что ступня пропорциональна росту.)
Володя тут же припомнил о гномоне – первом астрономическом инструменте (вертикальной палочке, отбрасывающей тень), при помощи которого первые астрономы – тоже пастухи – определяли высоту солнца.
Простой, без всякого поучительства рассказ Володи заинтересовал не только меня и Бахавия, но и старика Антона, хотя Антон всем был недоволен в этот день: он ходил в деревню Кодыли получать за пастьбу деньги и пришел ни с чем.
– «Должен неспорно, отдам, да не скоро», – ворчит Антон. – А у меня махорки ни зерна, да и рубаха с плеч валится, и купить не на что.
Володя вслушивается и в пение Бахавия, и в горькие слова Антона.
Он радуется солнцу, которое ярко светит; не пугает его и заслонившая солнце тяжелая грозовая туча.
Он впитывает в себя всё, всё, как впитывает земля влагу.
Отзывчивость Володи на светлые и темные стороны жизни поразительна.
Разговоры о прочитанном
Володя оказался куда более меня осведомленным в литературе, несмотря на то что в детстве, во время перенесенных мною тяжелых болезней, мне читали русских и иностранных авторов, да и сам я читал немало и был гораздо лучше знаком с классической литературой, чем большинство ребят моего возраста.
Володя очень любил расспрашивать о прочитанном:
– Это читал?
– Нет.
– А это?
– Нет.
На конец надоедает отвечать все «нет» да «нет», говорю «да».
– «Дым» Тургенева читал?
– Да…
Но Володя ясно слышит неправду и поэтому задает коварный вопрос:
– А повесть «Литвинов» читал?
Я, скромно уклоняясь от вторичной лжи, твердо заявляю:
– Нет, не читал.
– Ну, вот и соврал, что «Дым» читал! Если бы читал, то знал бы, что Литвинов – герой романа «Дым». Никакой повести «Литвинов» Тургенев и не писал.

До сих пор помню, как был я смущен не столько тем, что мало читал, но главное тем, что соврал и так ловко и быстро был уличен.
Никогда потом не вспоминал Володя этого разговора и никому не рассказывал о нем.
Этот случай рисует не только находчивость и остроумие Володи, но выявляет еще более ценные черты характера: не показную, а истинную, действительную деликатность, такт, заботливое и внимательное отношение к людям.
Кто бы другой мог удержаться, чтобы не подразнить или, по крайней мере, так или иначе не напомнить о моем посрамлении!
Позднее Володя говорил мне, что он особенно ценит литературные типы, обладающие твердостью и непоколебимостью характера.
Он обратил мое внимание на рассказ Тургенева «Часы», тогда еще мне неизвестный. Прочитав этот рассказ, я понял, что Володе должен был понравиться герой рассказа Давыд, причем именно за характер его.
Когда, кажется на следующее лето, я спросил Володю, не потому ли нравится ему этот рассказ, он мне ответил утвердительно, говоря, что такие люди, как Давыд, достигают всего, к чему стремятся.
Володя очень бережно относился к книгам: я никогда не видел у него разбросанных или растрепанных книг.
При всей своей живости он отличался поразительной аккуратностью, точнее – пунктуальностью, я бы назвал требовательностью к мелочам (отнюдь не мелочностью, когда, по пословице, за деревьями леса не видят).
С возрастом эта черта выступала еще более подчеркнуто. Много позднее Мария Ильинична рассказывала, что, когда она была девочкой и с ней занимался Владимир Ильич, она подала ему тетрадь, сшитую в поспешности черной ниткой. Он заметил, что так не годится, и, взяв белую нитку, сам перешил тетрадь, очевидно с целью выработать у младшей сестры тщательное отношение к работе и ученью.