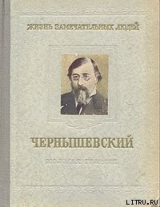
Текст книги "Чернышевский"
Автор книги: Николай Богословский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
От Владимира до Нижнего Чернышевский ехал в ямщицком тарантасе. Остановившись в Вязниках на постоялом дворе, в ожидании, пока перепрягут лошадей, он разговорился с пожилым степенным мещанином из Коврова, торговавшим, как оказалось, старопечатными книгами и рукописями. Иван Антипович Кувшинников (так звали книготорговца) заметил в разговоре, что у него есть, между прочим, харатейная рукопись XIII века, заключающая в себе «Минию Цветную». Чернышевский выразил желание взглянуть на нее. Кувшинников отправился к своему тарантасу и через несколько минут притащил огромный пергаментный фолиант в кожаном черном переплете с медными застежками. Рассматривая рукопись, Чернышевский увидел, что первые пятьдесят шесть листов и последние сто двадцать были действительно началом и концом «Минин Цветной», а средняя часть рукописи – двести листов – оказалась списком какой-то летописи без начала и конца. Чернышевский пришел в восторг от мысли, что напал на редчайший список русской летописи, который на целое столетие был древнее Лаврентьевского.
– Так это «Миния Цветная»? – спросил он торговца, сдерживая проявление радости.
– Да.
– Давно она у вас в руках?
– Всего третьи сутки.
«Вот почему торговец не успел познакомиться подробнее с содержанием рукописи», – подумал Чернышевский.
– Где вы достали ее?
– Купил в Москве у государственного крестьянина Малмыжского уезда Офросимова, торгующего старыми книгами.
– Дорого вы надеетесь взять за нее в Нижнем?
– Да, по крайней мере, рублей сто, – сказал Кувшинников не очень уверенным тоном.
– Сто рублей берите, если хотите, в Нижнем: там деньги бешеные, а я вам, пожалуй, дам двадцать пять рублей.
Кувшинников стал торговаться, и, наконец, сошлись они на сорока пяти рублях.
Чернышевскому не с руки была эта покупка, так как денег с ним было мало, но упустить находку ему не хотелось. «Бог знает, кому во владение попадется она в Нижнем, – подумал он, – быть может, раскольникам, у которых пролежит в неизвестности еще десятки лет». Он понимал, что уплаченная им цена слишком низка, и не хотел оставлять в заблуждении Кувшинникова. Когда ямщик сказал Чернышевскому, что тарантас готов, он, улыбнувшись, обратился к торговцу:
– Рукопись, которую вы мне продали, стоит не сорок пять, а я не знаю, сколько рублей: быть может, пятьсот, быть может, тысячу, а то и больше. Но я устрою так, что вы не останетесь в накладе. За сколько я продам ее по возвращении своем в Петербург, все передам вам, только вычту свои сорок пять рублей. Вот вам мой петербургский адрес…
Сказав это, Чернышевский направился к тарантасу, простившись с изумленным Кувшинниковым, и через минуту уже выехал с постоялого двора…
Никогда еще расставание Николая Гавриловича с отцом не было столь грустным, как в этот раз. Предчувствуя, что это свидание было последним, он плакал, прощаясь с отцом, но не сказал никому ни слова о мнении Боткина насчет болезни Гавриила Ивановича.
Во время пребывания Чернышевского в Саратове дом их стал часто посещать саратовский полицмейстер, который очень хотел познакомить своего сына с Николаем Гавриловичем, утверждая, что сын его большой поклонник писательского таланта Чернышевского. Однако Николай Гаврилович уклонился от этого знакомства, а впоследствии Н.Д. Пыпин узнал случайно от одного из чиновников, служивших в канцелярии губернатора, что последний получил перед приездом Николая Гавриловича в Саратов секретное предписание учредить слежку за Чернышевским и не давать ему заграничного паспорта, если он обратится с подобною просьбой.
В двадцатых числах сентября в Петербурге начались волнения и демонстрации студентов, вызванные распоряжением властей о закрытии университета. 25 сентября, после сходки, сотни студентов направились через Невский проспект на Колокольную улицу, к квартире попечителя учебного округа Филипсона. «Это было, действительно, еще никогда невиданное зрелище, – пишет Шелгунов. – Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется…» По распоряжению начальника штаба корпуса жандармов были вытребованы полицейские и жандармские команды. Попечитель округа обманно успокоил студентов, обещав им, что лекции начнутся на следующей неделе. Демонстранты разошлись, а ночью были произведены многочисленные аресты студентов.
Полицейские агенты доносили, что во время демонстрации один из студентов явился на квартиру Чернышевского с сообщением о начавшихся волнениях. Чернышевский же, как говорилось в доносе, вышел из своей квартиры на улицу, подошел к толпе и беседовал со студентами.
В другом донесении говорилось, что один офицер стрелкового батальона, выступавший на сходках, рассказывал нескольким студентам в гостинице, что литератор Чернышевский занимается теперь составлением адреса государю с жалобами на действия властей и в случае невозможности довести этот адрес до сведения царя будет распространять его в городе.
В третьем донесении передавался слух о Чернышевском как составителе прокламации, вывешенной в университете незадолго до его закрытия.
Уже вскоре по возвращении в столицу Чернышевский писал отцу: «Нашел я Петербург встревоженным разными слухами по поводу введения новых правил в университете. Тут молва, по обыкновению щедрая на выдумки, приплетала множество имен, совершенно посторонних делу. Не осталось сколько-нибудь известного человека, о котором не рассказывалось бы множество нелепостей. Подобные вздорные толки могут доходить и до Саратова. Я не упоминал бы о них, если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не беспокоились понапрасну».
Нас не должен обманывать этот тон человека, будто бы и вовсе не причастного к тому делу, о котором он рассказывает, и даже равнодушного к нему. Этот тон очень хорошо знаком нам еще по юношеским письмам Чернышевского. Ведь почти в таких же выражениях студент Петербургского университета писал своим родным в Саратов в самом начале 1850 года о «пустом шуме», поднятом в столице в связи с делом Петрашевского. Пусть они не думают, что здесь было что-нибудь серьезное. Никакого внимания не заслуживало это дело. «Кажется, жалели, что и подняли шум из-за него; но раз поднявши шум, разумеется, уже нельзя же было кончить ничем».
Вот и теперь он спешит предупредить и успокоить больного отца, до которого могут дойти слухи о причастности сына к волнениям и беспорядкам, происходящим в столице.
Через двадцать дней после того, как было написано это письмо, Гавриила Ивановича не стало…
События в Петербурге принимали все более угрожающий характер. 12 октября, после столкновения студентов с войсками, были произведены массовые аресты (свыше двухсот человек). Все арестованные были доставлены в крепость и затем на другой день под строгим конвоем в Кронштадт до разбора их дела следственной комиссией.
Теперь полиция уже не выпускала Чернышевского из поля своего зрения ни на один час. За его квартирой была установлена систематическая слежка. Прислуга была подкуплена.
По сводкам наблюдателей полиция знала, кто посещает Чернышевского и кого посещает он сам. Она знала, что он «велел допускать к нему ежедневно не всех, а принимать во всякое время только нижепоименованных лиц: Некрасов, Панаев, Антонович, Огрызко, Добролюбов, Кожанчиков, Елисеев, Городков, Пекарский, Серно-Соловьевич, Воронов, Боков». Для остальных посетителей Чернышевский назначил среду, до трех, «в этот день у него бывает чрезвычайно много посетителей, не исключая офицеров».
Агенты приметили, что с некоторого времени Ольга Сократовна сама стала встречать в дверях посетителей Чернышевского, тогда как прежде дверь им открывала гувернантка. Они обратили внимание и на то, что Чернышевскую теперь часто можно было видеть у второго от подъезда окна: она пристально следила глазами за каждым, кто направляется в этот подъезд.
Иногда она сопровождала Николая Гавриловича, если он выезжал из дому по делам. Как-то раз следивший за ними агент увидел, что, дожидаясь мужа около одного из домов на Васильевском острове, Ольга Сократовна дважды выходила из саней, поднималась на крыльцо и все всматривалась в прохожих, как бы стремясь распознать, кто ведет секретное наблюдение за действиями ее мужа.
Полиции было известно, что в последнее время Чернышевский чаще всего бывает у больного Добролюбова.
Дни жизни любимого друга Чернышевского были уже сочтены. Туберкулез, обострившийся вследствие тяжелых душевных переживаний, связанных с начавшимися арестами революционеров и жестокой расправой со студентами, сломил его. «Подобные слухи, вести и факты, подтверждающие эти вести, окончательно придушили его, он слег в постель, чтобы уже не встать с нее», – свидетельствует Антонович.
В воспоминаниях Авдотьи Панаевой сохранилось описание его последних минут в ночь с 16 на 17 ноября:
«Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго, и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.
За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати… Я подошла к нему, и он явственно произнес: «Дайте руку…» Я взяла его руку, она была холодная… Он пристально посмотрел на меня и произнес: «Прощайте… подите домой! скоро!» Это были его последние слова… в два часа ночи он скончался».
20 ноября состоялись похороны Добролюбова на Волковом кладбище. В одном из донесений агентов Третьего отделения дано описание этого дня:
«Сегодня, в 9 ? часов утра, был вынос тела умершего 17-го числа литератора Добролюбова. В квартиру его на Литейной собралось более 200 человек литераторов, офицеров, студентов, 6 гимназистов и других лиц. Всем бывшим там раздавали его визитные карточки. Гроб несли на руках до самого кладбища, но похороны его были довольно бедные. В кладбищенской церкви, во время отпевания тела, намеревались было говорить речи, но священники этого не позволили.
Когда гроб вынесли на паперть, то выступил Некрасов и стал говорить весьма невнятно, сквозь слезы, почти шепотом о причине смерти Добролюбова, приписываемой им сильному душевному горю, вследствие многих неприятностей и неудач, присовокупив, что он умер, к несчастью, слишком рано, мог еще много совершить, ибо он занимался делом, а не голословил, и советовал последовать его примеру. Речь Некрасова трудно было расслышать.
Потом говорил Чернышевский. Начав с того, что необходимо объяснить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «Вот, господа, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг[45]45
Недавно донесено было, что Чернышевский, возвращаясь вечером домой от Добролюбова, привез с собою узел с бумагами.
[Закрыть]: он разделяется на две части – на внесенное им в оный до отъезда за границу и на записанное после его возвращения. Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти; лиц я называть не буду, а скажу только: N. N.».
Тут Чернышевский начал читать статей восемь, приблизительно следующего содержания:
«Такого-то числа пришел ко мне (Добролюбову) N. N. и объявил мне, что в моей статье сделано много помарок.
Такого-то числа явился ко мне N. N. и передал, что за мою статью, которая была напечатана там-то, он получил выговор.
(Подобного содержания было несколько параграфов).
Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были беспорядки.
Получено уведомление, что беспорядки были и в Киеве.
Дошли сведения, что некоторые из «наших» сосланы в Вятку; другие же – бог знает, что с ними стало.
Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству».
«Но главная причина его ранней кончины, присовокупил Чернышевский, состоит в том, что его лучший друг[46]46
М.Л. Михайлов.
[Закрыть] – вы знаете, господа, кто! – находится в заточении…»
В заключение Чернышевский прочитал два довольно длинных стихотворения Добролюбова, в весьма либеральном духе написанные, из которых первое оканчивалось словами:
«Прости, мой друг, я умираю оттого, что честен был»; а второе словами: «И делал доброе я дело среди царюющего зла!»
Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова, клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвою правительственных распоряжений и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, – одним словом, что правительство уморило его.
Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собою заметили: «Какие сильные слова, чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют…»
Повидимому, уже начиная со второй половины 1861 года, царское правительство готовилось в самом недалеком будущем «обезвредить» Чернышевского. Опасаясь, что он, разгадав этот план, покинет пределы России, министр внутренних дел Валуев отдал секретное распоряжение всем губернаторам о невыдаче Чернышевскому заграничного паспорта. Третье отделение продолжало вести систематическую слежку за квартирой писателя. В агентурных донесениях перечислялись имена и фамилии всех посетителей его квартиры с указанием рода их занятий: в таком-то часу, такого-то числа у Чернышевского были такие-то студенты, такой-то литератор, такой-то офицер…
Сто тринадцать подобных донесений, отмечавших, кто посещал Чернышевского и куда он отлучался сам, накопилось с осени 1861 года до дня его ареста. Не довольствуясь «наружным наблюдением», полиция позаботилась и о «внутреннем». В один из декабрьских дней подкупленная служанка Чернышевских доставила в Третье отделение бумаги, отданные ей Николаем Гавриловичем для сожжения.
В доносах, направляемых в Третье отделение, ярые крепостники требовали скорейшей расправы с вождем освободительного движения: «…ежели вы не удалите его, то быть беде, – будет кровь, – ему нет места в России – везде он опасен… скорее отнимите у него возможность действовать… Избавьте нас от Чернышевского – ради общего спокойствия», – взывали к полиции враги великого демократа.
Самому Чернышевскому они направляли анонимные письма, полные угроз и оскорблений.
Травля Чернышевского реакционной печатью, также носившая характер доносов, достигла в это время апогея. В одной из статей «Современника» отмечалось, что особенно ревностно этим делом была занята газета «Северная пчела», предполагавшая даже учредить раздел под названием Чернышевщина. «Все зла, какие только содеваются в мире, непременно содеваются по злоумышлению Чернышевского или при его несомненном участии, видимом или невидимом содействии, влиянии и т. п.».
Доклад шефа жандармов Долгорукова о внутреннем состоянии России в 1861–1862 годах, представленный Александру II в апреле 1862 года, заканчивался предложением произвести одновременно строжайший обыск у пятидесяти лиц, среди которых на первом месте значилось имя Чернышевского с такою характеристикой: «Подозревается в составлении воззвания «Великорусс», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству».
Далее в этом проскрипционном списке стояли имена близких к Чернышевскому лиц: подполковника Н. Шелгунова, подполковника Н. Обручева, братьев Серно-Соловьевичей, доктора П. Бокова, литераторов Г. Елисеева, М. Антоновича и других. В характеристиках, данных этим лицам, подчеркивались их «преступные сношения с Чернышевским».
14 декабря 1861 года на Сытной площади в Петербурге Михайлову был публично объявлен судебный приговор, по которому он ссылался на двенадцать с половиной лет на каторжные работы в Сибирь. День этот, конечно, был выбран мстительными палачами с явным умыслом: ведь прокламация Михайлова «К молодому поколению» заканчивалась призывом, в котором он напомнил русским революционерам об этой славной дате: «Готовьтесь сами к той роли, какую вам придется играть… ищите вожаков, способных я готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 Декабря».
И вот в шестом часу утра 14 декабря Михайлова, обритого по-арестантски и закованного в кандалы, повезли в «позорной» колеснице на Сытную площадь, чтобы совершить там над ним издевательский обряд «гражданской казни». Одетый в серую арестантскую шинель, Михайлов сидел в повозке спиною к кучеру. Повозку сопровождали три взвода верховых казаков.
По прибытии на площадь Михайлова повели на эшафот и при барабанном бое военного наряда поставили на колени. Один из чиновников прочитал ему приговор, после чего палач переломил над его головой заранее подпиленную шпагу. Было еще темно, и потому площадь почти пустовала, только уже к концу казни стал собираться народ. Чиновник читал приговор так тихо и невнятно, что никто даже не расслышал фамилии казнимого. В толпе шли толки, что казнят какого-то генерала, но за что – неизвестно, говорили также, что он хотел сменить царя и всех министров. Михайлов был спокоен, но бледен, и во все время не произнес ни слова. Ни друзья Михайлова, ни студенческая молодежь не знали о назначенной казни и потому отсутствовали. Опасаясь демонстраций со стороны студентов, власти опубликовали сообщение о предстоящей церемонии только в самый день казни.
Близким друзьям Михайлова дано было разрешение проститься с ним перед отправлением его в Сибирь, которое должно было состояться вечером 14 же декабря. Некрасов, Шелгуновы, Чернышевский, Ольга Сократовна и другие посетили его в крепости.
Вскоре был отправлен на каторгу и другой сотрудник «Современника» – Владимир Обручев, обвиненный в распространении нелегального листка «Великорусе».
В столице, как и во всей стране, было неспокойно. В конце мая 1862 года начались знаменитые петербургские пожары.
Горели Апраксин двор, Большая и Малая Охта… Огнем уничтожено было много домов между Апраксиным рынком и Троицкой улицей. Все это пространство превратилось в огненную площадь, освещавшую по ночам небо багровым заревом. В иные дни пожары возникали десятками, охватывая целые кварталы. В душной мгле порывистый ветер разносил по воздуху дым, сажу и пепел.
Тысячи людей, лишившихся крова и имущества, бродили с узлами по площадям и улицам. Ворота и подъезды домов были заперты. По городу ходили патрули. Быстро распространялись тревожные слухи о поджогах, о том, что виновниками их являются студенты, поляки и господа, недовольные освобождением крестьян. Агенты полиции, которые и были организаторами пожаров, стремились приписать их действиям революционной организации. Провокационная цель обвинения была ясна: возбудить ненависть к студенческой молодежи и оправдать репрессии правительства.
А репрессии следовали одна за другой: правительство закрывало воскресные школы, народные читальни, приостанавливало издание газет и журналов.
Вскоре после пожаров был закрыт по распоряжению военного генерал-губернатора Шахматный клуб, основанный в январе 1862 года по инициативе Чернышевского и его друзей. Первоначально в нем состояло более ста человек. Тут было много писателей, журналистов, офицеров, педагогов. Из близких Чернышевскому людей клуб посещали: Н. Серно-Соловьевич, Помяловский, Некрасов, Н. Утин, В. Курочкин и др.
Шахматы не играли здесь серьезной роли: в сущности, они служили лишь для маскировки иных целей, – клуб явился удобным местом для встреч и впоследствии должен был, повидимому, превратиться в своеобразный штаб активных деятелей революционного подполья.
Подосланный Третьим отделением провокатор отмечал, что Чернышевский играет здесь «важную роль оратора» и что отсюда исходят «революционные замыслы».
В упомянутом докладе шефа жандармов Александру II Шахматный клуб прямо назван литературным обществом, в котором происходят ежедневные сходки и где студенты совещаются с выдающимися общественными деятелями.
В эту пору идейное влияние Чернышевского на разночинную революционно настроенную интеллигенцию было исключительно велико.
Тяжелые утраты, перенесенные им, не могли сломить его духа. Великий борец за народное дело продолжал и в этих сложных условиях свою многостороннюю деятельность.
Власти, напуганные возможностью народного восстания, беспощадно расправлялись с носителями передовых, освободительных идей. Царское правительство хотело подавить не только крестьянские бунты, но и всякое проявление свободной мысли в обществе. В глазах правящих кругов литература и наука были самыми опасными рассадниками «революционной заразы». Правительство преследовало их, тщетно силясь держать в немом оцепенении духовную жизнь страны.
Летом 1862 года журнал «Современник» был запрещен на восемь месяцев. Чернышевский писал Некрасову, находившемуся в Москве: «Мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер. Репрессивное направление теперь так сильно, что всякие хлопоты были бы пока совершенно бесполезны. Поэтому приезжать Вам теперь в Петербург по делу о «Современнике» совершенно напрасно…»
Чернышевский превосходно понимал, что кара, постигшая «Современник», последовала главным образом из-за его собственных статей.
Дни свободы его были уже сочтены. Полиция ждала только предлога, чтобы пресечь его деятельность.
Летом 1862 года такой предлог представился. Агентами правительства было отобрано на границе у некоего Ветошникова, вернувшегося в начале июля из Лондона, письмо Герцена к Н. Серно-Соловьевичу с припиской: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве – печатать предложение об этом? Как вы думаете?»
Упоминание имени Чернышевского в письме Герцена было сочтено достаточно благовидным предлогом для того, чтобы арестовать его.
Близкие знакомые Николая Гавриловича – молодой сотрудник «Современника» Антонович и доктор Боков – были свидетелями драматической сцены, разыгравшейся 7 июля 1862 года в квартире Чернышевского на Большой Московской улице.
В этот день Антонович зашел около полудня к Чернышевскому поговорить об издании собрания сочинений Добролюбова. Николай Гаврилович был в квартир один, так как домашние его – Ольга Сократовна с сыновьями Александром и Михаилом – гостили в Саратове.
Вскоре подоспел и Боков, и они втроем перешли из кабинета в зал. Прошло более часа, и вдруг мирная их беседа была прервана резким звонком в передней. Через минуту в зал вошел офицер и сказал, что ему нужно видеть Чернышевского.
– Я – Чернышевский, к вашим услугам, – выступил вперед Николай Гаврилович.
– Мне нужно поговорить с вами наедине, – сказал офицер.
– А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет, – проговорил Николай Гаврилович ад, как рассказывает Антонович, поспешно устремился из зала.
Оторопевший офицер сначала растерянно бормотал:
– Где же кабинет? Где же кабинет?
Но через некоторое время он громко воскликнул:
– Послушайте, укажите мне, где кабинет Чернышевского, и проводите меня.
Тогда из передней явился пристав Мадьянов и провел офицера в кабинет.
Возвратившись оттуда, он стал убеждать Антоновича и Бокова уйти из квартиры.
– Но мы перед уходом непременно пойдем проститься с хозяином, – заявил Антонович.
Войдя в комнату, они увидели, что Николай Гаврилович и жандармский полковник сидели у стола. Николай Гаврилович в эту минуту проговорил:
– Нет, моя семья не на даче, а в Саратове.
– До свидания, Николай Гаврилович, – сказал Антонович.
– А вы разве уже уходите? – спросил Чернышевский. – И не подождете меня? Ну, так до свидания!
И он, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича.
Полковник Ракеев, производивший обыск у Чернышевского, в 1837 году сопровождал тело Пушкина, тайно вывезенное ночью из Петербурга в Святогорский монастырь. Этот же Ракеев делал первый обыск и у Михаила Ларионовича Михайлова в сентябре 1861 года.
Тщательным образом обыскав теперь всю квартиру Чернышевского, Ракеев отобрал рукописи и письма, показавшиеся ему особенно подозрительными, а также «недозволенные книги» и, сложив все это с помощью квартального в большой холщовый мешок, запечатал.
Гремя саблей, расхаживал Ракеев из комнаты в комнату, по-собачьи обнюхивая все и ко всему прикасаясь какими-то воровскими движениями.
Когда обыск был, наконец, закончен, Ракеев, составив с квартальными акт, обратился к Чернышевскому со словами:
– Выполняя приказание управляющего Третьим отделением генерал-майора Потапова, я принужден пригласить Вас, милостивый государь, с собою.
Тотчас после обыска Чернышевский был доставлен в Петропавловскую крепость и заключен в Алексеевский равелин, где содержались наиболее опасные, с точки зрения правительства, «преступники».
Несмотря на усиленную предварительную слежку тайной полиции, власти не располагали никакими юридическими доказательствами нелегальной деятельности Чернышевского. Они надеялись, что обыск, сделанный в его квартире, даст им в руки необходимые документы и материалы. Однако и тут они просчитались: ничего криминального в бумагах Николая Гавриловича не было обнаружено.
Тогда Александр II и его приспешники решили сделать Чернышевского жертвой гнусной провокации, главную роль в которой должен был сыграть предатель Костомаров.
Для осуществления этого плана потребовалось немало времени. Лишь по прошествии четырех месяцев после ареста Чернышевский был вызван на первый допрос, и ему было предъявлено в весьма неопределенной форме обвинение в «сношении с русскими изгнанниками и другими лицами, распространяющими злоумышленную пропаганду». Чернышевский категорически опроверг это обвинение.
Медлительность действий следственной комиссии по делу Чернышевского объяснялась тем, что она вела в это время усиленную подготовку к закрытому процессу: подыскивала лжесвидетелей, подтасовывала факты, сочиняла подложные записки и письма, изобретала «улики», чтобы иметь возможность «юридически» обосновать заранее задуманную расправу над вождем русского освободительного движения шестидесятых годов.
Царь горел желанием избавиться от ненавистного ему великого революционера. Об этом красноречиво свидетельствует письмо Александра II к брату Константину: «…в самый день моего отъезда, по сведениям, сообщенным из Лондона, должно было сделать несколько новых арестаций, между прочим, Серно-Соловьевича и Чернышевского. Найденные бумаги доказывают явно сношения их с Герценом и целый план революционной пропаганды по всей России. В этих же бумагах есть указание и на других главных деятелей, как в столицах, так и в провинции. Так что есть надежда, что мы, наконец, напали на настоящий источник всего зла. Да поможет нам бог остановить дальнейшее его развитие».
«Как я рад известию об арестовании Серно-Соловьевича и, особенно, Чернышевского. Давно бы пора с ними разделаться», – отвечал Константин.
Около двух лет понадобилось властям для того, чтобы разыграть акт за актом инсценировку «процесса». С необычайным мужеством и самообладанием, с исключительной. изобретательностью и неумолимой логикой Чернышевский разрушал одну за другой все уловки своих обвинителей.
По ходу первых допросов Чернышевский увидел, что у следственной комиссии нет материалов и документов, проливающих свет на его подпольную революционную деятельность. В письмах из крепости, адресованных царю и петербургскому военному генерал-губернатору Суворову, он смело указывал на умышленное затягивание властями его дела и требовал немедленного освобождения из-под ареста.
Зная вместе с тем, что впереди ожидают его, быть может, тягчайшие испытания, он готов был встретить их во всеоружии. «Скажу тебе одно, – писал он жене из крепости, – наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о вас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь».
В сношениях с тюремной администрацией и с комендантом крепости генералом Сорокиным он держится независимо и гордо. Некоторые письма его к коменданту написаны в третьем лице: «Чернышевский считает…», «Чернышевский просил бы уведомить…», «По мнению Чернышевского…»
Иногда в тоне его записок слышатся повелительные нотки, иногда сквозит ирония и презрение.
Не получая положительного ответа на просьбы о свиданиях с женой, Чернышевский объявил однажды голодовку, и власти вынуждены были в конце концов уступить ему. В феврале 1863 года Ольга Сократовна получила разрешение на первое свидание с мужем в присутствии представителей тюремной администрации. Оно длилось около двух часов. Ольга Сократовна рассказывала потом родным, что Николай Гаврилович внешне изменился, отпустил бороду и очень похудел. Держался, однако, бодро, был даже весел, шутил, утешая ее, и говорил, что сидит в крепости только потому, что власти не знают, как теперь поступить с ним. «Взяли по ошибке, обвинения не могли доказать, а между тем шуму наделали».
Он просил присылать ему журналы и книги. Зная широту его интересов, родные направляли ему книги по истории, философии, математике, литературе. За долгие месяцы предварительного заключения он перечитал сочинения Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Помяловского, Диккенса, Флобера, Жорж Санд и многих других.
Он неутомимо и непрестанно занимался в крепости обширной творческой и исследовательской работой. Объемы ее колоссальны. Он писал в среднем по двенадцати печатных листов в месяц.
Е.Н. Пыпина, навещавшая Чернышевского в крепости, удивлялась его способности почти одновременно писать о политической экономии, работать над романом, переводить, собирать материал для исторического сочинения… «Ведь это просто чудеса в том положении, в каком он находится».
А палачи Чернышевского – следственная комиссия и Третье отделение, – заручившись «высочайшим соизволением», фабриковали в это время с непревзойденным цинизмом его «дело».
Оно зиждилось на согласованных с тайной полицией провокационных письмах Костомарова к вымышленным лицам. По замыслу режиссеров процесса эти письма предателя должны были изобличить Чернышевского. В дело были пущены также фальшивые автографы Чернышевского, состряпанные Костомаровым. Ложные показания последнего комиссия надумала подкрепить свидетельствами подкупленного московского мещанина Яковлева. Правда, Яковлев, вызванный для дачи показаний по этому делу, успел несколько скомпрометировать планы начальства буйным поведением и невольным саморазоблачением в пьяном виде. Однако и это не смутило жандармов. Всячески затягивая и запутывая дело, следственная комиссия хотела взять узника измором, но Чернышевский был непреклонен. Во время одной из очных ставок со Всеволодом Костомаровым он решительно заявил своим судьям: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю».





