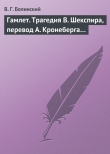Текст книги "Белинский"
Автор книги: Николай Водовозов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
СТУДЕНТ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Материальное положение Белинского в Москве оказалось значительно хуже, чем было в Пензе. Отец его, не удовлетворенный жизнью, видя в общественной и служебной среде пустоту, мелкие интересы и эгоизм, а в семейной жизни упреки недовольной жены, стал опускаться все более и более, запил так, что потерял окончательно врачебную практику и очутился на грани нищеты.
Виссариону нужно было самому теперь заботиться о куске хлеба и «о том, как бы помочь семье, где были маленькие дети. В поисках выхода из трудного положения он подает в октябре месяце прошение о принятии его на казенное содержание в университет, на так называемый «казенный кошт». Ответ последовал не скоро. Только в январе 1830 года Белинский был зачислен в число «казенных студентов».
Первый год студенчества промелькнул быстро, оставив после себя яркий след благодаря шумному товариществу и многим интересным лекциям. Превосходное описание студенческой жизни того времени мы находим у М. Ю. Лермонтова, поступившего в Московский университет годом позднее Белинского:
И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры;
Твоих сынов заносчивые споры;
О боге, о вселенной и о том,
Как пить – ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят…
Студенты предъявляли высокие требования к своим профессорам. Не отвечавших этим требованиям они не уважали; даже презирали. Однажды попечитель спросил студента: «Сколько у вас профессоров в отделении?» – «Без Малова девять», ответил студент, давал понять, что профессора Малова, грубого и невежественного, необходимо вычитать, говоря об университетской профессуре.
Зато знающих, талантливых профессоров студенты горячо любили; на их лекциях аудитории были всегда полны, каждое слово жадно воспринималось и возбуждало юношескую мысль. К таким профессорам принадлежал М. Г. Павлов, преподававший физику и сельское хозяйство. Но, как свидетельствует Герцен, слушавший Павлова, «физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны, Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?..» И в своих блестящих лекциях излагал студентам современные философские системы, приоткрывая перед ними сияющие вершины знания». Наряду с Павловым большой популярностью пользовался И. И. Давыдов, профессор истории и русской литературы. Его лекции привлекали не только студенческую аудиторию. Однажды послушать Давыдова приехал Пушкин, находившийся тогда в Москве
«Мы, – рассказывает И. А. Гончаров, который в то время был студентом, – все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию, Речь шла о «Слове о полку Игореве». Тут же ожидал своей очереди читать лекцию, после Давыдова, и Каченовский. Нечаянно между ними завязался по поводу «Слова о полку Игореве» разговор, который мало-помалу перешел в горячий спор… Мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение – видеть и слышать нашего кумира».
В конце пребывания Белинского в университете начал чтение лекций профессор теории изящных искусств и археологии Н. И. Надеждин. Лекции Надеждина вначале имели шумный успех. Обладая замечательной памятью, он читал, не пользуясь никакими записками, всегда горячо и вдохновенно. Но требовательная молодежь скоро заметила, что профессор слишком много импровизирует, недостаточно углубляется в свой предмет, в его красноречии не все искренне. Наступило охлаждение, хотя интерес к лекциям Надеждина все же остался, и студенты продолжали посещать его лекции.
ВЫХОД В ЖИЗНЬ
Осенью 1830 года в Москве началась эпидемия холеры. Лекции в университете были прекращены, казенным студентам запретили выходить из общежития. Теперь Белинский мог познакомиться со всей прелестью «казенного кошта». Он с возмущением пишет домой: «Я теперь нахожусь в таких обстоятельствах, что лучше согласился бы быть подьячим в чембарском земском суде, нежели жить на этом каторжном, проклятом казенном коште. Если бы я прежде знал, каков он, то лучше бы согласился наняться к кому-нибудь в лакеи и чищением сапог и платья содержать себя, нежели жить в нем».
Белинский продолжает и в университете протестовать против всякого произвола и насилия. Одному из студентов крайне нужно было уйти из общежития в город. Несмотря на строгое запрещение начальства, он все-таки отлучился. После возвращения его за самовольную отлучку немедленно посадили в карцер, не принимая с его стороны никаких объяснения. Тогда Белинский, вместе с другим студентом, Чистяковым, собрал большинство казенных студентов в круглую залу университета и потребовал инспектора. Опасаясь крупных неприятностей за самоуправство, инспектор согласился освободить наказанного студента из карцера. Инцидент был улажен, но к Виссариону с тех пор начальство стало относиться подозрительно.
Во время холеры Белинский и еще человек пять студентов составили маленькое литературное общество. Каждый из них должен был прочитать другим какое-нибудь свое произведение. Виссарион давно уже задумал написать драму, героем которой был бы молодой человек, протестующий против крепостного рабства. Замысел этот созрел у него под непосредственным впечатлением от жизни чембарских помещиков и их крепостных людей. В письме родным по поводу своего сочинения он говорит: «Вы в нем увидите многие лица, довольно вам известные. Но вперед говорить нечего: когда напечатается, тогда имеющие уши слышать да слышат…»
Желающих послушать драму Белинского оказалось так много, что большая аудитория была переполнена. Виссарион нервной походкой, сутулясь, прошел к столу, развернул тетрадь и начал чтение. Его наружность носила следы сильного истощения. Вместо свежего, живого румянца юности на лице двадцатидвухлетнего автора был разлит какой-то красноватый оттенок, волосы на голове торчали хохлом, движения были резкие, голос хрипловатый.
Но слушатели не замечали ничего, увлеченные горячим одушевлением чтеца, его непримиримым протестом против уродливых явлений жизни николаевской России. «Неужели эти люди, – читал Белинский, – для того только родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?.. Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище – свободу? Кто позволил им ругаться над правами природы я человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба, может продать его как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!.. Милосердный боже! Отец человеков! ответствуй мне: твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?»
Слушатели были потрясены. Такого страстного гнева против крепостничества русская литература, не, знала со времен книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Но всем было известно, что Радищев едва не поплатился жизнью за свою книгу. Что же ожидало молодого автора?
Когда в Чембаре были получены известия об окончании драмы «Дмитрий Калинин», родные стали уговаривать Виссариона «не спешить издавать оную», полагая, что неудача драмы «произойти может не от недостатков оной, а от необдуманности какой-нибудь или торопливости». Словом, родные Виссариона понимали, на какой опасный путь становится он.
Но меньше всего он думал о себе, о собственном благополучии, Перед его глазами всегда были примеры великих русских патриотов не щадивших собственной жизни для блага родного народа. Он спешил с опубликованием драмы.
Цензурный комитет в то время состоял из университетских профессоров, и когда Виссарион принес туда драму, ему сказали, чтобы он пришел за ответом через неделю.
Через неделю Белинский пришел опять в канцелярию и опросил о своем сочинении. Вместо ответа секретарь подбежал к ректору университета И. А. Двигубскому и сказал:
– Иван Алексеевич! Вот он, вот господин Белинский!
Двигубский, человек грубый и надменный, начал кричать, что сочинение Белинского безнравственно, бесчестит университет, и приказал составить о нем журнал.
– Имей в виду, – обратился он к Белинскому, – что о тебе ежемесячно теперь будут подаваться мне особые донесенья. Да заметьте этого молодца, – прибавил он секретарю, – при первом случае его надобно выгнать!
Подавленный такой безобразной сценой, вернулся Виссарион к себе. Под свежим впечатлением он пишет отцу о случившемся. «В этом сочинении, – говорит он о своей драме, – со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со воем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранства людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных. Герой моей драмы есть человек пылкий, с страстями дикими и необузданными, его мысли вольны, поступки бешены, – и следствием их была его гибель. Вообще скажу, что мое сочинение не может оскорбить чувства чистейшей нравственности и что цель его есть самая нравственная… и все мои блестящие мечты обратились в противную действительность, горькую и бедственную… Лестная, сладостная мечта о приобретении известности, об освобождении от казенного кошта для того только ласкала и тешила меня, доверчивого к ее детскому, легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести». Письмо Виссариона произвело в Чембаре тягостное впечатление. Марья Ивановна готова была ответить сыну жесткими упреками за его неблагоразумие; но Григорий Никифорович удержал ее. В гордом восстании Виссариона против бесправия русской жизни отец увидел тот мужественный протест, на который у него самого нехватило мужества и силы.
Неудача не сломила Белинского. Он продолжал посещать лекции, попрежнему сохраняя свою независимость и чувство личного достоинства.
Русскую словесность в Московском университете преподавал тогда Победоносцев, сухой схоласт, совершенно чуждый передовым взглядам на значение литературы. Белинский терпеть не мог лекций Победоносцева. Как-то на одной лекции произошел такой случай: Победоносцев, по своему обыкновению, с азартом объяснял значение «хрии» [6]6
Хриями называлась обязательная форма, по которой писались сочинения на заданную тему.
[Закрыть]в литературных произведениях и вдруг неожиданно обратился к сидевшему перед ним Белинскому:
– Что ты, Белинский, сидишь так беспокойно, как будто на шиле, и ничего не слушаешь? Повтори-ка мне последние слова, на чем я остановился?
– Вы остановились на словах, что я сижу на шиле, – ответил Белинский под общий хохот студентов.
Весной 1831 года Виссарион Григорьевич тяжело заболел и не мог держать переходные экзамены на следующий курс. Он просил Голохвастова, исполнявшего тогда должность попечителя, разрешить ему сдавать экзамены осенью. Голохвастов прямо не разрешил, но и не отказал, сказав: «Хорошо, посмотрим».
Приняв эти слова за согласие, Белинский, полубольной, проработал с половины мая до самого сентября, готовясь к экзаменам. Но к экзаменам его не допустили, а просто уволили из университета, мотивировав исключение «недостаточными успехами», «бессилием для продолжения наук» и «ограниченностью способностей».
Исключение Белинского из университета сильно взволновало студентов, которые с изумлением услышали, что Белинский «бессилен был продолжать учение по ограниченности способностей». Конечно, никто из них не подозревал тогда в нем будущего гениального критика, но все же выдающиеся способности Виссариона были очевидны для всех, знавших его.
Университетское начальство проявило такую мелочную враждебность к Белинскому, что не оставило ему даже казенного платья, которое обыкновенно предоставлялось всем выходящим из университета студентам, хотя нищета Виссариона ни для кого не была тайной.
Можно представить себе состояние самолюбивого, гордого юноши, с которым поступили так жестоко и несправедливо. Целые девять месяцев он скрывал от родных свое горе. Он написал матери 21 мая 1832 года, когда обстоятельства его, надо сказать, несколько уже прояснились: «Давно не писал я к вам; не знаю, в хорошую ли или дурную сторону толкуете вы мое молчание. Как бы то ни было, но на этот раз я желал бы не уметь ни читать, ни писать и даже чувствовать, понимать и жить!.. Девять месяцев таил я от вас свое несчастие, обманывал всех чембарских, бывших в Москве, лгал и лицемерил, скрепя сердце… но теперь не могу более. Ведь когда-нибудь надобно же узнать вам. Может даже быть, что вы уже знаете, может быть, вам сообщено это с преувеличениями, а вы – женщина и мать… Чего не надумаетесь вы? При одной мысли об этом сердце мое обливается кровью. Я потому так долго молчал, что еще надеялся хоть сколько-нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать об этом хладнокровнее… Я не щадил себя, употреблял все усилия к достижению своей цели, ничего не упускал, хватался за каждую соломинку и, претерпевая неудачи, не унывал и не приходил в отчаянье – для вас, только для вас. Я всегда живо помнил и хорошо понимал мои к вам отношения и обязанности, терпел все, боролся с обстоятельствами, сколько доставало сил, трудился и, кажется, не без успеха. Вот в чем дело… Вы, может быть, считаете по пальцам месяцы, недели, дни, часы и минуты, нас разделяющие; думаете с восхищением о том времени, о той блаженной минуты, когда, нежданый и незваный, я, как снег на голову, упаду в объятия семейства кандидатом или, по крайней мере, действительным студентом!.. Мечта очаровательная! И меня обольщала она некогда! Но, увы! в сентябре исполнится год, как я выключен из университета!!!Предчувствую, что это будет вам стоить больших слез, тоски и даже отчаянья, – и это-то самое меня и сокрушает… Но, маменька, все-таки умоляю вас не отчаиваться и не убивать себя бесплодною горестью. Есть счастье и в несчастья, есть утешение и в горести, есть благо и в самом зле. Я видел людей в тысячу раз несчастнее себя и потому смеюсь над своим несчастием…»
В первое время по исключении из университета, предоставленный самому себе, Виссарион очутился в безысходной нужде. Он всюду искал уроков или литературной работы. Он купил на последние деньги французский роман в четырех частях и, как он говорит, «с великими трудами, просиживая иногда напролет целые ночи, во время дня не слезая с места, перевел его, в надежде приобрести рублей 800». Но и здесь судьба жестоко подшутила над ним: в газетах было объявлено о другом переводе этого самого сочинения!
Только в мае, незадолго до того, как он отправил свое письмо к матери, в маленьком московском журнальчике «Листок» напечатали его стихотворение «Русская быль» и заплатили ему первый гонорар. Стихотворение это было навеяно русским народным творчеством и весьма характерно для настроения молодого Белинского.
В том же «Листке» была напечатана небольшая заметка Белинского об одной брошюре, разбиравшей «Бориса Годунова» Пушкина. Виссарион немедленно послал журнал в Чембар.
Через редакцию журнала Белинский познакомился с Кольцовым, замечательным русским поэтом-самоучкой, который приезжал в это время в Москву из Воронежа по делам и напечатал в «Листке» несколько своих стихотворений.
С интересом и сочувствием слушал Белинский рассказ воронежского поэта о его грустной жизни. Восемнадцати лет отроду Кольцов полюбил крепостную горничную своих сестер Дуняшу, девушку красивую и умную. Она отвечала ему взаимностью. Зная крутой нрав своего отца, типичного купца-самодура, Кольцов скрывал от него свою любовь к крепостной девушке. Но отец догадался и, опасаясь, что сын женится на Дуняше вопреки его воле, отослал сына якобы по делам из Воронежа, а Дуняшу тем временем продал какому-то помещику на юг. Когда поэт вернулся домой и узнал об этом, он заболел горячкой и едва не умер. Выздоровев, Кольцов бросился отыскивать свою любимую, но никаких следов ее найти не мог. Только впоследствии он узнал, что она не вынесла разлуки с ним и вскоре умерла в тяжелой неволе.
Белинский быстро сошелся с Кольцовым. Их объединяла общая ненависть к крепостничеству и желание работать для блага своего народа. Под влиянием Белинского Кольцов возненавидел также тесный мир мелких мещанских интересов, в котором ему приходилось вращаться дома. По-другому зазвучали его стихи, когда он сделался идейным учеником Белинского. Недаром многие знакомые Кольцова стали с тех пор отмечать в нем «страсть к пропаганде крайних идей Белинского».
В том же 1832 году Виссарион Григорьевич сблизился с университетским студенческим кружком Николая Станкевича. Исключительно талантливый человек, одаренный глубоким эстетическим чутьем, горячей любовью к искусству, большим и ясным умом, способным разбираться в самых отвлеченных вопросах, Станкевич объединил вокруг себя выдающихся представителей русской молодежи, из которых впоследствии многие прославили имя своей родины.
Соединяя блестящее остроумие с необычайно широкой эрудицией, Станкевич умел всякий спор поднять на высокий теоретический уровень, сделать предметом серьезных философских исканий и принципиальных решений. Николай Станкевич был человеком, облагораживающее влияние которого испытывал каждый, кто близко соприкасался с ним.
Белинский со всей страстью своей прямой увлекающейся натуры погрузился в научные и философские занятия кружка. Он никогда не останавливался на полдороге. Теория никогда не была для него самоцелью, он всегда стремился применить ее со всей беспощадной последовательностью к жизни. Недаром в кружке он быстро заслужил имя «неистового Виссариона».
СОТРУДНИК «ТЕЛЕСКОПА» И «МОЛВЫ»
Весной 1833 года Белинский лично познакомился с Надеждиным, помимо профессуры занимавшимся изданием московских журналов «Телескоп» и «Молва». Белинский очень ценил критические статьи Надеждина и знал их хорошо еще со времен своей гимназической жизни. Надеждин, в свою очередь, быстро сумел оценить выдающийся критический талант молодого Белинского и охотно привлек его к сотрудничеству в своих журналах.
Материальное положение Виссариона Григорьевича в то время было попрежнему тяжелым. По воспоминаниям одного из современников, Белинский жил тогда «в каком-то переулке между Трубой и Петровкой… Внизу жили и работали кузнецы. Пробираться к нему надо было по грязной лестнице; рядом с его каморкой была прачечная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья и вонючего мыла. Каково было дышать этим воздухом, особенно ему, с слабой грудью! Каково было слышать за дверями упоительную беседу прачек и под собою стукотню от молотов русских циклопов, если не подземных, то подпольных! Не говорю о беднейшей обстановке его комнаты, не запертой… потому что в ней нечего было украсть».
Литературный заработок не только не спасал его от нужды, но даже не избавлял от систематических голодовок. Конечно, он легко мог бы найти для себя более доходную работу, но тогда пришлось бы ему сойти с того прямого, хотя и трудного пути, на котором он мог все свои силы отдавать на пользу родному народу. В этом он убедился, когда ему предложили вполне обеспеченное, выгодное место личного секретаря у одного вельможи. Требовалось только стилистически исправлять литературные упражнения знатного барина. Белинский подумал и согласился. И вот он поселился «в аристократическом доме, пользуется не только чистым, даже ароматическим воздухом, имеет… хороший стол, отличные вина, слушает музыку разных европейских знаменитостей (одна дочь его превосходительства – музыкантша), располагает – огромной библиотекой, будто собственной, – одним словом, катается, как сыр в масле. Но вскоре заходят тучи над этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчас жертвовать своими убеждениями, собственной рукой писать им приговоры, действовать против совести. И вот в одно прекрасное утро Белинский исчезает из дома, начиненного всеми житейскими благами, исчезает с своим добром, завязанным в носовой платок, и с сокровищем, которое он носит в груди своей. Его превосходительству оставлена записка с извинением нижеподписавшегося покорного слуги, что он не сроден к должности домашнего секретаря» [7]7
«Воспоминания о Белинском» И. И. Лажечникова.
[Закрыть].
Так прошло почти два года. В конце 1834 года в журнале «Молва» стали печататься критические статьи Белинского под общим названием «Литературные мечтания (Элегии в прозе)». В этих статьях «неистовый Виссарион» со всей страстностью своего боевого темперамента изложил в виде стройной системы принципы литературной критики, усвоенные им в кружке Станкевича.
Вывод Белинского был тот, что у нас еще нет литературы, вполне способной выразить национальную идею России. «Надо сперва, – заключает он, – чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа; надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, взращенное на родной почве… Придет время, (просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа».
«Не забывай, – обращается он к читателю, – что жизнь есть действование, а действие есть борьба… подави свой эгоизм, попри ногами свое корыстное «я», дыши для счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества».
«Литературные мечтания» обратили на молодого критика внимание всей мыслящей России. Никто до него с такой страстью и любовью не предъявлял требования к искусству быть народным, никто не показал так ясно на связь литературы с общественной жизнью, и никто не говорил с такой непоколебимой уверенностью о великом будущем русской литературы.
Весной 1835 года Надеждин уехал за границу и на время своего отсутствия передал редактирование журналов в руки Белинского. Под редакцией «неистового Виссариона» оба журнала – «Телескоп» и «Молва» – быстро превратились в наиболее читаемые и влиятельные печатные органы. Какое действие производили статьи молодого критика даже на ту часть публики, которая не сразу признала его авторитет, можно судить по воспоминаниям И. С. Тургенева, бывшего в то время студентом Петербургского университета. «В одно утро, – рассказывает Тургенев, – зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился номер «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски – и, разумеется, также воспылал негодованием. Но – странное дело! – и во время чтения, и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными… неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье… но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав».
Так Белинский завоевывал единомышленников среди лучшей части русской молодежи, разоблачая перед нею мишурные авторитеты, заставляя требовать от литературы смелости и правды.
Вернувшийся в 1836 году из-за границы Надеждин сумел оценить огромную работу, проделанную Белинским в журналах, и дал ему возможность немного отдохнуть и подкрепить свои силы в течение осени.
Свой отпуск Виссарион Григорьевич провел в деревне Прямухино Тверской губернии у Михаила Бакунина, с которым сблизился перед тем в кружке Станкевича.
Бакунин был выдающимся человеком. Молодой офицер, он 22 лет вышел в отставку и занялся философией. Натура не менее энергичная и боевая, чем Белинский, Бакунин за всякое дело принимался со страстью и самозабвением. В то время он увлекался философией и заразил своим увлечением «неистового Виссариона».
Прямухино, но словам И. И. Лажечникова, «представляло собой уголок, на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими… Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Зато как было тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному. Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек были в нем обласканы равно, несмотря на состояние и рождение. Казалось, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству. Душою дома был глава его, патриарх округа [8]8
Речь идет об отце М. А. Бакунина.
[Закрыть]. Как хорош был этот величавый, с лишком семидесятилетний старец, с непокидающей его улыбкою, с белыми падающими на плечи волосами, с голубыми глазами, ничего не видящими, как у Гомера, но с душою, глубоко зрящею, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали лета, свыкнувшись только с его добротою и умом.
Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в своей деревне, под сенью посаженных его собственною рукою кедров. Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности по званию губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное – природу, особенно цветы, литературу, музыку, и лепет младенца в колыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена, умная и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее…
Откуда, с каких концов России не стекались к нему посетители! Сюда вместе с Станкевичем, Боткиным и многими другими даровитыми молодыми людьми не мог не попасть и Белинский».
В Прямухине Белинский с помощью своего друга Михаила Бакунина заинтересовался философией немецкого философа-идеалиста Фихте. Привлекла Белинского у Фихте проповедуемая им идея «личного совершенствования». Но это увлечение Белинского было кратковременным. Великий русский критик понял, что для Фихте эта идея служит средством увода от живой, реальной действительности. И Белинского вообще не могла удовлетворить реакционная прусско-националистическая философия Фихте, доходившего, например, до таких утверждений: «Только у немца, как человека самобытного, не застывшего в определенных формах, поистине есть свой народ; у иностранца нет его. Поэтому только у немца может быть любовь к своему народу, любовь к родине в истинном смысле этого слова». Пламенный русский патриот, Белинский, естественно, должен был отвергнуть такую «философию», исключавшую из общего развития все народы, кроме немецкого. В своих страстных поисках истины Белинский руководился прежде всего стремлением поставить философию на службу народу, страдающему от гнета крепостнического режима.
Отвергнув Фихте, Белинский в своих философских исканиях, не мог пройти мимо пользовавшегося тогда большим влиянием учения крупнейшего немецкого философа-идеалиста Гегеля.
В сложной философии Гегеля было две стороны: диалектический метод и окостенелая, застывшая «система». «Если диалектический методГегеля содержал в себе «рациональное зерно» – учение о развитии – и был прогрессивной стороной философии Гегеля, то его идеалистическая догматическая системабыла консервативной, требовала прекращения развития и находилась в резком противоречии с диалектическим методом» [9]9
Журнал «Большевик» № 7–8, стр. 14, апрель 1944 г.
[Закрыть].
Провозглашая свою философию абсолютной, го есть окончательной, истиной, Гегель тем самым должен был сам, по словам Ф. Энгельса, «стать в противоречие с его диалектическим методом, разлагающим все догматическое. И не только в области философского познания, но и по отношению к исторической практике» [10]10
Маркс и Энгельс. Соч., т. XIV, стр. 639.
[Закрыть].
Диалектический метод требовал признания необходимости бесконечного движения вперед. А Гегель объявил свое крайне идеалистическое учение об «абсолютном духе» последней истиной и в прусском казарменном государстве увидел осуществление идеальной цели всего всемирно-исторического процесса развития человечества. Всякий протест и борьба против такой «абсолютной», «разумной» действительности должны были быть, по учению Гегеля, осуждены. Самая диалектика у Гегеля была тоже идеалистической.
Увлеченный положительными сторонами учения Гегеля, огромным количеством фактов, введенных философом в круг своего рассмотрения, внешней стройностью его рассуждений, Белинский – на какое-то короткое время – не разглядел реакционного прусского шовинизма за знаменитым тезисом Гегеля: «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно». Со всей страстностью своей натуры Белинский, не признававший половинчатых решений, сделал из этого тезиса логический вывод, придя – на недолгий срок – к тому странному примирению с действительностью, за которое потом так беспощадно упрекал себя сам.
В Прямухинне Белинский познакомился с сестрой Михаила Бакунина Александрой Александровной и влюбился в нее. Хотя чувство его осталось не разделенным, он мужественно перенес эту неудачу. «Мне было хорошо, – вспоминал он потом о прямухинской жизни, – так хорошо, как и не мечталось до того времени… Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире: окрест меня все дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникли и в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине… Когда все собирались в гостиной, толпились около рояля и пели хором, в этих хорах я думал слышать гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества, и душа моя замирала, можно сказать, в муках блаженства, потому что б моем блаженстве, от непривычки ли к нему, от недостатка ли гармонии в душе, было что-то тяжкое, невыносимое, так что л боялся моими дикими движениями обратить на себя общее внимание».
В таком состоянии Белинский уехал из Прямухина в Москву, где его ожидал новый тяжелый удар. В отсутствие Виссариона Григорьевича Надеждин напечатал в «Телескопе» философское письмо Чаадаева [11]11
П. Я. Чаадаев– друг Пушкина, выдающийся русский мыслитель первой половины XIX века.
[Закрыть]. Это письмо было проникнуто глубочайшим критицизмом по отношению к реакционному самодержавию и подняло настоящую бурю в читательских кругах. Правительство Николая I не замедлило расправиться с автором, официально объявив его сумасшедшим и посадив в дом умалишенных. Надеждин, как издатель журнала, где было напечатано письмо, был выслан из Москвы, а журнал был закрыт. Не избежал неприятностей и Белинский. Его арестовали на заставе при въезде в Москву, привезли в полицию и подвергли тщательному обыску. Но так как в его бумагах «ничего сомнительного не оказалось», Виссариона Григорьевича отпустили домой. Зато журнальная деятельность Белинского была прервана надолго. Впереди снова виднелась черная нужда, полуголодное существование.