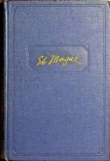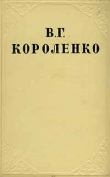Текст книги "Статьи и рецензии (1831-1942)"
Автор книги: Николай Гоголь
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться таланту? Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех – великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц… Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем: не личность ли это? потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзана, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигурантов, отплясывающих пред зрителями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник даже скажет: «Как же это? у меня есть родственник надворный советник, прекрасный человек! как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить всё сословие! И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»…
Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», – только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку в роде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство…
Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится как вихорь с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами; когда спектакли даются и днем и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов…
Спокоен и грозен великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре.
Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.
В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшею суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда, только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие всё в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте…
– К чему так быстро летит ничем незаменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост, какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь, наконец, займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение; но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ всё так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два, и три, и несколько лет; – а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суровее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.
Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная – всё получило картинный вид. Дымясь влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами-няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар, – это было накануне светлого воскресения вечером, – когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась перед мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, – мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где всё знаю и где то, чего нет в Петербурге… Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается с своим яликом у берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.
Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова воскресенья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угóльном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий чорт с топором в руке. Больше я ничего не видел.
Светлым воскресеньем, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что всё, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после светлого воскресенья – больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед великим постом, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою зевающий рот свой. Город весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены в одних сюртучках с разными палками; вместо громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов, вместо шерстяных чулков, глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце Петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция… Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские домы…
РЕЦЕНЗИИ ИЗ «СОВРЕМЕННИКА»
Исторические афоризмы Михаила Погодина. Москва, Универс. тип. 1836 (8), VIII и 128 стр
Г-н Погодин во многих отношениях есть лицо примечательное в нашей литературе. Он уединенно стоит среди писателей наших, не привлекая благорасположения большинства. Но из всех, посвятивших себя истории, он более всего останавливает на себе внимание. Он первый у нас сказал, что «история должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека чрез все степени его возраста»; что «многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысящелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки». Он первый говорил о великих писателях, указавших в творениях своих на истинное значение истории. Он переводил из них отрывки для своего журнала; наконец он многих из них перевел вполне, почти не заботясь о том, что важность их еще мало у нас чувствовали. Вот реестр изданных им сочинений:
Исследование о Кирилле и Мефодии, Иосифа Добровского
О жилищах древних руссов, собственное сочинение.
Критические исследования Эверса.
Начертание древней географии, собств. соч.
Лекции по Герену.
Начертание всеобщей истории, Бетигера.
Введение в историю для детей, А. Шлецера.
Русская история для училищ.
Карты Европы, Риттера.
Гец Фон Берлихинген, соч. Гёте.
Марфа Посадница, драма.
Димитрий Самозванец, история в лицах.
Славянская грамматика, Добровского, переведенная вместе с г. Шевыревым.
Кроме того, издавал он:
Московский вестник за 1827, 1828, 1829 и 1830 год.
Уранию, альманах на 1826.
В его исторических критиках видно много ума, обдуманная умеренность, иногда юношеский порыв вслед за собственною мыслию.
Изданная ныне книжка заключает отдельные мысли и замечания, записанные им в разное время. Эти мысли помещены без всякого порядка; выражены не всегда ясно. Но в них ощутительно стремление к общим идеям. Границы, им начертанные для истории, обширны. Он заключает ее не в одних явлениях политических; он видит ее в торговле, в литературе, в религии, в художественном развитии, во всех многообразных явлениях, в каких оказывается человечество. Вот его мысли об истории вообще:
«Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории».
«История для нас есть еще поэма на иностранном языке, которого мы не понимаем, и только чаем значение некоторых слов, много-много эпизодов. А сколько мест искаженных в нашей рукописи от невежества, ограниченности переписчиков! Историю надо восстановлять (restaurare), как статую, найденную в развалинах Афин, как текст Виргилиев в монастырском списке».
«Представьте себе (я требую возможного только в воображении), что человек, не имеющий понятия о музыке, но одаренный от природы всеми способностями, чтоб чувствовать и понимать ее, получает партитуру какой-нибудь огромной оратории и все музыкальные инструменты, на коих она может быть разыграна, с голым известием, что условными знаками, им видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данных инструментах. Он хочет по сим двум данным представить себе исполнение (exécution) сего великого музыкального произведения. Ему должно, во-первых, испытать все инструменты и узнать все их возможные звуки, переметить их и привести в порядок свои новые ноты, отыскать посредством соображений, опытов, отношение своих нот к данным (как бы посредством фальшивого арифметического правила), узнать таким образом, какой звук и на каком инструменте тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуру по частям и проч. и проч. Сколько усилий ума потребно, чтоб попасть на сии средства, сколько потребно труда, чтоб воспользоваться сими средствами! Целые поколения прейдут, пока наконец внуку внуков удастся достигнуть отдаленной цели прародителя и насладиться божественною гармониею».
«Труднейшая задача задается историку: он сам должен ловить все звуки (летописи, Несторы, Григории Турские), отличить фальшивые от верных (историческая критика, – Шлецеры, Круги), незначительные от важных, сложить в одну кучу (истории, собрания деяний, – Роллени), разобрать сии кучи по родам истории (частные истории религии, торговли, – Герены), провидеть, что в сей куче и кучах должна быть система, какой-нибудь порядок, гармония (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно a priori (Шеллинги), делать опыты, как найти сию систему (Асты, Штуцманы), наконец найти ее и прочесть историю так, как глухой Бетховен читал партитуры».
В империи Византийской г-н Погодин видит продолжение истории древней Греции. Гений Платона, Аристотеля воскресает в Иоанне Златоусте и Григории Назианзине.
Францию он полагает родником всего общественного, гражданского и политического, землей, где совершается вечный опыт. Подведенные в подтверждение события доказывают большую наблюдательность. У франков, говорит он, прежде всего была принята христианская католическая религия и раньше сделалась государственною; у франков прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франк Карл Великий первый возвысил папу; отозвавши папу в Авинион, Франция была отчасти виною его падения; во Франции были первые попытки противу папской власти (альбийцы); рыцарство развилось блистательнее во Франции; крестовый поход был подвинут французом, Амиенским пустынником; разрушенный феодализм прежде всего организовался в самодержавие во Франции; постоянные войска начались во Франции; постоянные налоги и королевский суд во Франции; идея о равновесии истекла из войн италиянских, порожденных Францией; учреждение посольств, политические журналы, кофейные дома, энциклопедия, язык, мода, карты – всё родилось во Франции. Общественное мнение нигде так не сильно, как во Франции; Франция остановила революции своим ужасным примером; виною нынешнего тесного соединения европейских держав между собою есть Франция и ее Наполеон.
Многие афоризмы суть только сближения сходных и противоположных происшествий, совершившихся в разных углах мира или на одной и той же земле; сближение отдаленной, почти сокровенной причины с ее колоссальными следствиями, отозвавшимися чрез несколько веков, всегда разительно. Другие афоризмы суть только вопросы на вопросы. Везде видишь человека, обладаемого величием своего предмета. Это благоговейное изумление дышит на каждой странице. Иногда, пораженный бесконечностью науки, он как будто чувствует бессилие духа и восклицает: «Как же мудрено распознать, отчего что происходит, что к чему клонится! Как переплетаются причины и следствия! Повторяю вопрос: можно ли представить историю? Где форма для нее? Историю вполне можно только чувствовать».
Читатель обыкновенный небрежно и рассеянно взглянет на эту книгу и, отыскав две-три незначительные мысли, дурно выраженные, может быть, посмеется над нею с детским легкомыслием; но читатель, в душе которого горит пламень любви к науке, а мысль постигает глубокое значение ее, прочтет эти страницы с соучастием, проникнется благодарностию за оживленные в душе его размышления и скажет: этот человек видел и чувствовал в истории то, что не всякому дано видеть и чувствовать.
Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь, сочинение Я. Озерецковского. С.-П.-бург, 1836, в тип. Н. Греча, в 12 д. л., 54 стр
Несколько занимательных замечаний о северной природе. Желательно было бы слышать более о сем угрюмом и знаменитом в наших летописях монастыре, где древле томились в заточении наши опальные патриархи и святители.
Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год, артиллерии подполковника И. Р… Москва, 1835–1836 г., в 8 д. Четыре части. Стр. 296–348—354—375
Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны; всё наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка; даже постой русского офицера на немецкой квартире составлял уже роман. Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случалося с ними, как с людьми частными, почитают они слишком неважным, и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя; но всё в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума.
Письма леди Рондо, супруги английского министра при российском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны. Перевел с английского М. К. С.-П.-бург, в тип. III отделения собственной е. и. в. канцелярии, 1836, в 8, стр. 128
Книжка замечательная. Леди Рондо пишет к приятельнице своей о себе, о своих чувствах, о том, что занимательно для нее одной, но мимоходом задевает и историю. Несколько беглых слов о Петре II, об императрице Анне Ивановне, о Бироне прибавляют новые черты к их портретам.
Путешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картере, Бугенвилля, Кука, Лаперуза, Блейга, Ванкувера, Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Портера, Коцебу, Фрейсине, Беллингсгаузена, Галля, Дюперре, Польдинга, Бичи, Дюмон-Дюрвиля, Литке, Диллона, Лапласа, Мореля и пр., издано под руководством Дюмон-Дюрвиля, капитана Французского королевского флота, с картами и многочисленным собранием изображений, Гравированных на меди, с рисунков известного г. Сенсона, рисовальщика, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем. Издание А. Плюшара. Часть первая, С.-П.-бург. 1836, в тип. А. Плюшара, в 4.
Есть книги, пишущиеся для того общества, которое нужно как детей заохочивать и принуждать к чтению. В этом случае бескорыстнее действовали англичане, которые, при всей народной гордости, отличаются своею филантропией, составляют общества для распространения нравственности, воздержания и проч., издают и распускают по свету безденежно, или по чрезвычайно низкой цене, множество полезных книг для народа. Что изобретет англичанин, то углубит, расширит и разнесет по всему свету француз. Едва появилось во Франции одно дешевое издание, как уже на другой год нахлынул потоп дешевых изданий. Еще не успеет Европа получить одно, как является другое. К числу множества таких изданий принадлежит и вышеозначенное. Оно замечательнее других потому, что полезнее. Это свод всех путешествий, изображение всего мира в его нынешнем географическом, статистическом и физическом состоянии, словом, книга, более всего находящая себе читателей, потому что путешествие и рассказы путешествий более всего действуют на развивающийся ум. Сведения, принесенные новейшими путешественниками, в этой книге вложены в уста одного. Быть может, слишком взыскательному читателю станет досадно при мысли, что всё это рассказывает ему человек не существующий: свежесть впечатлений, сохраняемых очевидцем, ничем незаменима. Язык перевода ясен и жив. Картинки очень хороши. В месяц выходит довольно большая тетрадь в 4, печатанная в два столбца. В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он выдал уже один том; если выйдут остальные пять, то и его издание будет дешевое.