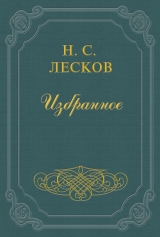
Текст книги "Загадочный человек"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Глава тридцать третья
Освободясь от депутатов молодого поколения, Бенни немедленно же отправился к бывшему в то время с. – петербургскому обер-полицеймейстеру Анненкову с самою странною и неожиданною просьбою, объясняемою единственно лишь только пылкостью характера Бенни и его относительным незнанием петербургских нравов. Не упоминая, разумеется, ни одного слова о приходившей к нему с угрозами депутации молодого поколения, Бенни просил генерала Анненкова, во внимание к распространившимся в столице ужасным слухам, что в поджогах Петербурга принимают участие молодые люди, обучающиеся в высших учебных заведениях, дать этим молодым людям возможность разрушить эти нелепые и вредные толки, образовав из себя на это смутное время волонтеров для содействия огнегасительной команде. Бенни доказывал обер-полицеймейстеру Анненкову, что мера эта совершенно безопасна и дозволяется почти везде за границею, да и у нас в Риге, а между тем она и усилит средства огнегасительной команды, когда будет являться в помощь ей на пожары, и в то же самое время докажет, что у молодых людей, из которых она будет навербована, нет ничего общего с зажигателями. В священной простоте своей Бенни, объясняя свой план генералу Анненкову, ни на минуту не сомневался, что молодые люди, о которых он хлопотал, так и кинутся в волонтеры-гасители. Он и не подозревал, что в кружках, где распоряжались от лица «молодого поколения», не было и малейшего поползновения оправить и очистить студентов от подозрений, а, напротив, вся забота состояла в том, чтобы представлять самих себя в опасном положении, чтобы только свирепеть и злобствовать, выводя из всех этих пустяков необходимость непримиримой вражды… С кем и за что? – тогда разобрать было невозможно. Между же тем не совсем укладистая мысль Бенни не была вдруг отвергнута обер-полицеймейстером. Генерал Анненков попросил Бенни изложить его мысль о волонтерах на бумаге, и Бенни подал об этом генералу обстоятельную записку, и в течение некоторого времени осуществление волонтерской команды казалось возможным. В это время «Пчела» эту мысль поддерживала, а другие тогдашние петербургские газеты (впрочем, не все) вдруг ополчились против хлопот Бенни и нашли в них нечто столь смешное и вредоносное, что не давали ему прохода. Всегда отличавшаяся близорукостью и полным отсутствием политического такта сатирическая газета «Искра» хохотала над этою затеею учредить волонтеров, и мало того, что издевалась над нею в прозе и в стихах, она еще рисовала Бенни разъезжающим на пожарной трубе вместе с другими сотрудниками «Пчелы», которые не принимали в этих хлопотах Бенни ни малейшего непосредственного участия. Дело было осмеяно, студенты в него теперь не пойдут. Все замущено и одурачено, никто не разберет, что хорошо и что дурно… Этого только и надо! Встретив такое противодействие своей мысли не со стороны администрации, а со стороны прессы – откуда Бенни, в святой простоте сердца, ждал только одной поддержки, – он даже растерялся от этой бестактности, казавшейся ему совершенно невозможною. Осмеянный и обруганный, он бросил все свои хлопоты о волонтерной команде и опять взялся за свой кандидатский экзамен с целию сдать его и со временем искать места присяжного поверенного при ожидавшихся тогда новых судах. С этих пор Бенни решил было совсем удалиться от всяких русских революционных деятелей. Но живая, впечатлительная натура его, при полном отсутствии всякой устойчивости, не позволяла ему и на этот раз остаться в стороне от вопросов дня, волновавших тогдашних хлопотунов. В это время в Петербурге разгорался так называемый «женский вопрос». Бенни непременно надо было попасть и сюда; надо было впутаться и в этот «вопрос», имевший для него впоследствии более роковое значение, чем все его прежние предприятия.
Глава тридцать четвертая
Многим известно, что как только здесь, в Петербурге, был поднят «женский вопрос», он тотчас же не избежал обшей участи многих вопросов, обращенных в шутовство, с которым деятелям того времени удалось сблизить и общественную благотворительность, и обучение грамоте народа, и даже бесстрастное преподавание естественных наук и многое другое. Пока в петербургских журналах печатались разные теоретические соображения насчет нового устройства женского пола, в жизни практической объявились некоторые специалисты по женской части. Эти практиканты начали направлять бездомовных и отбившихся от семейств женщин в типографии. Что за выгодную статью видели эти люди в типографской работе и почему наборщичество казалось им, например, прибыльнее часовщичества, гравированья, золоченья и других ремесел, в которых женщина вполне может конкурировать с мужчиной? – это так и остается их тайною, а полицию это предпочтение типографского труда натолкнуло на подозрение, что тут дело идет не о женском труде, не об обеспечении женщин, но об их сообщничестве по прокламаторской части. Это была почти самая первая и едва ли не самая большая и вредная ошибка со стороны администраторов женского вопроса, по крайней мере с этого начинались подозрительные взгляды на труд женщин. Но теоретиков никакое подозрение не образумливало, а только сердило, и они еще более утверждались в убеждении, что приучением женщин работать в типографиях можно достичь благодетельной реформы в судьбах русской женщины и положить начало практическому разрешению женского вопроса. Специалисты-практиканты взялись все это осуществить. Здесь не место рассказывать, сколько тут было обличено лжи, безнравственности и притворства и как невелико было число людей, искренно готовых приносить какие бы то ни было жертвы на пользу женщин. Именно, их можно бы даже без затруднения всех пересчитать здесь по пальцам, и они давно отмечены от толпы шарлатанов, искавших в этой суматохе только лишь случая репетиловски «пошуметь» во имя женского вопроса (очень часто во вред делу), или просто с целию пользоваться трудным положением женщин, когда те, отбившись от семей и от преданий, охранявших их женственность, увидят себя на распутии, без средств и без положения. К сожалению, со стороны многих людей это было то же самое мирское лукавство, от которого женщина страдает повсюду. Волки только надели овечьи шкурки… Число искренних людей, желавших собственно облегчить тяжкий женский заработок, в столице было самое маленькое, и Бенни был одним из первых в этом небольшом числе. Он начал с того, что ввел в редакцию «Северной пчелы» несколько дам и девиц в качестве переводчиц. Особы эти должны были работать под его надзором, но работы, к сожалению, делалось очень мало… Большое помещение, которое имел Бенни при редакции, в доме Греча, с этих пор каждый день было переполнено мужчинами, которые сюда были введены В. А. Слепцовым, чтобы могли видеть, как он будет «учить и воспитывать дам». С этих пор по всем комнатам во всех углах раздавались жаркие дебаты о праве женщин на труд, а на всех рабочих столах красовались – курительный табак, папиросные гильзы, чай и самые спартанские, но самые употребительные здесь яства: молоко и норвежские сельди. Неисповедимым путям всеохраняющего провидения угодно было, чтобы селедки, плавая в молоке, в желудках милых дам и благородных мужчин «гречевской фаланстеры» не причиняли ни малого вреда питавшимся ими деятелям. Работою здесь серьезно никогда не занимались; ею только изредка пошаливали две из посещавших редакцию дам, но и то работа эта большею частию была никуда не годная: Бенни все переделывал сам и только отдавал работницам мнимо следовавший им гонорар. Бенни вскоре же увидел, что из его усилий создать женскую atelier[10]10
мастерская (франц.).
[Закрыть] не выходит ничего похожего на atelier, но терпел ее в том виде, какой она принимала по воле и по вкусам приходивших развивателей. До чего это дошло бы? – это предсказать трудно; но, на счастье Бенни, atelier его скоро стала рассыпаться: две из его работниц, обладавших большею против других практичностию и миловидностию, вышли замуж церковным браком за нигилистничавших богатых юношей (одна из них теперь даже княгиня), а остальные, обладавшие меньшею практичностию, устроились менее прочно, но все-таки и эти, наскучив так называвшимся «бенниевым млеком», мало-помалу оставили его atelier. Сам же Бенни в это время додумался, что нужно заботиться о том, чтобы приурочить к труду простых женщин, а не барышень и не барынь, в которых он разочаровался.
Бедный Бенни и не воображал, что «простая русская женщина» уже и без него давно так приурочена к труду, что на нее не только нельзя ничего накидывать, но, напротив, давно надо позаботиться, чтобы избавить эту женщину хотя от части ее трудов. Крайнее непонимание жизни, врожденная легкомысленность и отвычка вдумываться в дело, приобретенная двухлетним вращением среди вопросов, не составляющих вопроса, пустила Бенни увлекаться по этому пути заблуждения. Да и это бы еще ничего, но он пошел увлекать на этот путь тех, которые имели неосторожность на него полагаться. На зарабатываемые своим литературным трудом деньги Артур Бенни приобрел четыре типографских реала и поставил за них четырех наборщиц. Девушки, начавшие учиться за этими реалами типографскому делу, были: одна – бедная швея, не имевшая о ту пору работы, другая – бедная полька, жившая субсидиями Огрызько, третья – бедная дворянка, дочь едва двигавшей ноги старушки, которую дочь содержала своими трудами, а четвертая – капризная подруга одного из мелкотравчатых писателей. Но с этими женщинами у Бенни тоже дело не пошло, да и не могло идти, как не шли все его предприятия, потому что Бенни, которого простодушные люди считали хитрым, был легкомыслен как дитя. Он, этот трагикомический «натурализованный английский субъект», пришедший к нам с мыслию произвесть социально-демократический переворот в России, сделавшись антрепренером четырех типографских реалов из чужой типографии, выказал такую неспособность организовать работу, что это новое его серьезнейшее предприятие обратилось в самый смешной анекдот. Оказалось, что Бенни не только не имел и такой основательности, какая непременно бывает у каждого мелкого ремесленника, открывающего маленькую собственную мастерскую, но что у него не было даже предусмотрительности босоногого деревенского мальчишки, сажающего для своей потехи в клетку чижа или щегленка. Тот, сажая птичку, заботится припасти для ее продовольствия горсть конопель или проса, а Бенни взял четырех совершенно бедных женщин с условием доставлять им содержание до тех пор, пока они выучатся и станут печатать книги, и упустил из виду, что это содержание вовсе не дебаты о труде, а нечто вещественное, что его надо было своевременно приобресть и запасти. Он не сообразил, что ученицы, шедшие к нему на определенное готовое положение, были совсем не то, что прежние его сотрудницы, барышни-переводчицы, хотя и получавшие задельную плату с переведенной строчки, но имевшие все-таки кусок хлеба и без этого заработка. Его новым, бедным работницам надо было давать четверым восемьдесят рублей в месяц, хотя бы они не выработали и на восемьдесят копеек.
Имея возможность зарабатывать в ежедневной газете от трехсот до пятисот рублей в месяц, Бенни, конечно, не зарывался, считая себя в силах давать своим ученицам ежемесячно восемьдесят рублей, – он мог давать им эти деньги; но он упустил из вида одно важное условие, что для получения денег он должен был продолжать работать, а ему в это время стало не до работы. Пока Бенни учреждал свою женскую типографию, другой литератор (имя которого всецело принадлежит истории комического времени на Руси) учредил в Петербурге упомянутую в «Панурговом стаде» г-на Крестовского «коммуну», где поселилось на общежительство несколько молодых дам, девиц и кавалеров. В числе приехавших в эту коммуну из Москвы женских членов была одна девица из очень хорошего московского дома. Ей суждено было произвести на Бенни то сильное и неотразимое впечатление, которое на человеческом языке называется любовью…
Девушка эта, наделенная от природы очень способною головою, но беспокойнейшим воображением, не поладив с порядками родительского дома, приехала из Москвы с намерением жить в Петербурге своим трудом.
Справедливость требует, упоминая здесь об этой девушке, заметить, что тот бы очень погрешил, кто стал бы думать о ней, как позволяли себе думать некоторые другие, шедшие тою дорогою, на которой показалась и она. Девица К. была личность юная, чистая, увлекавшаяся пламенно, но по разуму своему скоро обнимавшая вопрос с разных сторон и с тех пор страдавшая сомнениями, обращавшимися для нее в нравственные пытки. Безукоризненная чистота ее образа мыслей и поведения всегда были превыше всяких подозрений, но она несла разные подозрения, и несла их в молчаливом и гордом покое, в котором эта «маленькая гражданка» (как мы ее называли) была чрезвычайно интересна. Она, подобно Бенни, глубоко и искренно верила в то, чем увлекалась, и Артур Бенни сразу же это отметил в ней и… полюбил ее. Бенни устремился угождать ей отыскиванием для нее переводной работы, исправлением ее переводов и их продажею. Потом, когда уставщик коммуны однажды неосторожно оскорбил эту девушку, явясь в ее комнату в костюме, в котором та не привыкла видеть мужчин, живучи в доме своего отца, – она заподозрила, что в коммуне идет дело не об усиленном труде сообща, и, восстав против нравов коммуны, не захотела более жить в ней. Понадобились хлопоты Бенни об устройстве оскорбленной девушки в каком-нибудь частном доме. Все это требовало времени и денег, а работа не делалась; заработков у Бенни не было, и четыре засаженные им в типографию пташки оставались без корма.
Глава тридцать пятая
Таким образом, типографское предприятие Артура Бенни и его покровительство русским женщинам постигла участь всех прежних предприятий этого увлекавшегося юноши: оно не годилось с самого начала. Ученицам нечего было есть. Бенни делился с ними, он отдавал им, что было. А у него, при его бездействии, бывали ничтожные рублишки, и то не во всякое время. Все это, разумеется, ничего не помогало. В средине учениц произошло нечто вроде восстания, которым в качестве литературной дамы предводительствовала подруга писателя. Она не хотела слышать ни о каких отсрочках и на втором же месяце шумно покинула кооперативное учреждение. Три остальные были терпеливее и выносливее, но однако мало-помалу и они отстали. Швея ушла шить; полька ушла «do familii»,[11]11
в семью (польск.).
[Закрыть] а одна продолжала ходить и училась, питаясь бог весть чем, как птица небесная. Она выдержала так четыре месяца и поступила потом корректором в другую типографию. Засим исчез и след женской типографии Артура Бенни, и на месте ее стала «мерзость запустения».
В это время Бенни посетила тяжелая болезнь и нищета, к которой он привел себя предшествовавшим своим поведением и из которой, упав духом, не мог выбиться до самой высылки его, по решению сената, за русскую границу в качестве «англичанина». Средства, к которым Артур Бенни прибегал для того, чтобы, имея некоторый талант и знания, при отменной трезвости и добросовестности в работе, доходить порой до неимения хлеба и носильного платья, были самые оригинальные.
Бескорыстное служение Бенни неспособным переводчицам, его возня с капризными жилицами коммуны, его женская типография и вообще многие другие его поступки, свидетельствовавшие о его бесконечной простоте и доброте, обратили на него внимание некоей литературной черни, решившей себе, что «он Филимон простота». У Бенни была большая квартира; у него был или бывал иногда кое-какой кредит; он один, с его начитанностию и с знанием нескольких европейских языков, мог заработать втрое более, чем пять человек, не приготовленных к литературной работе. Пятеро из людей такого сорта (один не окончивший курса студент, один вышедший в отставку кавалерийский офицер, один лекарь из малороссиян, один чиновник и один, впоследствии убитый в польской банде, студент из поляков) устремились овладеть священнейшею простотою Бенни, чтобы жить поспокойнее на его счет. Устремились они к этому довольно одновременно, так что ни одному из них не удалось обратить Бенни в свою исключительную частную собственность. Понимая друг друга, как рыбак рыбака, и боясь один другого, как иезуит иезуита, достопочтенные люди эти решились, скрепя сердца свои, владеть Артуром Бенни сообща, в компании, на коммунистических началах. Они склоняли его к мысли устроить у него мужскую atelier. Бенни и в этом не отказал, и коммунисты поселились у него все разом. Условием этой однополой коммуны было, чтобы никому между собою ничем не считаться. Кто что заработает, кто что принесет, кто что истратит, чтобы это все было без контроля и без счета. Бенни верил, что это гораздо более по-русски, чем в общежительной коммуне, откуда бежала «маленькая гражданка» и где каждый брал заработки в свои руки, а только лишь расходы велись сообща. Это и точно вышло по-русски. Наглости артельщиков Бенни не было и не может быть ничего равного и подобного. Это ничего почти не выразит, если мы, по сущей справедливости, скажем, что сожители его обирали, объедали, опивали, брали его последнее белье и платье, делали на его имя долги, закладывали и продавали его заветные материнские вещи, – они лишали его возможности работать и выгоняли его из его же собственной квартиры. Чтобы передать хотя сотую долю того, что проделывали с этим добрейшим человеком поселившиеся у него лже-социалисты, надо писать томы, а не один очерк, и притом надо быть уверенным, что пишешь для читателя, который хотя сколько-нибудь знаком с нравами подобных деятелей, свирепствовавших в Петербурге в эпоху комического времени на Руси. Иначе каждый человек, не видавший подобных вещей, подумает, что ему рассказывают вымысел и сказку, – так все это, поистине, чудно и невероятно. Если бы Бенни не вел своего дневника и не оставь он никаких бумаг, то трудно, может быть, было бы решиться рассказать и то, что до сих пор рассказано в этой «Беннеиде»; но благодаря этим бумагам когда-то объявятся миру еще не такие чудеса «комического времени» и, читая их, конечно, не один потомок вздохнет и покраснеет за своего предка.
Глава тридцать шестая
Еще раз приходится упомянуть, что Артур Бенни был девственник. Хотя, собственно, это его личное дело, но об этом нельзя не упомянуть, потому что этим объясняется нечто такое, о чем наступает очередь рассказывать. До высылки Бенни из России многие, близко знавшие этого юношу, знали и его целомудренность. Такой целомудренности лучшая из матерей могла бы пожелать своей нежно любимой дочери, и девушка эта имела бы право называться скромнейшею из девиц своего времени. Артур Бенни не только не любил никакого нескромного слова и смущался при виде обнаженной женщины на картине, но он положительно страдал от всякого нескромного разговора и не раз горестно жаловался на это автору настоящих записок. Говоря о женщине (знакомой или незнакомой – это все равно), но говоря о ней цинично, как иные любят говорить, думая, что это очень интересно, Бенни можно было довести или до слез, или до столбняка, что не раз и случалось. Артельные сожители Артура Бенни знали за ним это и создали ему из его стыдливости нравственную пытку. Им претила его нравственная чистота и его несносная для них целомудренность. Они начали толковать, что этот «порок» мешает Бенни быть полезным деятелем.
– Он не шпион, а он михрютка, не знающий, где раки зимуют, – сказал о нем однажды всей его компании один беллетрист, имевший одно время значение в некоторых кружках, примыкавших к «общежительной коммуне». – Оттого, – говорил беллетрист, – и все действия Бенни странные, оттого-де он и выходит таким шутом. Это можно, мол, доказать и с физиологической точки зрения: посмотрите-де только на старых девушек и монахинь, и т. п.
Беллетрист резонировал бархатным баском; ему внимали его сателлиты и нашли, что все им сказанное на эту тему действительно очень умно и резонно. Поощряемый таким сочувствием, оратор и деятель заключил, что Бенни надо перевоспитать, что из него «надо выбить дурь английской морали» и сделать из него такого человека, как все они. Решение это тотчас же было принято всеми сожителями Бенни, крайне заинтересовавшимися на этот раз бедственною судьбою своего кормильца. Проживавшая на хлебах у Бенни артель давно тяготилась отсутствием в их казарме женского элемента. Правда, приходили туда к ним иногда в гости некоторые дамы, но они должны были и уходить оттуда с чинностью, к которой волей-неволей обязывало их присутствие скромного хозяина. Нахлебники Бенни находили, что это со стороны их хозяина даже своего рода деспотизм, что таким образом, через его чудачества их собственная, дорогая им жизнь утрачивает очень много своей прелести и «гречевская фаланстера» (как называли сами они квартиру Бенни) теперь, по его милости, скорее не фаланстера, а раскольничий скит, да еще с скопцом игуменом. Теперь решено было, что все это действительно несносно и что необходимо, чтобы с этого же дня все здесь шло по-другому. Составлен был план, как действовать на Бенни. Молодец, руководивший всем этим делом, прежде всего вменил в обязанность всем изменить свое обращение с Бенни. До сих пор все знавшие Бенни остерегались при нем всяких скабрезных разговоров, цинических выходок и слов, которых Бенни не переносил; теперь было решено «ошколить его» и приучить его ко всему. Начать это положено было немедленно же, даже с сего же дня, если только Бенни сегодня возвратится, пока не улягутся спать. Бенни был легок на помине и позвонил в то самое время, когда его артель и гости закусывали. Заслышав его голос, нахлебники переглянулись, они оробели – почувствовали, что все-таки они мимо воли своей уважают нравственную чистоту Бенни. Но уставщик-беллетрист был гораздо наглее и оживил своим примером смелых на словах, но на самом деле оробевших нахлебников Бенни.
«Натурализованному английскому субъекту» готовился всего менее им ожиданный русский спектакль.








