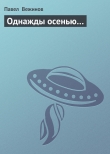Текст книги "Театральная хроника. Русский драматический театр"
Автор книги: Николай Лесков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
– Талан-доля, иди за мною, я буду счастлив и ты будешь счастлив, – лепечет, собираясь, Кисельников.
– Это я его научил, – говорит Боровцов.
Всю почти немую сцену чаепития с тестем, сборы и выход за тестем на толкучку г. Малышев, сверх всякого ожидания, исполнил прекрасно. Именно, «за человека страшно» было, глядя на его лицо и слушая произнесенное им себе суеверное напутствие. Он в этом действии уже сумасшедший, и Боровцов при нем говорит все, нимало не опасаясь, что он придет как-нибудь в сознание. В дверь вбегает Лиза, дочь Кисельникова, 17 лет (г-жа Струйская), «кормилица целой семьи», как называет ее бабушка. Она в страшном перепуге; за нею кто-то гнался, и она едва попала домой, благодаря заступничеству молодого человека. Входит и этот молодой человек: это Погуляев. Он и бабушка узнают друг друга. Анна Устиновна рассказывает ему историю событий, доведших их до этой лачуги; Погуляев дает ей сколько-то денег, прощается и уходит. Лиза с замешательством желает удержать его, но это ей не удается. Является сумасшедший Кисельников, твердя слово «конура». Сосед, барин Грознов, зазвал его, как нищего, и сказал ему, чтобы он не жил «в конуре» и «дочь в конуре» не держал, и предложил им целый флигель. Лиза в ужасе: она понимает цель перехода ее во флигель богатого, женатого барина.
– Вот беда-то, – говорит бабушка, которой Лиза открывает блеснувшие перед нею страшные соображения.
– Думайте, бабушка, – отвечает в сомнении Лиза.
– Ох, не спрашивай ты меня! не спрашивай! Что мать, что бабка – обманщицы, лукавые понаровщицы; на добро детей не учат, всяким их шалостям потакают. Вот я раз Кирюшу пожалела, не на добро его научила: словно как от тех моих слов и сталось. А грех-то на моей душе. Первые-то матери грешницы, первые-то за детей ответчицы.
– Кто ж меня на ум наведет? – спрашивает несчастная девушка. – Стою я над пропастью, удержаться мне не за что. Ох, спасите меня, люди добрые!
Возвращается Погуляев и, не говоря много слов, делает Лизе предложение быть его женою, а Кисельников, между тем, все порывается идти «к барину», предлагающему ему перейти с дочерью из конуры во флигель. Этот бедняк, этот осколок угасшего страдальца ничего не понимает; он и Погуляева узнать не может; но все, общими усилиями напоминая ему разные встречи его с Погуляевым, доводят его до способности возвратиться к прошедшему и сознать значение настоящего. «Переезжайте ко мне, будем жить все вместе», – говорит Погуляев. Все счастливы. Лиза просит жениха, чтоб он выучил ее «такой работе, за которую много денег дают, чтоб помогать бедным девушкам, которых много в таком положении, в каком была она», и пьеса чуть не кончается картиною мещанского счастья с самым легким гражданским намеком на будущую деятельность молодой девушки. Но является толкучник Боровцов с своими манишками и требует с зятя «спрыски», за счастье, ниспосланное ему в предложении «барина Грознова». С Кисельниковым происходит быстрый переворот. «Погуляев! – говорит он. – Ты возьми к себе матушку и Лизу, а меня не бери».
«Отчего же?» – спрашивает Погуляев. Лиза и бабушка тоже удивляются и приглашают Кисельникова к нареченному затю; но Кисельников твердо отвечает: «Нет, Погуляев, бери их, береги их; Бог тебя не оставит, а нас гони, гони! Мы вам не компания – вы люди честные. У нас есть место; оно по нас. (Тестю) Ну, бери товар, пойдем. Вы живите с Богом, как люди живут, а мы на площадь торговать, божиться, душу свою проклинать, мошенничать. Ну, что смотришь! Бери товар! Пойдем, пойдем! (Собирает товар.) Прощайте! Талан-доля, иди за мной… (Уходит.)
Пьеса кончена.
Давая отчет об исполнении четвертого акта, можем сказать только несколько слов в пользу игры Малышева. Актер этот, явно не понимавший своей роли в первых трех действиях, в четвертом возвысился до замечательной верности, и если бы не недостаток внутренней силы, обнаруженный г. Малышевым в сцене возвращения к нему сознания, то можно было бы сказать, что г. Малышев сыграл четвертое действие „Пучины“ прекрасно. Впрочем, во всяком случае, мы ему очень благодарны за его игру в этом действии и радуемся, получая возможность думать, что он актер не без дарования и может надеяться на успех, если убедится в непригодности той почти бурдинской рутины, которая безобразит его игру, репрезентуя его зрительной зале всегда с одною и тою же убийственной, стереотипной манерой. Об игре остальных актеров говорить нечего, а позволим себе сказать несколько слов о самой пьесе.
Не принадлежа к разряду литературных людей, легко обращающихся с заслуженными именами, мы считаем своею обязанностью быть осторожными в выражении наших мнений о „Пучине“, освобождая себя, однако, от всякой обязанности лавировать и хитрить. Указав на то обстоятельство, что пьесу эту, по времени написания ее автором, следует в хронологическом отношении рассматривать задним числом, мы сказали, что эту эпоху многие принимают за годы самого высшего таланта г. Островского. Если г. Островский после „Шутников“, „Тяжелых дней“ и „Воеводы“ не напишет вновь ни одной вещи столь глубоко задуманной, художественно выполненной и цельной, как „Гроза“, „Бедность не порок“ и „Свои люди – сочтемся“; то мы не сочтем преступлением стать на стороне решительных людей, утверждающих, будто лучшее время таланта г. Островского прошло. Если ж г. Островский подарит наш бедный репертуар столь же даровитой вещью, как те, которые по справедливости дали ему почетное имя и видное место в ряду русских драматических писателей, то мы останемся при том убеждении, что у г. Островского была полоса неудач. К этой полосе мы станем относить его „Минина“, „Воеводу“, „Шутников“ и „Тяжелые дни“ – вещи, имеющие очень хорошие, даже замечательно-прекрасные места, но лишенные в целом тех достоинств, которые позволили бы им стать рядом с „Грозою“ и вообще с лучшими произведениями этого дорогого для нас автора. Автор продолжает изображать купеческий мир… Только в „Доходном месте“ г. Островскому покорно далась изобразить себя не купеческая среда. „Минин-Сухорук“ с его посадскими, „Воевода“, богатый сценическими эффектами и многими бесценными красотами, в целом опять заставляют думать, что автор всюду и во всем видит одних московских купцов. Хотя по отношению к древней Руси в этом взгляде автора много правды, однако же московское купечество не дает еще ключа к пониманию старинной Руси. Но все-таки „Минина“ и „Воеводу“ мы считаем историческими попытками более счастливыми, нежели неудачными. „Шутники“ и „Тяжелые дни“ слабы сами по себе, не входя в эту смету отступлений от среды и от жанра.
Итак, г. Островскому более всего всегда удавались типы из московского гостинодворского купечества. Правда, гостинодворское купечество – целый мир, но с нравственной и умственной стороны мир крайне узкий, однообразный и надоедающий, мир неподвижный, страдающий отсутствием разнообразия и безучастием к волнующим вопросам современной действительности. От этого, как кажется, мир этот легко может быть исчерпан при таком большом таланте, как у автора. Доказательством может служить деятельность самого г. Островского. Со времени „Грозы“, лучшей его пьесы и в этом роде едва ли не лучшей пьесы всего нашего репертуара, все истинные почитатели г. Островского, чрезвычайно дорожившие, из любви к русской сцене, его успехами, думали, что автор всходит горною тропою, которая, поднимаясь вверх, все расширяется и ведет его к точке, с которой он взглянет на свой мир властительным оком судьи и пророка. Г. Островский не дал этим надеждам осуществиться: сзади и спереди Катерины Кабановой до сих пор нет образа, взятого им из этой среды не со стороны ее исключительного безобразия. Только вдалеке где-то видны Кулигин и Любим Торцов, но и это лица совершенно пассивные: один со слезами приносит обществу жертву его „жестоких нравов“, другой отрезвляется для коленопреклоненной мольбы перед тою же жестокостью. В обществе нашлось довольно людей, которыми это было замечено: эти люди, при появлении последующих работ г. Островского, все жили надеждами встретить лицо, которому тень Катерины придет разрешить ремень сандалии и обтереть ноги своими мокрыми волосами. Такого лица не являлось. Все словонеистовства покойного Ап. Григорьева, старавшегося возвести в перл создания Любима Торцова, не дали этому типу мильонной доли тех общественных симпатий, которые захватила себе чистая личность Катерины – личность, которой не нужны похвалы и не страшны порицания. Как Беатриче вела своего Данте, так она, эта Катерина, вела и ведет г. Островского, строго поднимая вверх свой тонкий палец и налагая им печать смирения на хульные уста, способные не почтить человека, который создал ее. Островскому не помогали ни увлекавшийся до абсурдов Григорьев, так легко и так неудачно производивший не одного литературного рекрута то в Диккенсы, то в Гете, то в Шекспиры, ни другие критики из разряда столь же беспардонных поклонников г. Островского, ни тем менее нигилистические органы, в которых г. Островский печатает свои произведения. Правда, что последнее обстоятельство избавило имя г. Островского от заушений и заплеваний, на которые была повальная мода и от которых не спаслось решительно ни одно литературное имя, но если эти заплевания не могли убить истинных дарований, сравнительно гораздо меньших, чем дарования г. Островского, то тем менее они могли оказать какое-нибудь влияние на его известное имя. Светлая фея, гений-хранитель г. Островского несомненно одна она, лучезарная Катерина Кабанова, летящая перед ним в ореоле своей чистоты, незлобия и непорочности; с мокрых тканей ее утопленнической одежды сеется на пыльные тропы российской словесности та осаждающая роса, по которой литературные вихри пролетают, не бросая в г. Островского ни одной пылинки. В „Пучине“ мы надеялись увидать другое воплощение столь же чистого духа, как дух Катерины, но… она снова одна остается гением Островского.
Говоря осторожно и с полным уважением к имени автора, к какой бы эпохе его деятельности ни относилась „Пучина“, она не может войти в разряд лучших его произведений. Если позволить себе увлекаться симпатиями к произведениям г. Островского и быть столь пристрастным, как покойный Григорьев, то пьесу эту, может быть, следовало бы расхвалить. Если рассуждать о ней, сравнивая и сопоставляя ее с современными произведениями других наших драматических писателей, то ее почти непременно должно расхвалить, даже со всею страстностью и увлеченностью Ап. Григорьева. Но если относиться к ней серьезнее и независимее, с требованиями критики здравой, с уважением к задачам искусства и силе крепкого таланта, который должен идти вперед, чтобы не пойти назад, то придется быть значительно экономнее в одобрениях. В „Пучине“ есть все то хорошее для сцены, чем хороши для сцены все почти произведения Островского, за исключением разве одного „Минина“: она жива, идет хорошо, трогает за сердце и, что называется, написана со знанием сцены, всегда составляющим привилегию этого писателя. Затем, как бы кто ни упрекал нас в скупости, мы на этом и остановимся. На театре эта пьеса может идти прекрасно, но самый непридирчивый литературный критик, знакомый с законами драмы, условиями быта, которого она касается, и с силами автора, может получить к „Пучине“ некоторую личность… она не удовлетворяет его, обижает его за себя, за среду, которой касается, и за автора, успехи которого дороги и милы его рецензенту. „Пучина“ до непростительности ненова по замыслу и даже ненова по содержанию. Это опять процесс заедания личности тою самою средою „самодуров“, которая уже съела у г. Островского не одного человека. Нет ни одного слова возражения против того, что среда растлевает и губит людей не особенно крепких; но твердить об этом тысячу раз и на одну и ту же ноту едва ли составляет достоинство. Жадов в „Доходном месте“ и Кисельников в „Пучине“ – это родные братья по плоти и по крови, только Жадов умнее, а Кисельников почти дурачок, если вовсе не дурачок. По крайней мере в жизни таких людей, как Кисельников, несомненно называют дурачками. Старуха Боровцова и чиновница Кукушкина родственницы столь же близкие и несомненные: пробежите их реплики, и вы в этом убедитесь. Глафира Кисельникова опять сестра Юленьки Белогубовой. У старика Боровцова родство несметное: если Савел Прокофьич Дикой не ближайший его родоначальник, то уж Самсон Большов его брат родной. Перемените их обстановки, заставьте Большова возиться с Кисельниковым, а Боровцова с Подхалюзиным, и они оба будут на своих местах. Антон Антипыч Пузатов в „Семейной картине“ тоже брат и единоверец Боровцова, и, одним словом, родство весьма обширное. Переярков и Ризположенский – оба профессоры одной и той же черной магии: оба устраивают злостные банкротства: Ризположенский для Большова и Переярков для Боровцова, и оба устраивают эти банкротства дурно, так что истина выбивается наружу и клиенты их гибнут. Турунтаев, правда, новое лицо, но лицо столь невеликой важности, что на нем не стоит останавливаться, а грациозная головка Лизы кивнула зрителям, сплакнула перед ними слезу своего несчастья и ушла в счастливую случайность в белейшей одежде такой невинности, возможность которой составляла предмет долгих споров еще в Поленьке Жадовой, хотя последнюю, конечно, и сравнивать невозможно с этим чуть намеченным женским личиком. В пьесе есть поучения и тенденции, но поучения, придуманные очень странно, а тенденции далеко не такие смелые и здоровые, каковы, например, тенденции „Доходного места“. Поучения резюмируются таким образом: 1) не будучи обеспеченным в денежном отношении, не сходись с любимой женщиной и не заводи семьи; 2) состояние в семь тысяч рублей да домик в Москве еще не дают права жениться, мало этих средств; 3) не любя никого исключительной любовью, от нужны благоразумно выйти замуж за великодушного благодетеля (Лиза: все равно, ведь я никого не люблю). Все это доброй памяти наши старички еще нам говаривали. Ну, а как обеспеченья-то целый век не соберешь или соберешь к тем годам, когда пригодишься не в мужья молодой жене, а разве в натурщики Пукиреву, для новой картины „неровного брака“? Желчным холостяком оставаться, на стороне чем-нибудь обзаводиться или в нигилистическую коммуну идти?.. Слово сие, кажется, жестоко есть. Семь тысяч да домик – это уж опять совсем не пустяки, а что не любя никого исключительной любовью „все равно“ выйти замуж за благодетеля – это пустяки, и великодушием не всегда купишь любовь. Самое слово „Пучина“, объясненное Погуляевым, тоже заключает для нас поучение, но, к сожалению, и здесь поучение, сказанное неудачно. Автору хотелось показать, что пучина невежества затягивает и поглощает человека, а в пьесе его только пучина кисельниковского ничтожества эксплуатируется бездонною пучиною купеческой жадности Боровцова. Тут не человек сломан и поглощен, а обобран дурачок, не умеющий ничего поставить в свою защиту, и только.
Затем не говорим ничего о лице молодого резонера Погуляева и о его женитьбе на Лизе: это лицо совсем неживое и свадьба его что-то совсем невероятное.
Нам привелось слышать, что „Пучина“ писана г. Островским во время разгара народничества в нашем обществе. Нам отчасти верится, что автор имел в виду этой пьесой удержать тогдашние увлеченья. В вызове Лизы научить девушек ценной работе мы не можем не видать одной из ходячих идей нашего времени и потому можем соглашаться, что г. Островский приноравливался в „Пучине“ к современным направлениям» только в этом предположении и разговор о «Жизни игрока», встречаемый у него в начале пьесы, получает смысл. Там сухая мораль, черт нарисован страшным – автор хотел нарисовать его увлекательнее, в образе воплощенной патриархальности, которая и патриархальностью-то может представляться разве только одному Кисельникову, и делает из «Пучины» тоже довольно «голую мораль» на тему: «С кем поведешься, так и прослывешься».