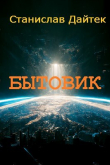Текст книги "Супермен"
Автор книги: Николай Псурцев
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
– Домой хочу.
Без стука вошел Рудаков, начальник уголовного розыска, опрятный, добродушный, с мягким морщинистым лицом, добрый сказочник Оле-Лукойе, вставший под ружье по всеобщей мобилизации – Родина в опасности, воруют…
– Колесов? – спросил доброжелательно. Тот кивнул.
– Садись, что встал,– махнул рукой, приглашая, и вполголоса Ружину, деловито: – Как беседа?
Сам, демократично, взял стул от стены, устроился по-стариковски, поерзав, хотя не старик еще, пятьдесят пять, но выглядит старше, и ему нравится это – отец, дед, опекун. Колесов не сел, остался стоять.
– Ну, стой, раз хочется,– разрешил Рудаков.– Ну, так хоть посмотри на меня, чтоб я лицо твое увидел. Ну! Глаза! Дай глаза твои разглядеть, повернулся к Ружину вопросительно, тот невинно пожал плечами.– Боишься? Боишься. Чуешь, какой взгляд у меня, куда хочешь проникнет, в любые потаенки твои. Чуешь, поэтому и прячешь глаза. Да и бог с ним, я и так все вижу, по рукам, по жилке, что на шее бьется, по испарине, что на лбу под волосами… Когда потреблять начал наркотик, в восьмом? В девятом? В десятом, значит. Кто дал? Ну? Одноклассники? Знакомый на пляже? Сосед?.. Ладно, неважно. Сейчас у кого берешь? Другие вот сознаются, а ты будешь молчать, тебе по полной катушке, им скостят…– Стул скрипнул, Рудаков опасливо схватился за стол, помял бумаги, сбросил ручку; кряхтя, сгорбился, переломился, выставил зад, брюки натянулись, нашарил ручку на полу, побагровевший, положил ее на место, в глазах блеск, слеза от напряжения. Ружин старался не смотреть в его сторону, не конфузить.
Рудаков перевел дыхание, поморщился – не от усталости, от осознания момента – непривычно, все сам, новый стиль работы,– рекомендуют. Ничего, скоро все кончится. Заулыбался, папочка, все понимающий, исполненный простоты, благодушия, продолжил:
– У меня сын есть. Взрослый уже. Когда маленький был, заболел. Тяжело. Операцию делали. Потом еще одну. Чтоб боли унять, наркотик давали. Долго. Он привык. Галлюцинировать начал, меня не узнавал, в окно кидался… Я поседел, сколько слез пролил. Понимаешь? Ты понимаешь? Сначала кайф, а потом горе. Понимаешь? Страшно. Твои сверстники гибнут. Ты гибнешь… Скажи, у кого брал ширево? Ты не предаешь, спасаешь…
Колесов молчал. Бездумно глядел перед собой, не двигаясь.
– Как остальные? – одними губами спросил Ружин. Рудаков развел руками, встал, пошел к двери, задержался возле Колесова, мимоходом проговорил:
– Красивый мальчик. Девчонок любишь, а?
Дверь хлопнула. Ружин встал, стремительно подошел к Колесову, прижал его рукой к стене, крепко, кисть побелела, заговорил быстро, веско:
– Забыл, как с ножичком шел на меня? А я помню. Отлично помню. Напал, хотел убить. Никто не знает об этом, кроме тебя, меня и свидетелей!.. Выбирай!..
Подошел к двери, открыл, позвал милиционера:
– В камеру.
Ружин и Феленко шли по набережной. Асфальт выбелен солнцем, каменные парапеты седые от соли, каленые; кусты, деревья остро контрастируют и с асфальтом, и с парапетами – до боли в глазах – изумрудные, сочные. Шумно. Вокруг люди, шагу не сделаешь, чтобы не задеть кого-нибудь рукой. На пляже еще гуще, но весело, смех, музыка.
– Ты похудел,– сказал Ружин и добавил неопределенно: – По-моему.
– Работа, -ответил Феленко. Лицо у него чистое, сухое, глаза невеселые, высокий, ростом с Ружина.– Здание ремонтируем. Беготня.
– Не звонишь,– заметил Ружин.
– Я же говорю – работа.
– Мы виделись весной,– Ружин подумал и добавил неуверенно: – А до этого осенью вроде. Хотя рядом все…
– Не помню, когда загорал,– Феленко остановился, поднял ногу, задрал штанину.– Во какая нога белая, как вата, тьфу… Ружин потянул его за собой, смеясь.
– Ты всю жизнь белый, сколько тебя помню, со школы…
– Подошли к турникету, возле него табличка на ножке "Пляж гостиницы "Солнечная". Дежурный с повязкой, в кепочке, потный, вислощекий, расплылся перед Ружиным, проводил взглядом, уже без улыбки.
Феленко хмыкнул:
– Я как-то в мае хотел пройти, чуть морду не набили. Над пляжем на набережной – кафе, столики под зонтиками, белые стулья, легкие, с резной спинкой, все аккуратно, со вкусом – салфетки, бокалы. Почти все столики заняты. Слышится иностранная речь, и не только… Много рослых ребят с простецкими, но холеными лицами, девицы, яркие, модные. Все раскованны, улыбаются. Подошел официант, кивнул Ружину, показал на стол. Сели.
– Марину видишь? – спросил Феленко, устраиваясь.
– Перезваниваемся,– неохотно ответил Ружин.– Иногда.
– Как она?
– Работу бросила. По субботам покер. Она в длинном платье, принимает. Муж на черной "Волге". Как и мечтала.
– Ничего не меняется,– Феленко вынул "Дымок".– Люблю "Дымок",– сказал. И демонстративно стал открывать пачку.
– Не желаете? – протянул раскрытую пачку подошедшему официанту. Тот оторопело глянул на него, покосился на Ружина, справился-таки, заулыбался: много на свете чудаков, оригинальничают (в таком месте "Дымок"), вежливо отказался, положил на стол меню.
Ружин пошевелил в воздухе пальцами:
– Убери. Принеси как всегда.
– У меня старые штаны,– Феленко горестно покачал головой.– Шестой год ношу, штопаные. Показать где? – и с деланной грустью добавил: – Все, наверное, тут смотрят на меня, смеются. Тебя в неловкое положение ставлю, нет?
Ружин, казалось, не слышал, равнодушный, расслабленный, разглядывает женщин, то и дело сдержанно кому-то кивает, с достоинством. Отпил глоток "Боржоми", сказал:
– Времени в обрез. Зачем звонил? Колесов? Защищать будешь? Характеристику наверняка припас, просьбу директора. Так?
– Ничего не меняется,– повторил Феленко, усмехнулся рассеянно.
Подошел официант, принес заказ, расставил тарелки, улыбнулся, ушел.
– Господи,– вздохнул Ружин.– Ты о чем?
– Обо всем,– Феленко развел руки, поглядел по сторонам.– Обо всем. Кричим, много кричим, пишем, усиливаем. Но… все равно там одно,– он махнул рукой в сторону общего пляжа,– здесь другое, там одно, -он показал пальцем вверх, -там, -палец его переместился к полу, – другое. Устал. Сердце болит. Директор просил, поезжай, похлопочи, у тебя дружки там, надо парня выручать. А я тебе другое скажу – сажай, сажай, Сережа,– сжал салфетку, смял, выкинул,– по самой по полной катушке. Он не плохой парень, не злой, модный, при деньгах,– Феленко повел подбородком.– Ему все разрешают, директор за руку здоровается, по мускулистой шейке треплет, в кабинете кофеек с ним распивает… А вся наркота в интернате от него. Фактов нет, но я знаю… Милиционера избил – пожурили…
– Я не слышал,– насторожился Ружин.– Когда? Кто занимался?
– Весной. Никто не занимался. Директор. Разобрались. Милиционер был доволен.
– Я поинтересуюсь.
– Поинтересуйся,– согласился Феленко.– Такие как Колесов, развращают, настраивают детей на анархию, на безответственность, на зло. Посади его, Ружин.
– Он сирота?
– Сирота.
– Богатые родственники?
– Да.
– Кто?
– Разное говорят.
– Хорошо. Все?
– А как прояснится хоть что-нибудь с Колесовым, я буду валить директора. Продажная тварь. Хватит. Пора действовать. Начнем с малого…
Кто-то окликнул Ружина, он оглянулся, тяжелый, длиннорукий парень, в просторных голубых штанах, в теннисной майке от Фреда Перри, черные волосы, влажные, зачесаны, блестят, на руках перстни, один, два, три… С ним девица, тонкая, на шпильках. Ружин встал, пожал протянутую руку, дал потрепать себя по шее, по плечу.
– Рад тебя видеть,– улыбнулся.
– Позвоню,– сказал малый.– Дело есть. Не прогадаешь. Феленко внимательно посмотрел на Ружина, проговорил тихо, себе:
– А потом и до тебя доберемся… Двурушник! Сытый двурушник!
– Доедай,– садясь, Ружин все еще улыбался.– Пора.
…Темный двор, глухой. Колодец. Один только въезд, через арку. В конце арки, на улице, все кажется белым от солнца, люди, деревья, дома и "Волга", что въезжала во двор. Въехала. Нет, совсем не белая, черная, строгая. Мягко остановилась возле сине-желтого милицейского рафика. Настороженно подошли дети, заглянули внутрь, без детского любопытства, внимательно, с ожиданием. Тихие дети, опрятные, не похожие на привычных – горластых, шебутных, южных. Открылась задняя дверца, кряхтя, вылез Рудаков, оправил пиджак, брюки, только сейчас заметил детей, улыбнулся было добро, но потом улыбку убрал, некоторое время они разглядывали друг друга. Потом Рудаков пожал плечами и зашагал к подъезду. Дети бесшумно разошлись кто куда, исчезли. Шофер открыл окно, крикнул вполголоса:
– Эй!
На третьем этаже дверь в одну из квартир была открыта. Рудаков вошел. По комнатам сновали люди. Увидев Рудакова, вытянулись, поздоровались. Рудаков махнул рукой. Криминалист, перезарядив фотоаппарат, невесело усмехнулся:
– Старика кондратий хватит, как узнает: иконы, пятнадцатый век, посуда, раритеты…
– Еще не сообщили? – спросил Рудаков.
– Найти не можем. Где-то бегает.
Рудаков прошел в комнату. На кровати вытянулась маленькая женщина лет шестидесяти пяти, халат задрался, ноги худые, бледные, в выпуклых синих жилах, большие, не по размеру, тапочки. Рядом на полу, на корточках Ружин. Поднял голову, вставать не стал, сказал:
– Только-только пришла в себя. Сейчас разберемся.
На голых руках женщины кровавые полосы. Ружин поймал взгляд Рудакова, объяснил:
– Связывали, проводом. Сначала кулаком в переносицу, потом проводом. Соседка увидела дверь открытой, сообщила.
– Я в курсе,– Рудаков огляделся, взял стул, сел рядом. Женщина открыла глаза, поморгала.
– Как вы себя чувствуете? – спросил Ружин.
– Голова болит, руки…– с тихой тоской проговорила женщина.– Все болит, приподнялась на локтях с трудом, кривясь, спросила с тревогой: – Где Максим?
Ружин взглянул на Рудакова, потом перевел взгляд на женщину:
– Он давно ушел?
– Вспомнила,– женщина с облегчением легла на подушки.– Он у Дазоева, тоже коллекционера, антиквара, да, да, скоро придет, бедный.
– Расскажите все подробно, сначала,– попросил Ружин.
– Позвонили в дверь, я открыла, двое, ударили в лицо. Я потеряла сознание. Пришла в себя, связана, слышу шум, голоса, во рту тряпка. Открывать глаза не стала. Страшно. Перед уходом опять ударили.
– Узнаете их?
– Наверное, да…
– Что они говорили?
– Что брать, что не брать…
– Что еще?
– Не помню.
– Вспоминайте, вспоминайте, что еще?
– Не помню…
– Надо, надо, надо… Как называли друг друга? Акцент? Названия улиц, городов? Цифры какие-нибудь?
– Не помню, не помню,– женщина сдавила виски, сморщилась, замотала головой.
Рудаков остановил Ружина, придержал за руку, заметил категорично:
– Хватит.
Ружин встал, развел руками.
– Один говорил про рейс на Тбилиси, дневной,– вдруг спокойно заговорила женщина.– Мол, к шести буду дома и ищи ветра в поле.
– Приметы.– Ружин стремительно нагнулся.– Приметы!…Возле здания аэропорта – не большого и не маленького, стекло, бетон, обычного – на стоянке такси бранились пассажиры. Две толстые женщины пытались влезть в машину впереди двух обалдевших от жары, крепких низкорослых мужичков, провинциалы, в растопыренных глазах растерянность, в руках по чемодану, озираются ошалело, но стоят насмерть, закрывают машину грудью. Бабы побросали сумки и в драку, за волосы мужичков. Лахов стоял неподалеку, наблюдал сначала с ухмылкой, потом нахмурился, хотел ринуться разнимать, но вовремя опомнился, огляделся, не заметил ли кто его порыва. Послышался милицейский свисток, сквозь толпу пробирался сержант. Лахов опять ухмыльнулся, покачал головой, не спеша побрел к зданию. Вошел, заметил в буфете у столика Ружина и Рудакова, кивнул им едва заметно, пошел к газетному киоску.
– Как Колесов? – спросил Рудаков, отпивая кофе.
– Расколется,– Ружин внимательно просматривал зал ожидания.
– Сирота,– скорбно заметил Рудаков.– Болел в детстве. С десяти лет в школу пошел. Судьба нелегкая.
– Откуда информация?
– Я оперативник или нет? – Рудаков отечески заулыбался, мол, учись. Добавил просто: – Отпускать его будем.
Ружин забыл о зале, оторопело глянул на Рудакова.
– Да, да,– сказал Рудаков.– При нем ничего не нашли. Ну, покурил травку, случайно. Верно? А что касается других, то за них он не в ответе.
Ружин отрицательно мотнул головой:
– Я же на квартиру не просто так пошел, было сообщение, один наркоман рассказал, что на Юбилейной улице…
– Знаю,– перебил его Рудаков.– Ну и что? – улыбнулся.
– Нет,– сказал Ружин,– не пойдет. Он мне нужен. Он много знает. Это моя работа.
– И моя работа,– Рудаков положил ладонь на руку Ружина.– И моя. Ничего противоправного делать не надо. На нем же нет ничего. Хлопочут очень хорошие люди. Сережа, в первый раз, что ли? Зачем нам ссориться?
– Пока не расколется, не отдам его,– жестко повторил Ружин, покрутил головой медленно, весомо.
– Тогда я отстраню тебя.– Рудаков сделался некрасивым, заморщинился. Прикажу.
– Не отстраните,– Ружин посмотрел в глаза Рудакову, засмеялся беззаботно. Мы слишком много знаем друг о друге.
Лахов у киоска уронил журнал. Ружин пробежал глазами по залу, толкнул Рудакова, показал кивком. Сутулый, коротконогий кавказец, усатый, насупленный, с чемоданом и сумкой, подходил к регистрационной стойке, в метре сзади шел губастый парень в "варенках", в цветной майке, глазел по сторонам, посмеивался…
– Тряхну стариной,– сказал Рудаков. Лицо у него было злое, отяжелевшее, темное.
Усатого взяли быстро и четко и почти незаметно для пассажиров. Ружин и Лахов подошли с боков, когда он ставил чемодан на весы, с хрустом завели руки за спину, Ружин прижал ему горло сильными пальцами, чтоб не верещал. А вот губастый вырвался у Горохова и Рудакова, кинулся к выходу, поскользнулся, упал, когда поднялся, понял, что не уйти, принял оборонительную стойку. Рудаков жестом остановил Горохова, пошел к губастому сам, выпрямясь, с усмешечкой, руки в карманах.
– Это судьба, сынок,– сказал ласково.
Губастый тряхнул руками, сплюнул, дернув лицом, уселся прямо на пол. Идти отказался. До комнаты милиции его несли на руках.
– Здорово,– сказал Ружин Рудакову, когда они поравнялись.– Я волновался.
В комнате милиции вещи обыскали. Нашли краденые иконы, посуду. Все нашли. А за подкладкой одного из чемоданов обнаружили еще и белый порошок, наркотики.
– Грабеж перекроет по сроку статью о наркотике,– сказал Ружин губастому. Признавай не признавай, ну а ежели поможешь следствию, скостишь отсидку. Думай.
– Что надо? – сказал губастый.
– Откуда порошок? – Ружин надорвал один пакетик, попробовал на язык, сплюнул.
Губастый почесал щеку, розовую, нежную, волосы не растут, наконец сказал тихо, покосившись на кавказца, тот сидел далеко, повизгивал, отнекивался, занят собой был:
– Улица Юбилейная, пятый дом, квартиру не помню, могу показать. Зовут Лёша, молодой такой, красивый, высокий…
Ружин повернулся к Рудакову, тот безразлично ковырял в зубах спичкой.
– А? Что? – сказал, сделав вид, что в глубоких раздумьях обретался и вот только сейчас с трудом вернулся к реальности.
– Порошок-то фирменный,– сказал Ружин и протянул Рудакову пакетик.
– Ну, хорошо, разбирайтесь, разбирайтесь,– протянутый пакетик Рудаков не взял, посмотрел на часы, добавил: – Я в управление. Доложишь.
…Уже сумерки. Город в ожидании веселого вечера, а может быть, и ночи, курортникам на работу не вставать, можно ложиться под утро. Веселые пестрые блики бежали по капоту ружинской машины. Гирлянды разноцветных лампочек висели прямо на деревьях, тянулись меж фонарных столбов. Сюрприз этого сезона, знатоки рассказывают, что не хуже, чем в Ницце… Две пестрые симпатичные девчонки голосовали на самой середине шоссе, радостные, пьяноватые. Ружин не спеша объехал их, показал язык, девчонки захохотали, погрозили кулачками. Увидев указатель "Гостиница «Солнечная», свернул направо. Гостиница была видна еще на шоссе, огромный, светящийся изнутри корабль, носом упирается в море, еще немного – и покатится со стапелей. Ружин подрулил к стоянке, махнул дежурному с повязкой, тот указал, где встать.
Швейцар улыбнулся добро, еще из-за стеклянных дверей, продолжая улыбаться, с почтением пожал протянутую руку, когда Ружин вошел.
В холле тонко пахнет духами, зарубежными сигаретами и кофе – дорогим пахнет. Много женщин и мужчин, снуют, сидят, что-то пьют, болтают, не различишь, где наши, где ихние…
Но вот несколько девиц как бы невзначай отвернулись, увидев Ружина, какой-то малый, весь "вареный", жеманный, оторвался от небольшой пестрой группки, спешно засеменил к лестнице. Ружин усмехнулся: не надо меня бояться, у меня сегодня своих забот хватает. На лифте доехал до третьего этажа, прошел в конец коридора, очутился в квадратной комнате с креслами, диванами, низким столиком. Навстречу поднялась женщина с ухоженным лицом, улыбнулась:
– Проходите,– открыла тяжелую дубовую дверь. И здесь диваны, кресла, ковер, ворсистый, мягкий, просторно, у огромного окна изящный тонконогий стол, не наш, не советский, чересчур игривый, не деловой. За столом мужчина лет сорока, лицо узкое, загорелое, короткая стрижка, с боков седина, светлый костюм, черный галстук – Кадаев, директор гостиницы. Он встал, застегнул пиджак, улыбнулся приветливо, протянул руку:
– Здравствуйте, Сережа, рад, что не отказали, пришли. Я соскучился. Суетишься, суетишься, а поболтать по душам и не с кем. Вы как спасение.
– Спасибо,– сказал Ружин.
– Садитесь. Кофе? Коньяк? Водка? Ружин покрутил головой.
– Вы чем-то расстроены?
Ружин пожал плечами, сказал неопределенно:
– Работа.
Кадаев подошел к стене, открыл бар, вынул початую бутылку чего-то дорогого, налил в крохотную рюмку и повернулся к Ружину:
– Я вот по утрам просыпаюсь, и страх охватывает, знаете, прямо пальцы стынут, умирать скоро, а собой и не жил, понимаете? Собой, нутром своим, душой своей, чтобы почувствовать, что живешь именно в данную минуту, в это мгновение, и что жизнь – самое замечательное, что может быть. Понимаете меня?
Ружин усмехнулся, закурил, не спросясь, затянулся, продекламировал:
– Я хочу быть кумиром вселенной, я хочу ничего не хотеть… Подавите желания и ощутите жизнь. Способ один, других нет. Кадаев сделал глоток:
– Чересчур за многое и за многих я в ответе – жена, дети, родственники, друзья, постояльцы в конце концов. Допустим, я начну жить по большому счету, а что будет с ними? Кстати, о друзьях…
Ружин опять усмехнулся:
– Легкая интеллектуальная разминка, а теперь о деле, верно? Так учил Дейл Карнеги. Я правильно произношу? Кадаев засмеялся:
– Я вас люблю, Сережа. Вы все понимаете.– Он присел на краешек стола, запросто, по-свойски, улыбку убрал, заговорил доверительно: – Да, о деле. Вот какая штука. Вы на днях задержали одного мальчишку, дурак-несмышленыш.
– Колесов?
– Да. Он сирота. Тяжелое детство. Я принимаю в нем какое-то участие. Он родственник одного моего близкого друга.
– Кого?
– Ах, Сережа, разве это имеет значение…– грустно улыбнулся Кадаев.
– Втемную не играю,– Ружин затушил сигарету, встал.
– Сыщик есть сыщик,– скорбно вздохнул Кадаев.– Брат жены Лавинского.
– Директор "Югвино"?
– Замечательный человек. Жена – красавица, молодая. Вы меня понимаете? – Кадаев положил Ружину руку на плечо, добавил, понизив голос: – Квартира, на которой вы задержали мальчишку, ее. Как не хотелось бы, Сережа, чтобы квартира фигурировала в документах.
Ружин покрутил головой медленно, шея напряглась.
– Вы же однажды помогли нам… мне,– вежливо настаивал Кадаев.– Заткнули глотку этой дуре, которая болтала, что я получал доход с проституток, что именно я-то и продаю их фирмачам. Забыли?
– Ну, во-первых, вы мне симпатичны,– вновь садиться Ружин не стал, стоял, глядя в окно, неожиданно безразличный.– Во-вторых, я не моралист и не считаю проституцию большим злом. Но здесь наркотики, а это я считаю злом. Кадаев усмехнулся:
– Дело, наверное, не только в симпатиях и убеждениях.– Он сделал еще глоток.– Были причины и другого характера, верно?
– Нет,– весело возразил Ружин.– Неверно. Я принял от вас японскую видеоустановку, тоже исходя из своих убеждений. Сыскная работа незаслуженно мало оплачивается в отличие от других видов человеческой деятельности.– Он поклонился в сторону Кадаева.– Надо соблюдать пропорцию.
Кадаев печально покачал головой, встал, поставил рюмку в бар, сказал сухо:
– Мы можем обойтись и без вас. Это просто. Но я знаю, что вы полезете в драку и на каком-то этапе успешно, вас ценят, у вас имя. Значит, война. А это создаст неудобство, я не люблю неудобства, я люблю комфорт.– Он, сузив глаза, оценивающе посмотрел на Ружина.– У меня есть прелестный домик в двадцати километрах отсюда, маленький, правда, но каменный, вокруг ни души. Предоставляю кредит.
Ружин не ответил, опять взглянул в окно, оно выходило на хоздвор гостиницы, увидел подъехавшую машину, человека, вылезающего из нее, засмеялся неожиданно, повернулся к Кадаеву, сказал:
– Я хочу ничего не хотеть…
Развел руками и торопливо вышел. Направился не к лифтам, а к черной лестнице, спешил. Внизу в дверях столкнулся с Рудаковым. Тот от изумления застыл.
– А ведь я поверил поначалу, что у вас есть сын,– сказал Ружин,– что он был наркоманом, что слезы вы лили, что маялись. Потом проверил. Нет, все же только дочь, одна дочь, благовоспитанная, музыкант, в вашей чистой биографии. А жаль, что не было сына, жаль, что слезы не лили, не маялись…
Не ожидая ответа, вышел. В машине лег грудью на руль, проговорил тоскливо:
– Зачем? Зачем, а?
…Ружин и Колесов вышли во двор управления, встали у машины Ружина. Колесов щурился – два прожектора ярко освещали двор, у гаражей два милиционера возились с мотоциклом, беззлобно ругались, подвывала овчарка в вольере, протяжно, тоскливо. Колесов поежился, сделал несколько энергичных движений, разминаясь. В дверях показались Лахов и Горохов. Горохов остановился, посмотрел на горящее окно на третьем этаже, сказал, ни к кому не обращаясь:
– Сто третий, сто третий, как слышишь меня? Прием. На груди у него, под курткой, глухо зашуршала рация, пробился низкий голос:
– Слышу нормально. Порядок.
Из окна высунулся мужчина в белой рубашке, крикнул:
– Будь спокоен, не подведет!
– Я тебе уже не верю,– пробормотал Горохов.– Самоделкин… Подойдя к машине, добавил, обращаясь к Ружину, обиженно, жалуясь:
– На прошлой неделе это старье принимало "Маяк" вместо базы.
– Разберемся,– пообещал Ружин, посмотрел на часы.– Все. Время.
Прежде чем сесть в машину, Колесов сказал:
– Еще одно условие…
– Условие? – удивился Ружин.
– Ну… просьба,– Колесов дернул щекой.– Мне надо выпить. Ломает…
Ружин вздохнул, произнес искренне:
– Несчастный мальчик. Посмотрим.– Он подтолкнул Колесова к дверце.
В машине Колесов уточнил еще раз:
– Сначала в "Кипарис". Он там бывает чаще всего.
– Ох, шеф, глухой номер,– посетовал Горохов.– Он давно уже где-нибудь… тю-тю, в Барнауле водку пьет.
– Нет,– возразил Колесов.– Он здесь. Он ничего не боится. Он говорил, что его никто никогда не тронет, именно здесь не тронет.
Ружин промолчал. Он смотрел на дорогу. Лицо его было злым, несколько раз вздернулась верхняя губа – нервно.
– И к тому же парень не знает ни его фамилии, только имя, да и то туфтовое наверняка – Альберт, ни телефона, ни адреса,– поддержал Колесова Лахов. Тот сам его находил. Верно? – Он повернул голову к Колесову. Тот кивнул, облизнул сухие губы, потер глаза, слезились.
В "Кипарисе" обычный галдеж, сутолока, пестрота. Зал полутемный в красно-фиолетовых тонах, музыка негромкая, официанты быстрые, много иностранцев. Посидели за угловым столиком минут двадцать, пили кофе, пепси-колу. Колесов умоляюще смотрел на Ружина:
– Ну дайте хоть соточку…
– Потом,– коротко ответил Ружин, посмотрел на часы.– К полуночи опять сюда заедем.
Другой ресторан – "Морской", цвета соответствующие, зал бирюзово-голубой, пастельный, глаза отдыхают. На сцене варьете девушки в тельняшках и черных клешеных юбочках, ноги длинные, стройные. Лахов залюбовался, не заметил, как остальные поднялись в кабинет директора, спохватился, помчался по ступеням. В кабинете окно в зал. Виден весь. Директор суетился, предлагал кофе, коньяк, заглядывал в глаза. Колесов сглатывал слюну.
– Потом,– опять сказал Ружин, и они двинулись дальше.
На окраине города, на взгорке среди деревьев грузинский ресторан под открытым небом "Мцхета". Один зал под навесом, деревянные дощатые столы, грубо сколоченные стулья, стилизация: несколько круглых столиков с пеньками вместо стульев прямо среди деревьев. Столики скрыты друг от друга густыми кустами, это затрудняет задачу. Машину поставили на стоянке, с трудом нашли место. Возбужденные голоса, грустная грузинская мелодия, музыканты играют прямо на улице, между крытой площадкой и открытыми столиками в полумраке тенями снуют официанты, посетители, вокруг ламп слоится тонкий дымок от мангалов, сигарет… Ружин и Колесов прошли вдоль площадки, потом обратно. Колесов крутил головой по сторонам. Ружин махнул рукой стоявшим поодаль Лахову и Горохову, показывая, что они с Колесовым идут к открытым столикам… За одним громкая компания перебивает друг друга тостами, за другим две пары озираются с любопытством, за третьим две яркие раскрашенные девицы, три крепких парня. Парни вскинули глаза, посмотрели трезво, хотя сидят, видно, давно, пьют, напитков на столе в избытке. Колесов поспешно зашагал назад. Ружин догнал его, дернул за руку:
– В чем дело?
Колесов помял кадык, сглотнул:
– Там… один из его горилл, самбист, Петя, Петруччо. Он узнал меня, мне кажется…
– Какой? – Ружин спрашивал быстро, отрывисто.
– Белобрысый, в полосатом свитере.
– Та-а-ак,– протянул Ружин, спросил с надеждой: – А может, не узнал?
Колесов пожал плечами:
– Обычно он передавал мне порошок. Как не узнать…
– Пошли,– Ружин потянул его за собой. Подойдя к оперативникам, сообщил:
– Там один из его людей, белобрысый в полосатом свитере. Будем пасти.
Ружин подтолкнул Колесова к Лахову:
– Отведи его в машину и побудь с ним.
– Но…– возмутился Лахов.
– Давай, давай,– махнул рукой Ружин. Он был возбужден: начиналось дело.
Расстроенный Лахов, взял Колесова под локоть, повел вниз, к стоянке. Ружин и Горохов не спеша, прогулочно, с флегматичными физиономиями двинулись к открытым столикам. Музыка кончилась, оборвалась разом, только еще какие-то мгновения ныла флейта, едва слышно, тоскливо, через мгновенье ее заглушил ресторанный шум, неровный и веселый.
– Мы очень строгие,– сказал Горохов.– От нас дамы шарахаются. Они таких не любят, давай улыбаться.
Он обаятельно, белозубо заулыбался. Высокая девушка в белом узком платье, идя навстречу, засмеялась ответно, прошла мимо, оглянулась несколько раз. Ружин расправил плечи, пошарил ишуще глазами по сторонам. Зацепил взглядом группу из трех смеющихся мужчин. Те покосились, смех оборвался, вытянули лица мрачно. Через несколько шагов оперативники попали в круг света, растянули губы еще шире. Несколько танцующих неподалеку пар остановились, настороженно уставились на них. Продолжая улыбаться, Ружин процедил Горохову:
– Ты идиот.
Шагнул в темноту, сплюнул, вытащил сигарету.
– Шеф, я хотел как лучше,– Горохов невинно растопырил глаза.– Чтоб мы не отличались от них…
Опять послышался звук флейты. Ружин осмотрелся, музыкантов не было.
– Ты слышал? – спросил он.
– Что? – не понял Горохов.
– Будто музыка… Показалось…– Ружин затянулся, потер висок.
– Показалось,– повторил Горохов.
За кустами кто-то громко выругался, истерично вскрикнула женщина, мужчина опять выругался, заорал, что он кого-то убьет, послышался звук удара, возня, опять женский вскрик.
Ружин кинулся на звук, за ним Горохов. Около столика, где недавно сидел Петруччо, дрались. Двое парней, сцепившись, катались по земле. Одна из девиц, вопя, пыталась их расцепить. Петруччо нигде не было. Что-то неестественное было в этой драке, через секунду Ружин понял – парни даже и не пытаются встать, словно им чрезвычайно нравится вот так вот обнявшись кататься по траве.
– Туфта,– бросил он Горохову и прямо через кусты ринулся к выходу.
Полосатый пуловер Петруччо они увидели сразу, как только выбрались за заборчик ресторана. Он, согнувшись, энергично размахивая руками, несся к стоянке автомашин. Ружин и Горохов побежали вслед. Гравий горстями летел из-под подошв. Их крепкие тренированные ноги оказались быстрей, Петруччо еще возился с ключами возле дверцы, а оперативники уже влетели на территорию стоянки. Ружин на ходу вынул пистолет.
– Стоять! Не шевелиться! – крикнул он хрипло. Петруччо метнулся за машину, и через мгновенье раздался выстрел. Оперативники повалились на асфальт. Еще выстрел, пуля шваркнула перед лицом Ружина. Он перекатился на несколько метров, укрылся за колесом "Волги", крикнул громко:
– Брось, Петруччо, бесполезно! У меня рация, уже перекрывают город…
В ответ опять выстрел.
– Ты дурак! – заорал Ружин.
Горохов возился с рацией, Ружин слышал, как он повторял:
– Сто третий, сто третий, как слышите меня?
– Ну что? – нетерпеливо выкрикнул Ружин.
– "Голос Америки",– жалобно ответил Горохов.
– Что? – озлобился Ружин.
– Вместо базы она принимает "Голос Америки", рассказывает о демонстрации отказников в Москве…– Горохов нервно хихикнул.
Ружин ударил кулаком по асфальту и притворно заплакал, постанывая.
– Завтра, рано-рано утром,– сказал он,– напишу рапорт. Министру. Он будет слезный и горестный, он будет правдивый и поэтому нелицеприятный, он вызовет раздражение и злобу, но я все равно напишу.
– Правильно,– отозвался Горохов.– Наддай жару. Никто работать не хочет.
– И про тебя напишу,– заявил Ружин.– Я многое знаю. А потом переведусь в участковые, в дальний район, там море, добрые люди, виноград, курочки-хохлаточки…
– Про меня не надо, шеф,– попросил Горохов.– Я еще молодой… Перспективный…
– Курочки-хохлаточки…– мечтательно проговорил Ружин.
– А он не рванет с той стороны? – встревожился Горохов.
– Там обрыв,– печально пояснил Ружин.– Пусть рванет, и рвет себе, и рвет…
Ружин услышал топот, подтянулся на руках, выглянул из-за колеса – вдоль ряда машин бежал Лахов, в руке он держал пистолет.
– Ложись! – гаркнул Ружин, и в то же мгновение грохнул выстрел. Лахов рухнул с кряканьем, неуклюже, гулко ударился о бампер "Волги", завыл – значит, живой. Он сделал движение – и опять выстрел, Лахов застыл, почти умер.
– Где Колесов?! – рявкнул Ружин.
– В машине,– Лахов перевел дыхание, сплюнул.– Куда он денется?
– С кем я работаю…– простонал Ружин.
– Не стреляй, не стреляй! – закричал кто-то с той стороны, откуда появился Лахов. Голос звучал тонко, чрезвычайно напряженно и оттого, казалось, сдавленно.– Они не сделают тебе ничего плохого! Только поговорят… Не стреляй!
Но Петруччо все-таки выстрелил. Колесов закрутился волчком на месте, упал ломанно, по частям, медленно, как в рапиде, покатился по пыльному асфальту…
Какое-то время Ружин наблюдал за ним без выражения, как за курочками-хохлаточками, снующими в загоне, потом привстал, бросил Горохову, отрывисто, зло: