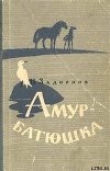Текст книги "Амур-батюшка (Книга 2)"
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Мужики разом поднялись и стали расходиться. Вокруг не видно было ни зги.
– Барсуков-то посмирней, не так кусается, – говорил Тимоха, когда отошли.
– Петр Кузьмич? Этот водворял нас, – молвил Пахом.
Мужики гурьбой шли к своим избам.
Где-то далеко внизу, как в пропасти, проступило светлое пятно, оно ширилось, зеленело. Там заблестела вода. Из-за туч выкатилась луна, и пятно распространилось по всей реке. Блестящие зеленые дорожки, мерцая, легли к берегу.
– Купец-то ночует в протоке, – сказал Силин, различив вдалеке баркас.
– Завтра с утра, если тумана не будет, сыщет нас.
– Вот бы этот баркас разбить, и стали бы мы с капиталом! посмеиваясь, сказал Федор.
Егор вошел в избу в потемках. Дверь никогда не запиралась, хотя закрывалась плотно: а то заест мошка. Все спали. С полатей уже слышался храп деда. Он, видно, не очень огорчился, хоть и ушел с бердышовой завалины. Старик был еще здоров и крепок духом и уснул, видно, сразу, едва коснулся головой подушки. На одной из двух широких кроватей, поставленных у стен, спала Наталья, а на другой на всем чистом – дети. Тут простынная бязь привозная и дешева. Все переселенцы завели себе белья хорошего такого тонкого на старых местах не знали, там было все свое. Правда, свое попрочней здешнего. Много чего продавали тут такого, чего прежде и не видели. За пушнину тут было все; получали на баркасах привозное сверху, а в городе – из-за моря: одежду очень хорошую, шляпы, ружья, железные вещи.
Бабка спала на печи, молодые – на дворе под пологом; он белел в потемках, когда Егор подходил. Собаки – у крыльца, медведь – в шалаше...
"Если недобрые люди на баркасе и сунутся к нам, не рады будут..."
Егор остановился, дыхание спящих слышалось в тишине. Тепло, но не жарко, печь не топят, от нее прохлада летом. В избе отдохнешь от жары, когда придешь полдничать, пахнет хлебом и деревом. Все еще запах свежего дерева стоит. Ставни не закрыты, хотя и есть у каждого окна.
Егор живет открыто. Но иногда на него найдет такое чувство, словно кто-то хочет его ограбить, отнять новую жизнь, достаток, и тем дороже становится все добытое на новом месте.
Ставни, болты есть на случай. Ружья висят на стене. Собаки чуют, сторожат, чуть что, медведь так сгребет, не рад будешь. Дед, Федька, сам Егор, Васька и Петрован – все стрелять умеют. Чуть что – соседи подымутся.
Егор разделся, стоя скинул обутки, снял рубаху и штаны.
– Ты пришел? – очнулась Наталья и подвинулась, потом поднялась, как бы хотела что-то сказать, но тут же легла, закинув голову, тяжело вздохнула и уснула сразу же, похрапывая.
Егор прилег и почувствовал, как застонали кости, положил жене руку на плечо, как делал всю жизнь.
Васька брыкнул ногами, окидывая простыню. Жарко Ваське и что-то всегда по ночам мерещится.
Утром Егор вышел с ребятами на обрыв. Он любил искупаться поутру. Из протоки несло какой-то пух. Почки, схожие по цвету с пухом утенка, виднелись на тальниках. Кое-где в их местами еще голоствольной чаще дотаивала под рыжим слоем ила огромная, как иссосанная, льдина.
Баркас прошел дальним фарватером и стоял верстах в десяти ниже релки.
– Не заметили нашей деревни! Шибко река широкая! Море! – молвил Кондрат.
– Кто не заметит. А кому надо будет, тот мимо не пройдет и в тени сыщет, – отозвался Егор, памятуя вчерашний разговор с толстяком.
Было у него желание устоять против рыщущих по Амуру хищников, жить без ссор; сельцо малое, неторговое, сбиться всем жителям в одно, чтобы Уральское стало как крепость.
В глубине релки, там, где пашни уже дошли до строя ильмов и дубов, еще смешанных со множеством берез и лиственниц, на солнцепеках зацветала черемуха. Мох, желтый и зеленый, открылся солнцу на стволах деревьев по окраине вновь вырубленной росчисти.
Распускалась зелень ландыша, чемерицы, пальчатых лабазников. Появились кукушкины слезки, вьют голубой пополз с цветами по таволожнику, путая его серые прошлогодние метелки. Лиловые венчики подымались из трав, светло-зеленые, синие и красные побеги тянулись на ветвях молодых деревьев, и уж отцветал, опадал, исчезал с глаз долой ранний багульник, хотя большая часть леса еще не зазеленела.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
– Прощай, свет! – насмешливо прошептала однажды утром Наталья, крепко поцеловавши мужа, и перелезла через него.
– Ты куда? – встрепенулся Егор.
Чуть-чуть светало. В избе было душно.
– Борода ты моя кустами! – призадержалась Наталья. – Чесал бы хоть, смотреть страшно, как у монаха...
– Чего тебя несет?.. Поспи-ка еще...
– Эка! А кто к гольдам поедет?
Егор вспомнил, что сегодня бабы собрались на Мылки. Они должны заканчивать начатую работу. Прошлый раз ездили дед с Натальей, а ныне бабы наладились одни.
– Ты бы мяса там добыла. Улугушка говорил, на кабана пойдет. Попроси у него. Я управлюсь, так сам схожу.
Наталья взяла подойник и ушла. С раннего утра все надо было сделать на целый день.
Егор уснул ненадолго. Когда он снова проснулся, голова уж была полна забот. И жалко как-то было, что жена уезжает. Но все же славно, едет к гольдам: "Не только сами выжили, построили избу, поставили хозяйство, но и людям можем от своего достатка пособить".
Улугушка мясом кормит, с этим никогда не считается. Бывало, привозил то полсвиньи, то стегно сохатого. В трудные месяцы Улугушка не забывал Кузнецовых.
Утро прохладное, здоровое. Крепкий лесной воздух ворвался через распахнутую женой дверь. Пока нет комаров, избу проветрить. Бабка слезла засуетилась. Внесли ведро, запахло свежим молоком.
Егор подумал: жена уезжает к гольдам... Мяса сколько хочешь. Хлеб, бог даст, родится... Где-то тут золото... Пушнина... Все рядом, и кажется, все можно взять. Открывается такая жизнь, что сробеешь. Не без робости подступал он на релке с топором к первому дереву... Робко взялся помогать гольду... С опаской входил в тайгу за зверем. Все было непривычно, даже страшно временами, хотя никто из окружающих этого не замечал и всем казалось, что Егор бесстрашен и за любое дело берется, как за привычное.
Егор до сих пор немного страшится новой жизни, как она раскрывается, как забирает с толком, охотно всю его силу, как за труд и терпение вознаграждает с лихвой. Запахали землю, построилась большая, славная изба, все без задержек, без издевок, без лесников; появился скот, конь, жеребушки бегают... Покупные вещи есть: ружье, лампа, пиджаки. Конечно, все надо беречь и охранять – надо, как и прежде, всего бояться. Егор твердит себе, что хвалиться рано, старается не выказать довольства, уверить себя, что может еще быть беда, не привык, что за труд что-то дается. На старом месте сколько ни трудись – знаешь, сведешь концы с концами, на добрый конец сладишь одежонку и прокормишься. А тут сама жизнь сильными толчками подает Егора вперед, и он робеет этих толчков, хотя и радуется им и сознает, что сам он этому причина.
Он привык к тяготам и даже бедам и всю жизнь готов был терпеливо перебарывать их без конца, не помышляя об ином.
Здесь и руки становились сильней, голова ясней. Человек не узнавал сам себя, осмеливался говорить прямо и открыто. Разве не счастье дать сыну ружье, лучше которого, кажется, нет ничего?.. Сознавать, что тут рядом в лесу рысь, выдру, медведя бей – никто не скажет слова. И не смеет Егор верить, что все так ладно и быстро делается. Он еще помнит старый закон, что нельзя показывать достатка людям и признаваться в удаче, а надо хныкать, жаловаться. Трусить и лениться лучше, чем трудиться. А то люди злобятся. Но эти законы становились не нужны. Старый страх не нужен...
Егор пошел на берег.
Несколько дней тому назад кое-где прошелся Егор по лодке смолой, выкатив ее на песок и перевернув. Гольды лодок не смолят, а сладят так, что никаких изъянов, ни щелей. А Егор залил. И вот течь опять... Лодку стукнуло о корягу, Петрован ездил да угадал неладно – ветер начался, пристать не мог, где надо. Доска треснула. Егор дал ему подзатыльник помнить будет. Была лодка широкая, тщательно отделанная гольдами. Днище одна плаха. Ладно, лодка не пропала, а могла пропасть. Заказана была в Бельго, гольды уж постарались. Вместо привычной в былой жизни вражды завел Егор дружбу с инородцами, как зовут гольдов господа. Бывало, с татарами дрались, дразнились: нехристь, мол, басурман, и разные обидные прозвища, но и с татарами дружили. А тут гольды любят, помнят, как Егор спас Дельдику. Егор никогда не поминает им, что они, гольды, нищие, другой веры. В Уральском первый от них почет Ивану, он их держит и когтем за душу и сластью с водочкой подманит. Иногда обидно Егору, что не к нему первому заезжают, но он смиряется, понимает, что от Ивана зависят... Хотя все говорят: мол, ты, Егорка, хороший, стараются удружить, всегда что-нибудь привезут. И бабку, хвалят, что лечит.
Егор заделал течь и воротился к избе, откуда бабы уже вынесли мешок, корзины и ватные куртки на крыльцо, а сами в новых платках бегали и суетились, доделывая последние дела и давая наказы деду, Петровану, Настьке и Федьке, как обедать, что где взять, когда доить, варить, за чем смотреть.
– Наладил, – сказал Егор.
– На травлю-то ехать, собак кормить! – сказала Наталья и посмотрела ласково.
Бабы давно ждали этого дня, как праздника, когда поедут одни, без мужиков, к гольдам.
Настька с гордым видом стояла на крыльце. Юбка у нее подоткнута, как у взрослой.
– Хозяйничать-то сумеешь? – спрашивает мать.
– А что же! – вскинув серьезные глаза, ответила дочка.
– На тебя надежда.
– Доить-то умеет! – сказала Таня.
– Да уж тятьку не попрошу с ружьем у коровы стоять! – строго ответила девочка.
Мать улыбнулась и покачала головой.
Вскоре лодка отвалила от берега. Васька греб старательно. Надо было проехать мимо всего Уральского, не осрамиться, да и своим не дать повода посмеяться, что, мол, у Васьки силы нет, тужился, мол, чуть не лопнул. Васька гребет ровно.
"Что мне еще надо? – думал Егор. – Грамоте бы детей учить!" Не раз слыхал он, что ученье – свет, а неученье – тьма. Но где учить? Егор знал грамоте, знал Федор, Иван был, кажется, изрядно грамотен, но в учителя ни один не годился. "Поп будет, – думал Егор, – станет учить Ваську. Придется ему бегать на Мылки на миссионерский-то стан. Буквари, говорят, есть у купцов на баркасе".
* * *
...В полдень мимо Уральского шла большая баржа, черная от людей.
– Что за народ? Откуда их столько? – удивился Егор.
– Не солдаты и не каторжники, – сказал Силин, – те серые, как вошь, а эти черные, как мухи.
– Эй, да это китайцы!
– Верно, китайцы! – признал Егор.
Не первый раз мимо Уральского везли китайцев. Бывало, что китайцы выходили на берег, но такого множества их не везли еще ни разу.
– Приваливают! – в испуге крикнул Федор своему сыну. – Беги за ружьем! Ей, Егор, охрану выставлять надо! Я чуть что – стреляю...
– Бог с тобой, сосед!
– Буду! Право. Это же саранча, набежит, как солдаты.
– Китайцы не воры, – молвил дед.
Один раз шла осенью баржа с солдатами, пристала к Уральскому. Солдаты разорили огороды. Даже картошку выкопали, а Тимоху, заставшего их, чуть не избили. У гольдов на мысу украли рыбу.
Егор знал, что между собой гольды уж давно так и зовут русских "воришки". Улугу, бывало, все этот случай вспоминает и твердит: "Русский что увидит – украдет. Не ты, Егорка! Ты хороший, а другой русский плохой. Конечно, воришки!"
Улугу уж не один раз обворовывали. А сам Егор невод у него отобрал. Срам вспомнить! Про это Улугу не поминает. Что Федор стащил соболя у Данды, Улугу про это тоже молчит. Данда и сам, конечно, вор хороший. Себя Егор прощал.
Дед, бывало, сердился, спорил с Улугушкой, доказывая, что русский не вор, а в бога верит истинного, труженик, землепашец.
Егор полагал, что казна и нищета делают людей ворами, казна гоняет людей, как скот, не щадя, отрывает от земли, от семей, от дела, уж очень сильна казна, а народ не в силах противиться, вот и подвернется чужой огород – растащат, барана, теленка уведут.
На этот раз баржа встала под берегом. Китайцы, пожилые и молодые, оборванные, тощие, сутулые, выходили на пески, лезли на берег, разбредались по тайге. Федор похаживал у своей избы.
– Везут из Китая рабочих строить казенные здания, – говорил Иван, стоя с мужиками над обрывом, под которым на отмели кучками располагались китайцы. – Недорого ценится их труд, а народ они смирный.
Проезжая по Верхнему Амуру на плоту, Егор видел, какой это народ. Он знал, что китайцы великие труженики; но и пройдохи, вроде купца Гао, попадают среди них.
Среди толпы выделялись двое китайцев, сытых, толстых, в шелковых кофтах. Они важно ходили по берегу и кричали на своих.
– А это старшинки, вроде наших подрядчиков.
Китайцы кивали мужикам. Некоторые лезли на релку и что-то рвали в траве.
– Собирают дикий лук, черемшу, – заметил Егор. – Беднота, все съедят.
Когда пришло время отправляться, старшинки, размахивая палками, загоняли китайцев на судно.
– Вот народ-то какой! – сказал дед Кондрат вслед отошедшей барже. Ни один ничего худого не сделал. А мы-то за ружья!
– Китайский труд даровой, – сказал Иван, – а жизнь их там, на родине, – копейка. И все равно свой Китай не позабудут! Как бы тяжело китайцу ни было, он старается заработать, чтоб на родину вернуться. Другой, говорят, будет двадцать лет на чужбине работать, а к себе вернется.
– Вот, говорят, мол, нехристи, – толковал Кондрат. – А ведь не подрался никто, ничего не утащили. Вот те и китайцы...
Баржа села на мель.
Иван сбежал с обрыва и поехал в лодке показывать лоцману, как отойти. Китайцы живо сняли судно с мели, толкаясь во дно заостренным бревном.
– Сашка не знает, – сказал Петрован, насмотревшись на китайцев. – Его бы сюда, он побалакал... Попроведать бы его...
– Вот поведу тебя учить стрелять, там напроведаешься, – ответил дед.
Петрован смутился.
Ребята опасались стариковского "ученья". Кондрат водил внуков охотиться и "учил" их по-своему.
– Сашка нынче спутался с Галдафу, – заметил Федор. – Такой подлиза... Вот Иван сказывал – там у них общество составлено. Ванька Галдафу, видно, поэтому и злится на Бердышова, что тот все это проведал.
Мужики жили с торгашами Гао теперь как будто дружно. Только помнили, что братья Гао держат гольдов в долгу. И терзают, но потихоньку, и не в Бельго, а в других, дальних местах. Чуть что – гольд перед ним на коленки. Слухи доходили...
Но с мужиками торгаши всегда смирные, всегда улыбаются, говорят, мол, больше не деремся. Только заметно, что Ивана сильно не любят.
Иван вылез из-под обрыва.
– Эти китайцы работали в Благовещенске и Хабаровке. Теперь их в Николаевск...
– А ты по-китайски знаешь? – спросил Федор ревниво.
– Води с ними компанию, и ты научишься!
Приезжий пограничный полицейский говорил про китайцев, что, мол, нехристи, жестокие очень. "Азия темная и зверская, их надо держать в узде". Но казаки, что вели караван и работали у Барсукова, рассказывали, что с китайцами давно водят дружбу, косят сено и на их стороне. Один солдат жил у китайцев, говорит, что народ славный, честный и работящий.
Егор всегда помнил, как впервые сам увидел китайцев вблизи – они принесли хлеб детям, – потом был в китайской деревне, видел там поля, славные всходы.
В прошлом году в Уральском вдруг появился на берегу какой-то бедняк китаец. Егор подумал: "Мало ли что говорят?.. Как у нас про татар, а татары про русских... Люди – все люди. Гао, как ни плох, а хлеб нам возит. Мы его хлебом сыты были первую весну. Казна бы заморила голодом". Егору жаль стало неизвестного бедняка, стоящего на отмели у лодок. Откуда-то шел пешком по берегу. Перед тем везли китайцев, и похоже, что он убежал с баржи.
Вспоминал Егор кусок хлеба, что дали когда-то его детям китайцы. "Хлеб-соль не попустит согрешить, – пришло ему на ум. – Я обойдусь с ним по-людски!" – решил Егор. Никаких мыслей и опасений, что китаец может оказаться плохим человеком, у него не было. Он, как и большинство русских крестьян, не делал разницы между людьми русскими и нерусскими, когда дело касалось честности. К тому же он всегда держался отцовского правила насчет хлеба-соли и приютил китайца, позвал к себе, накормил.
– Бродяга! Смотри... – говорил ему Федор. – Гони-ка в шею от греха подальше... Хунхуз!
В этот день Кузнецовы сажали картофель.
Китаец, глядя, как Егор работает, попросил мотыгу. Ударяя в рыхлую почву, он приподымал ее и забрасывал картофель под мотыгу.
– Разве так? – спросил Егор.
– Так надо... Скорей будет! – ответил китаец по-русски.
– Нехристь, – сказал Пахом, глядя на китайца, – а какой прилежный!
– Мало ли нехристей, – отвечал Егор. – Уж мы жили на Каме, всех видали.
– Зачем он тебе?
– Пусть живет.
– Откуда он убежал? Что с ним случилось?
– Какое наше дело?
Китайца стали звать Сашкой.
– Почему ты убежал? – спрашивали Сашку. – Старшинка худой?
Китаец кивал головой.
Приехал Бердышов и живо столковался с Сашкой.
– На казенных работах был. Ищет, где заработать, – говорил Иван.
Оказалось, что китаец мастер на все руки. Иван купил на казенной барже кирпичей. Сашка сложил в доме Бердышова русскую печь. Это всех поразило. Китаец умел печи класть! До сих пор Сашку жалели, а тут все стали заискивать перед ним. Мужики заходили, хвалили работу. Сашка сидел на корточках и молча курил. У крестьян в избах были чувалы, сбитые из глины. Всем захотелось сложить настоящие печи.
– Где он русскую печь класть научился?
– Казармы строил. Что, Сашка, твоя из Чифу?
– Чифу!
– Их везут из Чифу к нам и обучают ремеслам. Они живо лопотать по-нашему учатся, народ переимчивый! Вот, гляди, он печи класть научился, лодки конопатить, а допусти его жить на земле, он хороший огород разведет. Китаец – на все руки!.. Вот сколько я ему дал за работу? Пять рублей! А ему на родине за пять рублей год работать.
– У них помещики же, я помню, бельговский купец говорил, да я и сам знаю! – толковал Егор.
На китайца смотрели, как на чудо.
Егор вместе с Сашкой затеял обжиг своих кирпичей.
– А че, твоя бабушка дома еся? – ломая язык и полагая, видимо, что китайцу так будет понятней, спросил как-то Тимоха, придя в шалаш, где Сашка делал кирпичи.
Китаец невесело усмехнулся. Он понял, что его спрашивают, есть ли у него дома жена, и промолчал.
– Чего усмехаешься? Хорошо заработал у нас? Оставайся жить в нашей деревне, земли тебе дадим. Потом за бабушкой съездишь.
Китайцу, кажется, понравилось в Уральском.
– Наша дома кушай нету. Худо. Все помирай. Много люди помирай, сказал он Тимохе.
– А-а!.. Видишь ты!
Это было понятно всем.
– Значит, как мы: не от нужды по миру ходим, а скучно дома не евши сидеть. Мы с тобой бедные. Что же нам делать! Правда? Оставайся у нас!
Мужики дружно соглашались, что Сашке следует жить в Уральском. Такой мастер везде нужен. Почти никто из мужиков так класть не умел.
Вскоре оказалось, что Сашка раскорчевал клок земли, но не около пашни Кузнецовых, как советовал ему Егор, а за протокой. Егор давал ему коня и соху.
На зиму Сашка уехал в Бельго. Опасался Егор, что торгаши испортят Сашку, заставят на себя работать. Но вот настала весна, и Сашка вернулся.
– Ты, брат, нас не забывай! – говорил ему Силин, когда Сашка приходил точить. – Мы, брат, для тебя завсегда... И ты мне печь обещал. Я кирпича достал. Теперь церковь строят и привезли. Мне солдаты дадут.
Сашка улыбался, но не обещал ничего.
– Зимой приезжал исправник, спрашивал, живет ли в деревне китаец. Уж кто-то ему донес... Мы сказали: мол, нет, он ушел. Спросил: "Куда?" – "Не знаем!" Не выдали тебя.
Сашка смеялся вежливо и беззвучно, а работал старательно. Смуглые руки его с красивыми овальными ногтями крепко держали сошник.
* * *
"Надо бы Сашку проведать", – думал Егор, ожидая жену.
К вечеру нашли тучи. В ночь разразилась буря. А бабы все не ехали.
"Я как знал, сердце мое болело", – думал Егор.
– Бог знает, что там может быть?
– Заночуют, и все! – сказал Федька.
Егор сидит в избе, не спит.
"Тайгой идти – дороги не найдешь. Отмели затопило. Но если захочешь, так пройдешь. Хотя горячку пороть – только срамиться. Дождусь утра, там посмотрю".
И вдруг ударило в голову.
"А если что случилось? Конечно, гольды – смирный народ. Но черт их знает, а ну?.. Разве их узнаешь? Мало ли что..." Сам Егор не боялся, против гольдов ничего не таил, а за жену встревожился.
Утром поутихло. Егор пошел за конем.
Петрован вдруг закричал с крыши:
– Тятя, наши едут!
– Слава богу!
Егор посетовал на себя в душе, что нес на гольдов такую напраслину. Но запомнил, что поколебался в вере людям, которых знал хорошо, в людях честных, смирных, кротких.
"Вот душа-то человеческая, верно, что потемки!" – подумал он.
Приехали бабы, веселые и уставшие.
– Ночь не спали, поди, на новом месте?
– Вчера весь день садили с Васькой, а бабке не дали. День-деньской пришлось лечить, чуть не во всех Мылках ребятишек перемыла.
"А я-то на гольдов худое подумал!" – Егор чувствовал себя виноватым.
– И мяса привезли, – оживленно, не раздеваясь, в ватной куртке, которую надела вчера во время непогоды, говорила Наталья, сидя на табурете и беседуя с Егором, как в гостях. Ей не хотелось снимать платка с головы: видно, так понравилось гостить.
– А что там Улугу?
– Бросил огород!
– Да быть не может!
– Бросил Улугушка, бросил!
– Как же?
– Гохча огородничает.
– Все на жену!
– Разве его пристрастишь? Привез кабана тушу; чего, говорит, дедушка в тайгу не идет, сейчас, говорит, кабанов много, ходят у вас под деревней. И тебя ругал; сидит, черемшу с рыбой ест и ругает.
– Кабаны сейчас тощие, а он где-то ладного взял, – заметил Егор.
– Что же, что тощие! Кто сейчас жирный? Он дал мяса и осерчал. "Русский, – говорит, – какой охотник? Медведя увидит, раз выстрелит, ружье бросает и бежит. Никто себе мяса не добывает". На всем Амуре, мол, только одни гольды мясо добывают и рыбу ловят, а русские только разговаривают и торгуют.
– Это уж его кто-то подучил.
– Кто его подговорит в тайге! Его зло на попа берет, да и сам видит. "Егорка, – говорит, – худой, плохой охотник. Даром, – говорит, – живет, звери рядом..." Но полсвиньи отрубил.
– А на огород не идет?
– Гохча огородничает, не нарадуется!
– Неужто Улугушка не подсобит?
– Уж мы силком выволокли его! – подхватила Таня, только что вошедшая в избу и услыхавшая конец разговора.
– Верно, верно! – сказал дед. – Кабаны-то всегда есть на Додьге. Мы уж давно не ходили. Вот уж я собрался, поди-ка, надо сходить. Улугушка-то верно сказал. Зачем побираться у гольдов, когда туши к околице подходят? А под лежачий камень и вода не течет.
– Песни там пели, – встала Наталья и, взглянув в стенное зеркало, сняла платок.
Путешествие кончилось, пора было приниматься за хозяйство.
Настька приласкалась к матери.
– Ну как, хозяюшка моя?
– Завтра на Додьгу поедем, – оказал дед Кондрат. Относилось это к Петровану и Ваське, хотя ни к кому дед не обратился.
– Зайди к Сашке, посмотри, как он там, – сказал Егор отцу.
Он решил, что зря плохо о Сашке думал: мол, побирается, коня станет просить. "А может, человек там мучается? Я с семьей, а Сашка один. Он на чужбине. Разве Галдафу ему чем пособит? Как он ужился с Гао? У него не узнаешь. Но на того надежда плохая, хотя и говорят, что китайцы друг другу подсобляют".
Соль была, мясо стали солить. Пришлось мыть кадушку. Работы прибавилось. Пашни у Егора были запаханы, хлеб всходил, земля позволяла заняться другими делами, надо было успевать.
Иван зашел вечером.
– Ну, как гольды огородничают? Слава богу? – Иван заметил, что дед, видно, собрался на охоту. Спрашивать об этом не полагалось. – Ну что, Васька, тебя дедушка охотиться учит? – посмеялся он.
– А тебе что? – недовольно отозвался парнишка.
– Почему, когда из тайги придешь, у тебя ухо всегда красное?
Васька ответил с твердостью:
– Если смажу, то за ухо схватит и мутузит.
– Я их выучу, – молвил дед.
– Разве, дедка, так учат охотиться? Надо рассказывать.
– Нечего им рассказывать. Пусть знает: не попал – будет взбучка. Катерининские ружья не такие были, а я в десять лет уж стрелять умел. А потом вырос – у нас зверей не стало.
Дед Кондрат не первый раз вел внуков на Додьгу. Он учил их охотиться там на кабанов. Мясо добывали и себе, но большую часть отвозили за реку солдатам. Поэтому дед сильно обиделся на Улугушку, когда тот сказал, будто русские ленятся.
Ребята давно хотели стать охотниками. Теперь ружья в семье были, их учили стрелять.
Петрован, спокойный и упрямый, меток; какого бы зверя ни видел, широкое лицо его было бесстрастно, бил он без промаха.
Васька всей душой желал стать охотником. Заветная мечта его сбывалась, он трепетал, когда позволяли ему взять ружье в руки. Завидя зверей, Васька волновался и неизменно промахивался.
– Иди-ка сюда, родимец, – говорил дед после каждого промаха и трепал внука за ухо. – Ну, теперь знаешь, как стрелять?
– Теперь знаю! – сквозь слезы отвечал мальчик. – Теперь попаду...
Утром дед и мальчишка отправились на лодке вниз по реке, а потом свернули в озеро Додьгу и добрались до речки, пошли под стеной темного, как туча, смешанного додьгинского леса.
– А к Сашке поедем? – спрашивал деда Васька.
– Убьем, так поедем, – отвечал дед. – Сперва дело, а потом уж лясы точить. Делу – время, потехе – час! Раньше времени не загадывай.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Дед не столько удивился тому, что кабаны близко подпустили охотников, сколько тому, что земля, в которой они лежали, уж очень черна. Неужели такой чернозем? Место было вольное, на пойме.
– Видишь свиней? – спросил дед Ваську.
– Вижу... на солнышке лежат.
Свиньи рыли грязь на поляне между белых ильмов, таких толстых, что дупла их казались пещерами. Из грязи повсюду торчали щетинистые полосатые спины зверей.
– Да не ступай ты на валежник, иди потихоньку, а то вспугнешь... Вон пятаки видны. Гляди сюда, под ветки. Ну, еще подойдем. Вот этот секач... В секача... Свиней не бей. Я тебя подведу поближе, и ты стреляй за мной.
Васька старательно прицелился и ждал. А дед все мешкал.
Он зорко и весело оглядел стадо. Вдруг, вскинув ружье и не целясь, как заправский стрелок, ударил в гущу зверья. Выпалил и Васька. Стадо, ломая кусты, с треском потекло в тайгу. Обнаружился тучный перекопанный чернозем.
– Экий огород распахали! – удивился дед.
Кабан-секач бился в глубокой грязи.
– А ты опять промазал. Торопыга! Разве так стреляют? – сказал дед, но не стал бить и бранить Ваську.
Земля была черная, жирная, и когда дед копнул ее поглубже, то конца ей не было.
Старик покачал головой.
– Ладная земелька, хоть бы Расее в пору. Надо Егорушке сказать.
Васька удивился: дед сегодня не ворчал, не дрался и на обратном пути шутил, пел что-то. Сам греб и завернул лодку на протоку, где жил Сашка. Вскоре видна стала, как большая черная шкура среди леса на возвышенности, распластанная коричневая пашня.
Посреди нее стояла заморенная, тощая коняга, запряженная в самодельную соху, а около с длинной березовой хворостиной, в шляпе Сашка.
"Эко чудо! У Сашки-то конь свой..."
– Дедушка, – обрадовался мальчишка, – конь у Сашки!
И сам Сашка и его коняга, видно, притомились. Китаец ничего не мог поделать с клячей. Он замахнулся хворостиной. Лошадь не шла. Голова ее дрожала.
– У-э! У-э! – вдруг дико заорал Сашка, выдвинув нижнюю челюсть, наклоняясь и сделав такое страшное лицо, что Васька замер. Сашка с силой ударил лошадь хворостиной по всей спине так, что раздался хряск. – О-о! У-у! – заревел он. – Э-э! – голос у него с низкого срывался на тонкий.
Лошадь рванула. Сашка бросил свою березовую палку, налег на рассоху, да так сильно, что казалось, он сам толкал соху вперед и разворачивал всю землю, а не лошадь ее тянула.
Сашка ходил по полю, кричал. Лошадь пошла бодрей. Казалось, китаец не обращал внимания на подъехавших гостей.
"Как он страшно кричит", – думал Васька, слыша его отчаянные, то низкие, то тонкие возгласы.
Если Васька устрашился этого зрелища, то дед, напротив, почувствовал к Сашке расположение.
Коняга опять встала. Китаец подошел к старику.
– Ты что же так коня бьешь? – спросил дед.
– Его ничего! – ответил Сашка.
Дед вспомнил разные рассказы, какая жизнь в Китае.
Неподалеку был шалаш, горел костер, варилось что-то.
– А ты землянку себе делаешь?
– Делаю! Будет дом!
– Ты тут целую усадьбу себе сладишь! – сказал дед. – Ты приезжай, я тебе дам кнут. Неужто у вас бьют лошадей палками?
Сашка повел гостей в шалаш.
– Зимой Федька женился? – спросил он.
– Да.
– Шибко хорошо! – улыбнулся китаец.
– Вот и тебе жениться надо! – молвил дед.
Китаец принес чашки. Угостил рисом, дал чаю. После обеда поговорили немного, потом Сашка пошел работать.
– У-э! – орал он и быстро шагал по пашне за лошадью, которая, несмотря на свой заморенный вид, тащила соху.
– Со страху потащишь! – молвил дед Кондрат.
Старик помолчал угрюмо.
Отдохнули немного, и, чтобы не сидеть без дела, Васька, взявши лопату, спросил:
– Можно мне?
Он с удовольствием покопал яму для землянки.
Дед невольно рассмотрел имущество китайца. Ватные штаны, в которых Сашка приходил однажды, сушились на палке, в шалаше – нож, шкура лисы, добытая, верно, еще зимой, черная короткая шкура сохатого и ватное одеяло, ватная куртка, котомка, чашки, связка лука...
Сашка поработал, поставил коня под дым костра и сам пришел, присел с дедом, достал трубку с медной чашечкой и закурил.
– Где ты коня купил? Гао дал?
– Купила!
– Это верно! Ну как у тебя с Гао?
– Хорошо!
– Ты что, его не любишь?
– Не знаю.
– Нет, уж нет... Заметно, заметно, не любишь, хоть и свои. Так ты у русских купил?
– У русских! В Тамбовке!
– Когда покупал, хороший был конь?
– Хороший!
– А теперь худой?
– Сразу как привел его, стал худой!
"Обманули тебя, верно, – подумал дед, – пьяного коня продали. Вот будешь знать русских барышников".
– Ты у кого купил?
– У Овчинникова.
Руки у Сашки дрожат, худая открытая шея мокра, на дабовой куртке черные потеки пота. На нем рыжая кожаная обувь до колен, вся избитая добела о корни и изношенная, но еще целая. Сашка темный, руки коричневые. Он сам как живой кусок земли.
Дед пожалел в душе, что Сашка так рьяно пашет, – значит, в Уральском не будет мастера.
– А печку Тимохе сложишь?
– Пахать кончай и ходи, – ответил китаец. – Ходи и Тимоха работай... Печка делай...
– Ну, я так и скажу!
– Егор как живи? – спросил китаец и вдруг улыбнулся, глаза его заблестели. – Ничего его живи?
– Ничего... Ты тоже тут, значит, развернулся... Где же денег взял?
– Маленько заработал.
Сашка смог купить только такую конягу, и то половину денег пришлось занять у Гао.
"Мы все завели сами, а он за деньги. Купцы пособляют ему, – подумал Кондрат ревниво. – Ему легче, чем нам".
Сошники, лопату, мотыгу дал Сашке в прошлом еще году Иван. Егор помог перековать старье.