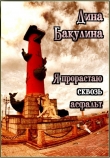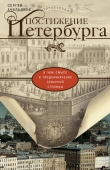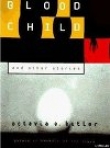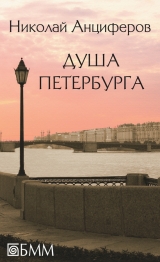
Текст книги "Душа Петербурга"
Автор книги: Николай Анциферов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
V
Так, всматриваясь во внешний облик города, мы выделяем в нем наиболее существенные черты, определяющие его характер.
Хорошо, однако, приобщить к видимому городу незримый мир былого. Прошлое, просвечивая сквозь настоящее, углубляет наше восприятие, делает его более острым и чутким, и нашему духовному взору раскрываются новые стороны, до сих пор скрытые. Созерцание старого дома возвращает нам мир, который видел этот дом юным, и воскресший мир дает возможность видеть то, что прежде оставалось незримо.
К этому одухотворению, порождаемому историческим чувством, удачно прибегает Андрей Белый в своем романе «Петербург», например, при описании Михайловского замка.
Прежде всего набросок строения:
«Страшное место увенчивал великолепный дворец; вверх протянутой башней напоминал он причудливый замок: розово-красный, твердо-каменный; венценосец проживал в стенах тех; не теперь это было, венценосца того уже нет. Во Царствии Твоем помяни его душу, о Господи!»[130]130
Здесь и ниже цитаты из романа Андрея Белого «Петербург» (М., 1981. С. 353–354). (комм. сост.)
[Закрыть]
Историческое чувство пробуждено. Вызван образ несчастного императора.
«Вероятно, не раз появлялась курносая в белых локонах голова в амбразуре окна! Вон окошко, не из этого ли?»
Какая конкретизация!
«И курносая в локонах голова томительно дозирала пространства за оконными стеклами; и утопали глаза в розовых угасаниях неба».
Наиболее ярко можно ощутить Павла I, если представить то, что он созерцает в данную минуту.
«У подъезда стоял павловец-часовой в треугольной шапке с полями и брал ружьем на караул при выходе златогрудого генерала в андреевской ленте, направлявшегося к золотой, расписанной акварелью карете, краснопламенный высился кучер с приподнятых козел; на запятках кареты стояли губастые негры.
Император Павел Петрович, окинувши взглядом все это, возвращался к сантиментальному разговору с кисейно-газовой фрейлиной, и фрейлина улыбалась; на ланитах ее обозначались две лукавые ямочки и черная мушка».
Но мирная картина исчезает. Страшные образы трагедии 1801 года сменяют ее. Не стало императора – мальтийского рыцаря.
«А луна продолжала струить свое легкое серебро, падало оно на тяжелую мебель императорской спальни; падало на постель, озолощая блеснувшего с изголовья амурчика; падало оно и на профиль, смертельно-белый, будто прочерченный тушью. Где-то били куранты; в отдалении повсюду топотали шаги».
Так заставляет нас Андрей Белый пережить Инженерный замок со всем своим историческим наследием, преломленным настоящей минутой.
Большое значение для одухотворения города имеет природа. Смена дня и ночи заставляет чувствовать органическое участие города в жизни природы. Утро убирает его часто перламутровой тканью туманов, пронизанных солнечными лучами. Вечер набрасывает на него кроваво-блещущий покров…
И белая ночь наполняет его своими чарами, делает Петербург самым фантастическим из всех городов мира (Достоевский).[131]131
Неточная цитаты из «Записок из подполья» //ПСС. Т. 5. С. 101; Достоевский Ф. М. «Подросток» // ПСС. Т. 13. С. 113. (комм. сост.).
[Закрыть] Мистерия времен года, породившая мифы всех народов, превращает самый город в какое-то мифическое существо.
Петербургская осенняя ночь с ее туманами или ветрами напоминает, что под городом древний хаос шевелится. Гоголь, Одоевский, Достоевский знали эти ночи, и душа Петербурга открывалась им в осеннем ненастье. Пушкин указывал нам путь к ней через сверкающий зимний день.
Каждое место требует знания дня и часа. Новая Голландия и сфинксы лучше всего в ясную летнюю ночь. Сенатская площадь в зимнее утро, когда на деревьях иней и солнце светит нежно и бессильно.
Еще большее значение имеет в этом смысле природа для окрестностей Петербурга.
Петергоф может раскрыться нам и в ясный осенний вечер среди неопалимых купин ярко пылающих кленов, но мы не должны соблазниться очарованием этого образа. Мужественный характер летней резиденции Петра выявится полнее в другую пору. Час явления genius loci Петергофа наступает в летний день, когда дует порывистый ветер; по темно-синему небу быстро несутся легкие облака, то скрывая солнце, то открывая его; причудливые тени плывут по сочно-зеленой траве, скользят по пихтам и каштанам, обволакивают сверкающие золотом статуи; ветер колеблет струи фонтанов и на потемневшем буро-синем море вздувает пену волн; доносится крик незримой чайки. Стихии ветра и воды сродни Петру Великому. В. А. Серов удачно изобразил на фоне строящегося Петербурга на берегу Невы могучую фигуру царя, рассекающего грудью ветер, а за ним едва поспевающих, с трудом держащихся на ногах спутников.[132]132
Речь идет о картине В. А. Серова «Петр I» (1907; Третьяковская галерея), созданной художником для серии «Картины по русской истории». (комм. сост.)
[Закрыть] В Петергофе, несмотря на позднейшие изменения, еще ощутим дух Строителя Чудотворного, и для него наиболее выразительным часом явится мужественная пора летнего дня при ветре, при быстрой смене освещения.
И Павловск может увлечь нас в разные часы: и в серенький зимний день, и в улыбающееся весеннее утро, но не в них раскроется в полноте его душа.
Дворец с белыми колоннами, выступающими на матово-желтом фоне, под круглым куполом, изящное создание Камерона,[133]133
Павловский дворец построен по проекту архитектора Ч. Камерона в 1782–1786 гг.; им же положено начало освоения территории будущего парка. (комм. сост.)
[Закрыть] парк с нежными очертаниями холмов и рощиц, застенчивые памятники, вызывающие образы: любви, дружбы и смерти; туманы над тихо журчащей Славянкой, – все это полно женственной мягкости и пассивности. Вся природа здесь глубоко спиритуализирована. Павловский парк elisium теней.[134]134
Реминисценция из стих. Ф. И. Тютчева «Душа моя – Элизиум теней…» (1836).
Элизиум – загробное царство праведных (греч. миф.). (комм. сост.)
[Закрыть] Ясный осенний вечер – наиболее родственный ему час; «кроткая улыбка увяданья»[135]135
Цитата из стих. Ф. И. Тютчева «Осенний вечер» (1830). (комм. сост.)
[Закрыть] ему наиболее к лицу. Павловск нашел своего поэта, вполне конгениального. В. А. Жуковский для описания его избирает осеннюю пору, полную меланхолии.
Славянка тихая, сколь ток приятен твой,
Когда в осенний день в твои глядятся воды
Холмы, одетые последнею красой
Полуотцветшие природы!
Спешу к твоим брегам… свод неба тих и чист;
При свете солнечном прохлада повевает;
Последний запах свой осыпавшийся лист
С осенней свежестью сливает.
……………………………………………………
(«Славянка»)
Глубокая тишина увяданья, баюкающая душу, уносящая в мир воспоминаний. Еще сильнее ее власть в вечерний час.
Сколь милы в Павловске вечерние картины.
Люблю, когда закат безоблачный горит;
Пылая, зыблются древесные вершины,
И ярким заревом осыпанный дворец,
Глядясь с полугоры в водах, покрытых тенью,
Мрачится медленно, и купол, как венец,
Над потемневшею дерев окрестных сенью
Заката пламени сияет в вышине
И вместе с пламенем заката угасает.
(«Первый отчет о луне»)[136]136
Стих. В. А. Жуковского «Первый отчет о луне» публиковалось под заглавием «Государыне императрице Марии Федоровне» (1819). (комм. сост.)
[Закрыть]
Подобно тому как цветок имеет свою пору цветения, так и местность с яркой индивидуальностью в определенный час открывает наиболее полно скрывающийся в ней genius loci. Нужно много пережить все связанное с данной местностью, чтобы уметь правильно определить наиболее сродную ей пору. Быть может, подобные суждения субъективны, но поиски выразительного часа не должны быть признаны всецело произвольными, а потому излишними. В них можно обрести познание некоторой правды о духе местности.
Звуки и запахи должны быть также приняты во внимание при этих поисках.
VI
Однако для понимания души города мало своих личных впечатлений, как бы ни были они пережиты правдиво и сильно. Необходимо воспользоваться опытом других, живших и до нас, знавшим Петербург в прошлом.
Где же лучше всего искать материал для нахождения этих следов Петербурга на душах людей?
Наша художественная литература чрезвычайно богата ими. Ознакомившись с этим материалом, мы можем прийти к интересному выводу. Отражение Петербурга в душах наших художников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатлениями чувствуется определенная последовательность, можно сказать, закономерность. Создается незыблемое впечатление, что душа города имеет свою судьбу, и наши писатели, каждый в свое время, отмечали определенный момент в истории развития души города.[137]137
Этой теме посвящена вторая часть данной книги: Образы Петербурга. (Примеч. авт.)
[Закрыть]
Трагический империализм Петербурга, его оторванность от ядра русского народа не сделали его безликим, бездушным, общеевропейским городом, каким-то переходным местом в пространственном отношении (из России на Запад, «окно в Европу») и во временном (от Московии к Великой Российской Империи).
Город Петра оказался организмом с ярко выраженной индивидуальностью, обладающим душой сложной и тонкой, живущей своей таинственной жизнью, полною трагизма.
Его genius loci откроется нам, когда мы, пережив образы Петербурга в русской художественной литературе, будем сосредоточенно всматриваться в него с высоты Исаакиевского собора и странствовать по просторам его площадей, по его стройно сходящимся улицам и по многочисленным набережным с плавными линиями, украшенными узорчатыми чугунными решетками, всегда и всюду чувствуя присутствие державной Невы.
* * *
Есть еще один материал, совершенно пренебрегаемый, однако пригодный для характеристики города. Я имею в виду названия улиц, городских ворот, гостиниц и так далее. Вероятно, всякий замечал, что у каждого города есть свой стиль этих названий, определяемый гением города.
Разве не характеризуют Париж следующие наименования: Avenue des Gobelins,[138]138
Проспект Гобеленов (фр.). (прим. авт.)
[Закрыть] Rue de la Perle,[139]139
Улица Жемчужины (фр.). (прим. авт.)
[Закрыть] Ruelle du Paon Blanc,[140]140
Улица Белого павлина (фр.). (прим. авт.)
[Закрыть] или названия юмористические: Rue du Chat qui pêche,[141]141
Улица Кошки, удящей рыбу (фр.). (прим. авт.)
[Закрыть] Hôtel d'un chien qui fume[142]142
Гостиница Курящей собаки (фр.). (прим. авт.)
[Закрыть] и т. д. Бесчисленные наименования святых, или улица монахов, улица канониц напомнят нам о временах, когда Прекрасная Франция была лучшей дочерью католической церкви.
Особый интерес представляют названия улиц Москвы. Наряду с церковными, чрезвычайно обильными, как и подобает для сердца «Святой Руси», наряду с историческими и топографическими, неизбежными для каждого древнего города, есть ряд названий, чрезвычайно характерных именно для Москвы. Например, комплекс улиц у Арбатской площади: Поварская, с ее переулками Скатерным, Хлебным, Столовым, напоминает о хозяйственности князей-строителей радушной Москвы. Или улицы с уменьшительными окончаниями, так ласкающие слух всех любящих Москву: Полянка, Ордынка, Палиха, Плющиха и т. д.
Все приведенные названия нисколько не связаны непосредственно с городом, как, например, Сухаревская площадь или Кремлевская набережная. Наконец, упомянутые улицы не являются всем известными, как Кузнецкий мост или Красная площадь, и их названия сами по себе не говорят о связи с Москвой. Только подбор образов этих имен и даже их звук проникнуты московским духом.
Что же дают нам названия Петербурга? Ничего яркого, особенно выразительного мы в них не найдем. И разве это не характеризует его, разве это не к лицу строгому и сдержанному городу? Его имена либо топографические – Невский, Каменноостровский, либо ремесленного происхождения – Литейный, Ружейная, Гребецкая, Барочная и т. д., либо свойственные столицам, в честь дружественных наций: Итальянская, Английская, Французская, либо совершенно лишенные образности, наиболее характерные для Петербурга: Большие, Малые, Средние проспекты и бесчисленные линии и роты вытянутые в шеренгу и занумерованные.
Городские названия – язык города.[143]143
Анциферов впервые использует топонимы для выявления «поэтики» города; в предшествующей градоведческой литературе городские названия привлекались только при обследовании топографического и исторического развития города (см., например, главу «Названия улиц» в кн.: Гассерт К. Города: Географический этюд. М., 1912. С. 165–170). (комм. сост.)
[Закрыть] Они расскажут о его топографии, о его окрестностях, истории, героях, промышленности, идеях, вкусах, юморе. Они так же определяют стиль города, как его строения, его легенды, его сады.
Изучение города как органического целого дает опыт постижения историко-культурного организма в его видоизменениях. Этим самым будет дан ключ к пониманию и того, что уже не удастся изучить здесь описанным конкретным путем, и вместе с тем будет создан масштаб для оценки всей разницы между знанием, полученным путем видения цельного образа, и знанием того, о чем удается только услышать или прочитать. Если сумеем воспользоваться полученными живыми образами, в дальнейших занятиях это поможет ощутить прошлое живым, конкретным, а потому и доступным пониманию, вызывающим любовь. Прошлое всего человечества будет воспринято тогда как жизнь единого целого.
Пробудившаяся любовь к былому – великая сила. Она преодолевает всепобеждающее время и ставит нас лицом к лицу с жизнью наших предков.
Наша любовь возрождает прошлое, делает его участником нашей жизни.
Так явственно, из глубины веков,
Пытливый ум готовит к возрождению
Забытый гул погибших городов
И бытия возвратное движение.
(А. Блок. «На небе зарево»)
ОБРАЗЫ ПЕТЕРБУРГА
Образ города имеет свою судьбу. Судьба понимается здесь как органическое развитие единичного явления. Понятие судьбы приложимо только к личности как носительнице индивидуального начала. Судьба есть историческое выявление личности. Безликий процесс не может быть определяем судьбой. Таким образом, здесь утверждается идея индивидуальности образа города, имеющего свою судьбу. Он живет своей жизнью, как и сам город, независимой от впечатлений отдельных его обитателей. Он имеет свои законы развития, над которыми не властны носители этого образа, его выразители. Личность, созерцающая город, конечно, кладет на отображенное ею впечатление печать своей индивидуальности, но эта печать видоизменяет только детали. Не всякий, конечно, обитатель является носителем образа города, как чего-то цельного, органичного, самодовлеющего. Только наиболее чуткие из них познают лицо города. Нужно помнить, что познание является отчасти самопознанием, так как город открывает свое лицо только тому, кто хоть ненадолго побывал его гражданином, приобщился к его жизни, таким образом сделался частицей этого сложного целого. Кто же лучше всего сможет выразить образ города, как не художник, и, может быть, лучше всего художник слова? Ибо ему наиболее доступно целостное видение города, которое может привести к уяснению его идеи. Художник-мыслитель может найти лoyoc[145]145
лоуос (логос) – одно из основных понятий античной и средневековой философии. В античной философии обозначает одновременно «слово» (высказывание) и «смысл» (понятие, суждение, основание), т. е. единство мышления и языка, доходящее до полного тождества; в христианских учениях логос – образ бога, воплощение, вочеловечение его. У Анциферова, вероятно, это понятие имеет тот же смысл, что в патристике (доктрины отцов церкви II–VIII вв.), где оно означает догмат о воплощении Бога-Слова. (комм. сост.)
[Закрыть] города и передать его в художественной форме. Одни писатели создавали случайные образы, откликаясь на выразительность Петербурга, другие, ощущая свою связь с ним, создавали сложный и цельный образ северной столицы, третьи вносили сюда свои идеи и стремились осмыслить Петербург в связи с общей системой своего миросозерцания; наконец, четвертые, совмещая все это, творили из Петербурга целый мир, живущий своей самодовлеющей жизнью.
Цель этой работы – набросать очерк развития образа Петербурга, основываясь на памятниках русской литературы. Работа, таким образом, относится к области истории культуры, а не искусства. Изменяющийся с годами образ Петербурга рассматривается здесь как явление духовной культуры, ввиду чего эволюция образа намечается вне художественных оценок. Подобная работа, строго говоря, преждевременна. Еще не написана история русской культуры, на фоне которой было бы возможно проследить эволюцию образа, отражающего духовное состояние русского общества. Но работа, лежащая перед исследователем русской культуры, особенно нового времени, столь велика, что ее хватит на несколько поколений ученых. Ввиду этого следует уже теперь выдвигать некоторые проблемы из области духовной культуры нового времени, не упуская из виду, что они являются лишь опытами, которые подлежат критической проверке и существенным изменениям.
Здесь предполагается лишь установить вехи, знаменующие этапы развития образа Петербурга. Желательно было бы использовать весь богатый материал отражения Петербурга в сознании русского общества. Надеемся, что этот труд удастся выполнить в будущем тем, кто поймет великую культурную ценность Петербурга.
Здесь задача поставлена более простая. Материал привлечен из области художественной литературы. Какой-нибудь выразительный отрывок заменит собою целую серию, не вносящую при сопоставлении с ним ничего существенно нового в обрисовку образа города.
Цитаты здесь рассматриваются не только как иллюстрации, поясняющие ту или другую мысль автора. Они здесь являют самый образ и заменяют, таким образом, картины в тексте. Этим оправдывается их обилие и их размеры. Книга благодаря этому отчасти приспособлена для целей хрестоматии. Иногда, впрочем, приходилось сокращать текст, выпуская из него менее значительные места, изредка даже передавать его своими словами, в случае малой значимости текста.
В заключение этих предварительных замечаний, следует отметить, что под городом здесь подразумевается по преимуществу его внешний облик, его архитектурный пейзаж. Весь остальной материал привлекается для комментирования внешнего облика.
Так, например, вопросы быта затрагиваются постольку, поскольку иллюстрируют внешний облик города. Общие идеи здесь привлечены только в интересах понимания выражения лика города. Методически вопрос поставлен так: через познание внешнего облика города к постижению его души.[146]146
В каком смысле можно говорить о душе города? Исторически проявляющееся единство всех сторон его жизни (сил природы, быта населения, его роста и характера, его архитектурного пейзажа, его участие в общей жизни страны, духовное бытие его граждан) и составляет душу города. (Примеч. авт.)
[Закрыть]
I
Трудно установить момент зарождения образа города, даже возникшего при таких благодарных обстоятельствах для сознательной оценки его, как Петербург, – город, воздвигнутый в момент великой борьбы, в эпоху рождения империализма.[147]147
Первые наиболее подробные описания встречаются у иностранцев, посетивших новую столицу. В своих заметках они соединяли угодливый пафос с искренним восхищением. Первое наиболее подробное описание нового города принадлежит автору, скрывшему свое имя за инициалами S. W. («Описание Санкт-Петербурга и Кронштадта в 1710 и 1711 годах»). Но все эти книги, как не имеющие отношения к русской художественной литературе, не подлежат нашему разбору. (Примеч. авт.)
Описание Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710-м и 1711-м годах/Пер. с нем., предисл. и примеч. А. Ф. Бычкова. Спб., 1860; книга издана по рукописи, хранившейся в Императорской публичной библиотеке. (комм. сост.)
[Закрыть] Не скоро наступает момент созерцания, благоприятный появлению художественного синтетического образа, историю которого надлежит здесь наметить, поскольку он отразился в русской художественной литературе. Из русских художников слова едва ли не первый Сумароков придал ему определенные черты.
Петербург в творчестве Сумарокова намечается как город священный. Название Санкт-Петербург приобретает для него особое значение. Молодость города словно лишает его должной величественности. Сумароков ввиду этого старается в седой старине найти подготовку создания Петербурга, чтобы придать этим образу города ореол древности. Александр Невский является предтечей Петра Великого.
Сему великолепну граду
Победой славу основал.
(«Стихиры Св. Александру Невскому»)
Прах Александра должен храниться в недрах города, обязанного ему своим существованием.
Ликуйте вы, Петровы стены,
Играйте, Невски берега!
То, что должно было совершить Петру, он свято выполнил.
На берегу потоков Невских
Святого Александра гроб!
Петр, преемник Александра, в своей новой столице воздвигает ему храм, с которым связывается палладиум нового города.
Петрополь не чуждый России город, знаменующий разрыв с прошлым. Нет, Санкт-Петербург имеет глубокие корни в Святой Руси. Он является городом «солнца земли русской»,[149]149
Парафраз выражения «солнце земли Суздальской» из «Жития Александра Невского». (комм. сост.)
[Закрыть] Александра Невского. Не умалить значение Петра хотел этим Сумароков, но возвеличить, озарив его город священным блеском.
Но эта перспектива в глубину прошлого не должна отвлечь внимание от настоящего. Прошлое только подчеркивает величие настоящего, служит залогом раскрытия в будущем великих судеб. Новый город – столица великой империи, полной развертывающихся сил для победоносного роста. Народ великой равнины простер свою десницу для господства над морями.
Мать-земля сырая была божеством народа пахарей. Теперь он поклонился новому божеству – Нептуну, владыке моря-океана, воплотившемуся в царе Петре.
Стихии радостно покоряются трезубцу нового повелителя вод. Нептун укрощает ветры. Quos ego![151]151
Я вас! (лат.), выражение гневной угрозы.
[Закрыть]
Ваше суетно препятство,
Ветры, нашим кораблям.
Рассыпается богатство
По твоим, Нева, брегам.
Бедны пред России оком
Запад с югом и востоком.
(«Дифирамб 1-й»)
Петр Великий, укротитель стихий, является повелителем всего мира, ибо нет ему равного.
Таков величавый и ликующий образ Петербурга в творчестве Сумарокова. Город, освященный традицией, имеющий глубокие корни в прошлом. Однако только будущее раскроет все величие Северной Пальмиры. Город Св. Петра на севере заменит собою город Св. Петра на юге. Петербург станет новым Римом. Сумароков принимает пророческий тон:
«Узрят тебя, Петрополь, в ином виде потомки наши: будешь ты северный Рим. Исполнится мое предречение, ежели престол монархов не перенесется из тебя… Может быть, и не перенесется, если изобилие твое умножится, блата твои осушатся, проливы твои высокопарными украсятся зданьями. Тогда будешь ты вечными вратами Российской Империи и вечным обиталищем почтеннейших чад российских и вечным монументом Петру Первому и Второй Екатерине»
(«Слово 5-ое: на открытие Импер. Спб. Академии художеств»).
Образ Северного Рима пленял и Ломоносова, и он восхищался, взирая на то, как
Но он вносит смягчающий мотив, ограничивающий всесокрушающий империализм. Он восхваляет царицу за то, что она миролюбива.
Вернулся золотой век! Вся в лучезарном сиянии Северная Пальмира горит и сверкает.
В стенах Петровых протекает
Полна веселья там Нева,
Венцом, порфирою блистает,
Покрыта лаврами глава.
Там равной ревностью пылают
Сердца, как стогны, все сияют
В исполненной утех ночи.
О сладкий век! о жизнь драгая!
Петрополь, небу подражая,
Подобны испустил лучи.
(«На день восшествия на престол Имп. Елизаветы Петровны»)[155]155
Из «Оды на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» (1748) Ломоносова. (комм. сост.)
[Закрыть]
Краски описания сверкают и ликуют.
Над городом веет дух Петра – его гения-хранителя.
Невелик интересующий нас материал и у Державина. Он испытывает на себе всю силу обаяния сказочно растущей Северной Пальмиры. И все условности стиля его эпохи, требовавшего торжественных славословий, имевших лишь отдаленное отношение к воспеваемым объектам, не могли вполне затемнить подлинности восхищения новой столицей.
Державин прибегает к своеобразному приему описания Петербурга. Перед императрицей Екатериной, плывущей по Неве, развертывается панорама города. Суровый Ладогон с снего-блещущими власами повелевает своей дочери Неве «весть царицу в Понта двери».
И Нева, преклонши зрак
В град ведет преузорочный.
Петрополь встает навстречу;
Башни всходят из-под волн.
Не Славенска внемлю вечу,
Слышу муз афинских звон.
Вижу, мраморы, граниты
Богу взносятся на храм;
За заслуги знамениты,
В память вождям и царям
Зрю кумиры изваянны.
Вижу, Севера столица
Как цветник меж рек цветет,
В свете всех градов царица,
И ее прекрасней нет!
Белт в безмолвии зеркало
Держит пред ее лицом.
Чтобы прелестьми блистало
И вдали народам всем
Как румяный отблеск зарный.
Вижу лентии летучи
Разноцветны по судам;
Лес пришел из мачт дремучий
К камнетесанным брегам.
Вижу пристаней цепь, зданий,
Торжищ, стогнов чистоту,
Злачных рощ, путей, гуляний
Блеск, богатство, красоту,
Красоте царя подобну…
(«Шествие по Волхову рос. Амфитриды»)
Вот образ Северной Пальмиры, далекий от жизненной правды, включающий лишь то, что могло послужить ее прославлению. Но этот образ был близок, понятен всем, дышавшим крепким и бодрым воздухом России XVIII века, верившей в свои силы и умевшей заставить других поверить в себя. Северная Пальмира не была легендой; в молодой столице ощущалось великое будущее.
Державин чужд той тревоги, которая охватит последующие поколения! Трагическая красота Петербурга ему не понятна. Все устойчиво и мирно.
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт в брегах своих сверкал.
(«Видение Мурзы»)
Тиха ночь над Невою в ее гранитной урне. А днем радостно на просторах ее набережных дышать весною в шумной толпе.
По гранитному я брегу
Невскому гулять ходил;
Сладкую весенню негу,
Благовонный воздух пил;
Видел, как народ теснился
Вкруг одной младой четы.
(«Явление Аполлона и Дафны на Невском берегу»)
Для Державина не существовало здесь борьбы города со стихиями. Наоборот, природа и искусство в гармоническом сочетании творят красоту города.
«Везде торжествует природа и художество». Природа, по которой прошелся резец художника. «Спорят между собой искусство и природа».[157]157
«На Петергоф» (Примеч. авт.)
[Закрыть]
Спорят в смысле дружеского соревнования, направленного к достижению одной цели: создания пейзажа города.
Описывая Потемкинский праздник, поэт с восхищением останавливается на архитектуре петербургского дворца. Какие же черты стиля отмечает он: простоту и величественность прежде всего.
«Наружность его не блистает ни резьбою, ни позолотою, ни другими какими пышными украшениями: древний, изящный вкус – его достоинство, оно просто, но величественно».
(«Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила»).
Здесь все «торжественно», как в храме:
«Обширный купол, поддерживаемый осьмью столпами, стены, представляющие отдельные виды, освещенные мерцающим светом, который внушает некий священный ужас» (ibid.).
Здесь «везде видны вкус и великолепие», но великолепие сдержанное, не противоречащее простоте.
Державин живо чувствует и пафос пространства как основную черту блеска, силы:
Великолепные чертоги
На столько расстоят локтях,
Что глас в трубы, в ловецки роги,
Едва в их слышится концах.
Над возвышенными стенами
Как небо наклонился свод;
Между огромными столпами
Отворен в них к утехам вход.
Величие дворца вызывает в поэте образ вечного города:
«И если бы какой властелин всемощного Рима, преклоняя под руку свою вселенную, пожелал торжествовать звуки своего оружия или оплатить угощения своим согражданам, то не мог бы для празднества своего создать большего дома или лучшего великолепия представить. Казалось, что все богатство Азии и все искусство Европы совокуплено там было к украшению храма торжеств Великой Екатерины».
Во дворцах Северной Пальмиры должно чувствоваться величие пространств империи, которую венчает она. Империализм Державина – бодрый, уверенный и радостный. В Петербург стекаются богатства из беспредельных пространств империи.
Богатая Сибирь, наклонившись над столами,
Рассыпала по ним и злато и сребро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челнами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами хлеб Волга подавала;
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей нагнувшися, в топазны, аметистны
Лил в кубки мед златой, древ искрометный сок
И с Дона сладкие и крымски вкусна вина…
…Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы…
И это империя юная, полная сил, у которой все впереди, и древние римляне дивятся после них невиданному великолепию.
Из мрака выставя, на славный пир смотрели:
Лукуллы, Цезари, Троян, Октавий, Тит,
Как будто изумясь, сойти со стен желали
И вопросить: Кого так угощает свет?
Кто кроме нас владеть отважился вселенной?
Державину, упоенному величием растущей империи, грезится образ нового Рима.
Таков Петербург в художественном творчестве Державина. Это гордая столица молодой, полной сил империи, это город величаво простой, ясный, отмеченный изяществом вкуса своих строителей, город гармоничный, лишенный всякого трагизма. Однако и Державину была ведома тревога за будущее города Петра. В своей докладной записке «О дешевизне припасов в столице» (1797) он выражает опасение за судьбу столицы.
Если все предоставить естественному ходу – «Петербургу быть пусту».[159]159
«Петербургу быть пусту» – формула типологически и, вероятно, генетически восходит к пророчеству «Книги Иеремии» (гл. 51, ст. 42–43), где предсказывается гибель и потопление Вавилона. Нам известно два круга документальных источников, зафиксировавших это легендарное заклятие новой столицы. Первый – документы дознания царевича Алексея, в показаниях которого от 8 февраля 1718 г. заклятие приписано его матери, царице Евдокии Лопухиной: «…сказывала, что Питербурх не устоит за нами: «Быть-де ему пусту»» (Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Спб., 1859. Т. 6. С. 457; документ, приведенный Устряловым, использовал С. М. Соловьев в 17-м томе «Истории России»). Другие источники – также бумаги Тайной канцелярии, но уже 1722 г., повествующие о распространившемся в Петербурге слухе: на колокольне церкви Святой Троицы якобы завелась кикимора, и по поводу этого «таинственного явления» дьякон прихода высказал пророчество: «Питербурху пустеть будет» (Семевский М. И. Очерки и рассказы из русской истории XVIII в.: Слово и дело! 1700–1725. Спб., 1884. С. 88–89). Это предсказание, отлившееся в XIX в. в устойчивую формулу «Петербургу быть пусту», использовано во многих художественных текстах начала XX в., например: взято эпиграфом к стих. П. С. Соловьевой «Петербург» (1905), приведено Д. С. Мережковским как заглавие статьи (Мережковский Д. С. Петербургу быть пусту//Речь. 1908. 21 декабря) и в романе «Петр и Алексей» (где приписано царице Марии Алексеевне) и т. д., вплоть до упоминания «заклятья» «царицы Авдотьи» в ахматовской «Поэме без героя». (комм. сост.)
[Закрыть]
«Если не возмется заблаговременно мер, то весьма мудрено и в таком пространстве, в каковом он теперь находится, и в присутствии двора и его сияния выдержать ему и два века. Удалится же двор, исчезнет его великолепие. Жаль, что толикие усилия толь великого народа и слава мудрого его основателя скоровременно могут погибнуть».
Однако вся статья Державина проникнута оптимизмом. Россия должна быть приближена к своей столице. Ее окрестности, глухие и суровые, должны быть заселены и возделаны.
Державин, очевидно, хотел видеть Петербург окруженным хорошо культивированною зоной, приспособленной к нуждам столицы, подобно той, что окружала древний Рим, распространяясь на весь Лациум.[161]161
Лациум – область в Центральной Италии с главным городом Римом. (комм. сост.)
[Закрыть]
Прекрасный образ Северной Пальмиры начертан кн. Вяземским (в 1818 г.):
Я вижу град Петров чудесный, величавый,
По манию царя воздвигнутый из блат.
Наследный памятник его могущей славы,
Потомками его украшенный стократ!
Искусство здесь везде вело с природой брань
И торжество свое везде знаменовало.
Могущество ума мятеж стихий смиряло,
Чей повелительный, на зло природы, глас
Содвинул и повлек из дикия пустыни
Громады вечных скал, чтоб разостлать твердыни
По берегам твоим, рек скверных глава,
Великолепная и светлая Нева?
Кто к сим брегам склонил торговли алчной крылья
И стаи кораблей с дарами изобилья
От утра, вечера и полдня к нам пригнал?
Кто с древним Каспием Бельт юный сочетал?
Державный дух Петра и ум Екатерины
Труд медленных веков свершили в век единый.
……………………………………………………
Железо, покорясь влиянию огня,
Здесь легкостью дивит в прозрачности ограды,
За коей прячется и смотрит сад прохлады,
Полтавская рука сей разводила сад.
Но что в тени его мой привлекает взгляд?
Вот скромный дом, ковчег воспоминаний славных!
Свидетель он надежд и замыслов державных.
Здесь мыслил Петр об нас.
Россия, здесь твой храм![162]162
Другой домик Петра Великого на Петербургской стороне населением был превращен в храм, где поклоняются иконе «Спаса», принадлежавшей Петру Великому. Так на почве христианской культуры проявилось почитание дома основателя города. (Примеч. авт.)
[Закрыть][163]163
Из стих. П. А. Вяземского «Петербург (Отрывок)» (1818). (комм. сост.)
[Закрыть]
Кн. Вяземский, воспевая дело Петра, в синтетическом очерке Петербурга приводит ряд конкретных образов: решетка Летнего сада, Летний дворец. В этом отношении сделан шаг вперед в сравнении с Державиным (его общее описание Петербурга).
Соединительным звеном между Северной Пальмирой Державина и пушкинским городом Медного Всадника является Петербург Батюшкова. У первого – человек и природа в содружестве созидают стольный город, у Пушкина, который знал «упоение боя» и «края бездны»,[164]164
Строки из трагедии Пушкина «Пир во время чумы» (1830): «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю». (комм. сост.)
[Закрыть] гармония нарушена: грозно восстают безликие стихии против державного города, страшна их лютость, но конечное торжество и победа остаются за созданием чудотворного строителя.
Батюшков уже уловил мотив борьбы человеческого творчества с косными стихиями, но ему осталась еще неведома трагическая сила и глубина этой борьбы.
«Сидя у окна с Винкельманом в руке», герой Батюшкова любовался «великолепной набережной» Невы, «первой реки в мире», «на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком».[165]165
«Прогулка в Академию художеств». (Примеч. авт.)
[Закрыть]
Поэт, наблюдая «чудесное смешение всех наций» столицы великой империи, стал представлять, что было на этом месте до построения Петербурга.
«Может быть, сосновая роща, сырой дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу лачуга рыбака… Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной, а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих: souvent un faible gland recèle un chêne immense![166]166
Часто малый желудь таит в себе огромный дуб (фр.). (Примеч. авт.)
[Закрыть] И воображение мое представило мне Петра, который первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные…»
«…Великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства, гражданские установления победят саму природу. Сказал – и Петербург возник из дикого болота».
Таков первый образ, который дает нам Батюшков.