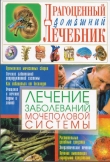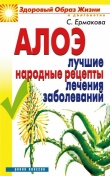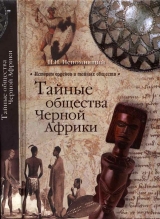
Текст книги "Тайные общества Черной Африки"
Автор книги: Николай Непомнящий
Жанры:
Эзотерика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Рядом с животными
К началу XIX века древняя самобытная религия бушменов деформировалась, смысл и значение немногих бытующих еще обрядов были забыты самим народом. Только сопоставление этих обрядов с наскальной живописью и мифологией дает возможность составить представление о религии бушменов в прошлом.
В многочисленных памятниках бушменской наскальной росписи запечатлены приемы охотничьего колдовства. Изображены животные в движении, окруженные множеством мелких черточек или опутанные тонкой нитью. По мнению французского исследователя Виктора Элленбергера, тщательно изучавшего наскальную живопись бушменов в Басутоленде и собиравшего сведения о ней у самих бушменов, эти черточки и нити должны были играть роль магических сетей и задерживать дичь, подставляя ее под удары охотников.
В религии бушменов четко выступают черты тотемизма. Видимо, к этому кругу представлений относятся имеющиеся в наскальной живописи изображения пляшущих человеческих фигур с головами животных. Они отличаются от известных сцен охотничьей маскировки: стадо страусов и подкрадывающийся к ним охотник, держащий в одной руке палку, увенчанную головой страуса, а в другой – лук и стрелы; охотник, покрытый шкурой антилопы, и т.п. Но наряду с этими явными изображениями охоты имеются и другие сцены, в которых человеческие фигуры с зооморфными головами запечатлены в пляске, без всякого оружия и вне соседства с животными. Очевидно, это ряженые лицедеи, представляющие сверхъестественных предков, полулюдей-полуживотных. Подобный обряд ныне утерял свой ритуальный характер и трансформировался в игру.
Присутствуют и другие образы и обряды, весьма близкие к тотемическим. В наскальной живописи имеются изображения фантастических животных, напоминающих быка. По сообщению этнографа Д. Блик, старые бушмены объясняли это изображение как воспроизведение фантастического дождевого быка. В мифе также выступает дождь в образе быка; он похитил самку-газель, а затем был застрелен одним из мифических первых людей. У современных бушменов сохранилось представление о дожде как о некоем сверхъестественном существе, имеющем облик быка, живущем в яме, где накапливается дождевая вода. Когда это существо выходит из ямы, начинается дождь. Один из основных обрядов вызывания дождя состоит в том, что колдун якобы вытаскивает этого «быка» на поверхность земли и старается протащить его по возможно большему пространству, что должно повлечь за собой орошение этого пространства дождем. Змеи и лягушки, обитающие вблизи ям, где скопляется дождевая вода, также считаются принадлежащими дождю, их нельзя убивать.
Пережитки тотемических обрядов можно видеть в играх бушменов: девушки изображают черепах, передвигаясь на четвереньках, с прижатыми к корпусу вывороченными руками и ногами. Одна из них представляет самку. Вторая, изображающая самца, принюхивается к се следу, догоняет ее и взбирается на спину первой; они изображают спаривание черепах. Другая игра состоит в том, что девушки представляют совокупление антилоп.
С тотемизмом связана и центральная фигура религии бушменов – Ц’агн, воплощением которого считался кузнечик-богомол (Mantis rcligiosa). Авторы XVIII века называли это насекомое «готтентотским богом». Однако оно занимает гораздо более видное место именно в религии бушменов, и, очевидно, от последних этот образ был заимствован готтентотами.
Вокруг кузнечика-Ц’агна группируется цикл мифов, в которых наряду с ним выступает его жена – крольчиха, его сестра – голубая цапля и члены его семьи – молодой кузнечик, дикобраз, а также звезда, радуга. И животные и небесные светила были первыми людьми. Ц’агну приписывается превращение этих людей-животных в настоящих людей, в бушменов.
У некоторых бушменских племен Ц’агау приписывалась сила управления дождем, и он был объектом культа. Во время засухи все взрослые члены общины, мужчины и женщины, пели и плясали всю ночь. Плясали до полного изнеможения, так что некоторые падали навзничь на землю, и у них из носа начинала идти кровь. Упавших помещали в центр хоровода, вокруг них возобновлялась пляска, они считались особенно близко связанными с Ц’агном. К нему взывали: «О, Ц’агн! О, Ц’агн! Разве мы не твои дети, разве ты не видишь нашего голода? Дай нам пищи!». С подобными заклинаниями-молитвами обращались и к луне, и к звезде Канопус, появляющейся в стране бушменов перед началом дождливого сезона. Луну представляли в образе старика, а солнце – в облике молодой женщины, его жены.
Кроме Ц’агна и группирующихся вокруг него мифических персонажей, в представлениях бушменов фигурировали другие образы. В верованиях племен нарон и ауэн выступало сверхъестественное существо Хише, живущее на востоке, которое появлялось во время инициаций мальчиков. Считали также, что от Хише зависит размножение дичи; в нем видели покровителя охоты.
У племени куш фигурировал образ под именем Кхува. К Кхуве обращались с просьбами даровать пищу; особенно торжественно справлялся годичный обряд в период созревания съедобных клубней. Кхуву представляли человеком, живущим на небе в двухэтажной хижине; наверху помещается он с семьей, внизу души умерших. Он питается кузнечиками, мухами, бабочками. Кхуву называли «капитаном людей, живущих на севере», или «капитаном белых людей». У западной части племени кунг сходный образ носил имя Эроб. В восточной части Калахари бушмены, наряду с Кхуве, почитали персонаж по имени Тора.
Ближе других к небу
Эти отрывочные сообщения о Хише, Хуве, Торе и Эробе дали повод представителям школы прамонотеизма утверждать, будто у бушменов существовала вера в «высшее существо», которое-де почиталось как единый бог-отец. Исследователь В. Шмидт представил религию бушменов как один из основных примеров «исконного единобожия».
Однако Д. Блик установила, что у племен нарон и ауэн самое имя и предания о Кхуве старым бушменам вовсе не были известны; только молодые говорили о нем, как о человеке, живущем на небе. Красноречивы были рассказы о Кхуве тех бушменов, которые побывали в плену у готтентотов. Остальные, как сообщает Д. Блик, с трудом подбирали слова для разговора на эту тему. Исходя из этого, а также учитывая характеристику образа как «капитана белых людей», можно сделать вывод, что на этот образ оказали влияние представления, заимствованные у готтентотов, а через них – у белых миссионеров.
Особенно любопытно сообщение о «высшем существе» Эробе. Дело в том, что это имя – не что иное, как видоизмененное «Элоб», искаженное библейское Элогим (одно из наименований иудейского бога), искусственно введенное миссионерами в среду готтентотов, откуда оно проникло к западным бушменским племенам кунг и хейкум. Этнограф И. Шапера, высказавший эту мысль, ссылается на исследования крупнейшего лингвиста-африканиста К. Мейнхофа: в языке готтентотского племени нама, с которым общались бушмены кунг и на языке которых они говорили, звук «л» вообще отсутствует, за исключением слов, заимствованных у европейцев, так что замена «л» через «р» вполне правомерна с точки зрения фонетики нама.
Очевидно, и Ц’агн, и Хишс, и Хува, и Тора – образы одного и того же порядка. Это дальнейшее развитие представлений о мифических предках-тотемах; они становятся олицетворениями сил природы. С ними связываются и оплодотворяющий дождь, и изобилие дичи, и удача на охоте; они покровительствуют юношам во время инициаций. В связанном с ними ритуале преобладали магические черты. Это не боги, а духи.
Наряду с Ц’агном, Хише, Хуве, Торой у бушменов существует представление о сонме духов, выступающем под общим наименованием Гауа. Первое значение слова «гaya» – «существо, которое умерло». Большей частью это слово относится к умершим людям, но оно употребляется и в более широком смысле. Так, когда завывает сильный ветер и гремит гром или молния убивает человека, также приписывают это силе Гауа. Видимо, Гауа – это представление о сверхъестественном начале, связывающемся как со смертью человека, так и с проявлениями природной стихии. И души умерших, и духи природы могут быть злокозненны, но разделения их на злых и добрых у бушменов не было.
По одним сообщениям, бушмены верили, что после захоронения трупа плоть снова оживает, из нее возникает Гауа умершего – точное подобие живого, его двойник, который выходит из могилы, охотится, ест и пьет, а когда устает, то ложится отдыхать в могилу. По другим представлениям, душа умершего поднимается на небо, а дух остается на земле. Второе представление – более позднее, отразившее влияние христианства.
Погребальные обряды ограничивались зарыванием трупа лицом на восток. Рядом с могилой вешали на куст лук и колчан умершего. После погребения группа снималась с места и долгое время в своих перекочевках избегала места погребения.
Специалисты в области культа у бушменов – колдуны, знахари – изготовляли разнообразные зелья для отравы врагов и снадобья для защиты от гибели, грозящей со стороны враждебных колдунов. Особый интерес представляет орудие вредоносной магии в виде миниатюрного костяного лука, из которого стреляли терновыми шипами, что должно было повлечь гибель врага. При лечении кроме снадобий применялись разнообразные приемы массажа, а также высасывание: последнее заканчивалось «извлечением болезни» в виде камешка.
Колдуны отличались по внешнему виду: они брили голову, носили амулеты, которых не имели права носить остальные.
Они выполняли по желанию магические обряды в «интересах» как общины, так и отдельных людей. Во время инициаций и при вызывании дождя колдуны совершали публичный ритуал и играли в это время очень важную роль в общественной жизни. Однако бушменские колдуны добывали себе средства к существованию собирательством и охотой наравне со всеми и не выделялись из общины.
Великий дух Гауа
В настоящее время религия бушменов подверглась сильному влиянию христианства даже у тех племен, которые живут кочующими общинами в Калахари. Так, И. Бьерре сообщает, что бушмены кунг верят в «великого духа Гауа, с которым знахарь-колдун вступает в общение во время транса... В начале мира Гауа создал одного мужчину и одну женщину – это были первые бушмены и вообще первые люди на земле. Гауа дал этим людям душу, затем сделал тело ребенка и тоже вложил в него душу. И так он поступает с каждым рождающимся ребенком. Гауа может и взять душу обратно, тогда человек умирает и душа возвращается на небо... Гауа управляет всем миром, это он посылает дождь». Наряду с этим, явно заимствованным из Библии, рассказом сообщается, что «первые бушмены могли превращаться в животных», – это все, что осталось от древнего тотемического мифа. Ценны сообщения Бьерре о ритуальных обрядах, о том, что сохранились пляски в лунные ночи с обращенными к ночному светилу заклинаниями-просьбами о даровании дождя. Во время пляски колдун впадает в транс, делается как бы бездыханным, и только посредством массажа и встряхиваний его приводят в нормальное состояние. Особенно интересен рассказ колдуна о его пребывании во время транса на небе, у «великого духа», с целью выпросить дождь. И экстатический ритуал, и фантазия о путешествии на небо чрезвычайно близки к камланию сибирских шаманов и свидетельствуют о развитии анимистических представлений и обрядов.
Из книги Б. Решевской «Старые и новые религии Тропической и Южной Африки»: когда материализуются души
Родовой строй бушменов, не достигнув значительного развития, начал разрушаться вследствие вторжения колонизаторов. Существовавший у бушменов ранее тотемизм деформировался, остались лишь его пережитки. Исчезла основная черта этой религиозной формы – связь общественной группы, рода с породой животных или группой природных предметов. Однако сверхъестественные образы бушменской религии в своем развитии ушли недалеко от тотемических образов – мифических предков полулюдей-полуживотных или небесных светил и природных явлений.
Представления бушменов о сверхъестественных существах имеют чувственный характер, духи и души наделяются в воображении верующих материальной формой. Здесь еще нет разграничения между душами и духами. Вследствие отсутствия в обществе бушменов социального расслоения сверхъестественные образы олицетворяют лишь силы природы; между ними нет какой-либо иерархии, т.е. разделения на высших и низших. Культ носит магический характер. Слабые зачатки умилостивительного обращения к сверхъестественным силам, наделение последних антропоморфными и социальными атрибутами – все это результат деятельности миссионеров, сначала внедрявших эти представления, а затем описавших их как самобытно-бушменские. Отсутствует выделение колдунов в особую социальную группу. Бушменский колдун или знахарь слывет более «знающим» или более «могущим» по сравнению с рядовыми членами общины, но никаких особых прав и привилегий не имеет.
Из книги Йенса Бьерре «Затерянный мир Калахари»: засекреченное общество горных дамара
Дамара – это племя, которые еще называют бергдама, населявшее окрестности горы Брандберг в Юго-Западной Африке, – одна из многих неразгаданных тайн Намибии.
Кто они? Остатки жившего здесь в давние времена народа или рабы, привезенные с севера Африки? Мы как-то поехали в резервацию бергдама, километрах в тридцати к северу от Брандберга, набрать воды в колодце. Резервация находится у реки Уга, в которой с прошлого дождливого сезона еще осталось немного стоячей воды. В резервации в жалких хижинах из травы посреди пыльной равнины живет человек тридцать. Бергдама держат несколько коз и засевают кукурузой небольшие участки на берегах реки. Мы видели этих довольно апатичных людей. Они сидели в тени возле хижин, дополняя картину всеобщего упадка. Дети бегали голышом, на взрослых были лохмотья.
Бергдама называют себя «черными людьми». Цвет их кожи и в самом деле темнее, чем у остальных африканских племен. Бергдама испытывают почти религиозный страх перед водой, а у некоторых из групп вообще запрещается мыться, поскольку вода якобы опасна и приносит несчастье.
Даже члены одной и той уже группы бергдама очень отличаются друг от друга: одни высоки и худы, другие низкорослы и полны, у каждого свой, не похожий на другие овал лица. Поэтому их едва ли можно назвать чистой расой. Если говорить о какой-то общей для большинства бергдама отличительной особенности, то это, пожалуй, крупные черты лица и низкий лоб.
Откуда происходят бергдама, неизвестно. Они забыли свой родной язык и разговаривают на одном из диалектов языка готтентотов, очевидно, навязанном им, поскольку они долгое время были рабами готтентотов и работали на них. Правда, у бергдама есть «заимствованные» слова, схожие со словами языка суданских негров. Поскольку последние также обладают очень темной кожей, было высказано предположение, что готтентоты привезли с собой бергдама в Юго-Западную Африку с севера и что за сотни лет они смешались со многими другими африканскими расами. По другой версии, бергдама – это потомки южноафриканского народа, веками бывшего в порабощении у готтентотов и гереро. Те бергдама, которые не хотели терять независимость, были вынуждены жить как бушмены, и поселялись в самых отдаленных районах, в горах, где существовали за счет охоты и собирательства.
Сто лет назад благодаря усилиям миссионеров бергдама было отведено несколько резерваций, в которых они могли жить спокойно. Резервации скоро стали слишком тесными, бергдама расселились по всей Юго-Западной Африке, став пастухами и батраками. Они зарекомендовали себя хорошими и надежными работниками, по все же долгие годы рабства не прошли бесследно. Те немногие бергдама, которые остались в резервациях и в горах, живут в примитивных хижинах из сучьев и травы. Редко в одном месте скапливается больше десятка таких хижин, напоминающих издали растрепанные копны сена. Бергдама готовят пищу на кострах у хижин. Часто в селении бывает еще общий костер, где постоянно поддерживается священный огонь. Возле этого костра разрешается сидеть только взрослым мужчинам.
В мире верований бергдама священный огонь играет большую роль. Если он осквернен присутствием женщин или детей, то племя постигнет несчастье. Новый священный огонь должны зажигать старейшины племени, выполняя при этом необходимые обряды, которые обеспечивают удачу на охоте.
У бергдама нет вождей, нет сколь-нибудь соблюдаемых законов племени, может быть, потому, что они никогда не пользовались свободой достаточно долго, чтобы создать свою социальную систему. Суровость условий их жизни не оставляла им времени на размышления о правах человека или моральной справедливости. Однако у тех бергдама, которые живут в самых отдаленных уголках, сохранилось поклонение Камабе.
Это бог, от которого зависит вся жизнь бергдама, так как он распоряжается солнцем и дождем. От Камабы зависит, будет охота удачной или нет. Камаб – хозяин жизни и смерти. Лекаря племени приглашают к заболевшему бергдама как человека, который представляет бога Камаба. Если лекарь решает, что Камаб хочет взять жизнь больного, то беднягу оставляют на произвол судьбы, не оказывая ему никакой помощи. Та же участь ждет стариков и слабых, которые не в состоянии добывать себе пищу. Все они принадлежат Камабе. Мертвых хоронят как можно скорее, потому что, как и многие другие народы, стоящие на низкой ступени развития, бергдама боятся мести мертвецов. Они даже гроб всегда заваливают тяжелыми камнями. Правда, умершие могут получить место у вечного священного огня Камабы на небе, где они, вообще говоря, будут жить почти так же, как на земле. Но живые боятся, что мертвецы наверху соскучатся по своим родственникам и напустят на них болезнь, чтобы они умерли и тоже оказались в небесной обители.
Эту опасность стремится отвести лекарь, и он каждый раз решает, заболел ли человек по воле Камабы или по желанию своих умерших родственников. Человеческое мясо – любимая пища богов, поэтому Камаба призывает людей в страну умерших, а в древних могилах лежат одни скелеты: кости обглодали обитатели небес.
Бергдама одеваются в шкуры. Мужчины иногда носят в ушах стальные или медные серьги, свое единственное украшение, а женщины увешаны самыми разнообразными «драгоценностями»; наибольшей популярностью у них пользуются ожерелья из скорлупы страусовых яиц, но многие носят кожаные браслеты – признак достатка. После каждой особенно удачной охоты муж дарит жене браслет из кожи убитого животного.
При встрече с бергдама в первую очередь бросается в глаза ослепительная белизна их зубов. Это одно из немногих местных племён, которые очень внимательно следят за зубами. Для того чтобы зубы были белые, бергдама постоянно жуют небольшие комочки кожи. У них есть даже зубные щетки, вырезанные из дерева. Но бергдама едят грубую пищу, и зубы у них быстро изнашиваются. Сточившиеся зубы у стариков иногда вырывают очень жестоким способом. «Зубной врач» садится перед пациентом с заостренной палочкой в одной руке и с камнем в другой. Он вдавливает палочку в десну под зуб, сильно ударяет по ней камнем – и зуб выбит.
Похожие на татуировку шрамы на телах бергдама – следы «медицинской помощи», оказываемой лекарями, – это вторая черта внешности бергдама, которая бросается в глаза. Когда к заболевшему приглашают врачевателя, в его честь готовят щедрое угощение. В первую очередь лекарю предстоит решить, не Камаб ли наслал болезнь. Угощение как раз и рассчитано на то, чтобы задобрить «медика». Но если, несмотря на угощение, он все-таки приходит к выводу, что болезнь послана богом, все покидают больного, и он умирает в одиночестве.
Глава миссии в Окахандже доктор X. Вебер, рассказавший мне об этом, говорил, что он сам был свидетелем таких трагедий. Бергдама настолько привыкли к этой традиции, что воспринимают ее как нечто само собой разумеющееся и, когда, состарившись, уже не могут заботиться о себе, покоряются уготованной им участи.
Если же лекарь сочтет, что виновники болезни – умершие родственники пациента, начинается лечение. Массируя тело больного, лекарь сгоняет болезнь в какую-либо часть организма, а потом выжигает ее раскаленной головней. Так на теле бергдама появляются шрамы. Иногда лекарь высасывает и выплевывает заразу в скорлупу страусового яйца на тлеющие угли. Болезнь гибнет. Такой обряд встречается у многих первобытных племен.
Бергдама, как и бушмены, быстро приспосабливаются к природным условиям: если нельзя добыть мяса, они питаются корнями растений, ягодами, жареными насекомыми, медом диких пчел. В дождливый сезон, когда охотиться невозможно, они едят термитов, которых в это время очень много. Бергдама разводят огонь, и когда на него слетаются термиты, их ловят и складывают в кожаные мешочки. Потом из сухих термитов варят суп. По ночам бергдама без большого труда ловят кузнечиков, малоподвижных из-за холода. Поджаренные кузнечики очень питательны и вкусны.
Большая роль магии в бергдамских обрядах наряду с имеющимся австралоидным типом лица и оставшимися от каменного века образом жизни и методами охоты заставляют ученых полагать, что бергдама – древний, самобытный народ. Бергдамские юноши и девушки проходят через церемонию посвящения. Для девушек этот обряд начинается с развитием грудных желез. Им запрещают есть пищу, которую едят замужние женщины. Чтобы создать у девушек «иммунитет», им делают своего рода «прививку»: кусочки запретной пищи растираются в порошок, которым заполняются надрезы под грудями. Девушка может есть запрещенную пищу только после того, как заживут ранки. Первая менструация служит поводом для праздничного пира, для которого закалывают козу. Девушку обвешивают украшениями, и старшие женщины учат ее обязанностям жены и матери. Ей советуют избегать родственников мужского пола и проводить время только в обществе взрослых женщин племени, так как теперь она считается созревшей для брака.
Посвящение юношей производится в три этапа с годовыми перерывами между ними. Как только набирается достаточно большая группа подростков, они вместе отправляются на охоту. Тем временем в селении режут и потрошат козу Ее вычищенные кишки и мочевой пузырь надувают, а потом разрезают на кусочки, которые по возвращении юношей вкладывают им в волосы. Молодые охотники не едят ничего. Все добытое ими в первый день съедают взрослые. На второй день они снова охотятся, но на этот раз им разрешают есть вместе со всеми. Лишь после двойного повторения этого обряда юноши считаются взрослыми и могут сидеть с мужчинами вокруг священного огня.
Свадебных церемоний у бергдама нет, по при рождении ребенка выполняются некоторые ритуалы. Как правило, ребенок получает имя в тот момент, когда рассекается пуповина. Отец поджаривает кусок мяса, а стекающий с него жир втирает в свое тело. Затем чешуйки жирной грязи аккуратно собираются в небольшой кожанный мешочек, который в дальнейшем служит ребенку амулетом. Прикрепляя этот кожаный мешочек к шее ребенка, отец плюет ему на грудь, растирает плевок и несколько раз повторяет его имя. Рождение двойни нежелательно, считается противоестественным, и одного близнеца, как и у бушменов, хоронят заживо.
Большинство бергдама поглощает цивилизация или ассимилируют другие народы. Недалеко время, когда этому пароду придет конец, потому что для бергдамской женщины считается особой честью родить ребенка от мужчины другого народа. Этот загадочный народ, появившийся из неведомой страны, местонахождение которой неизвестно до сих пор, скоро исчезнет, не оставив после себя никаких следов.