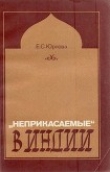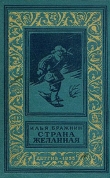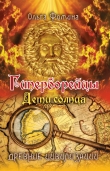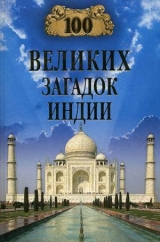
Текст книги "100 великих загадок Индии"
Автор книги: Николай Непомнящий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Жители долины Инда были знакомы с водочерпательным колесом. Современная археология не располагает прямыми данными о наличии ирригационных сооружений в тот отдаленный период, однако можно предполагать их существование.
Из домашних животных разводили овец, коз, коров, а также кур. Население Хараппы знало собаку, домашнюю кошку, осла. Некоторые исследователи полагают, что жителям индских поселений была известна и лошадь, но имеющиеся данные еще требуют дальнейших подтверждений. Находки костей животных – слона, верблюда, льва – свидетельствуют о фауне той эпохи. Многие изображения домашних и диких животных мы находим на индских печатях.
Хараппская культура была культурой бронзы. В этот период бронза наряду с медью играла важную роль в хозяйстве и ремеслах. Из этих металлов изготовлялись многие орудия производства и оружие. Жителям хараппских поселений хорошо были известны плавка, ковка и литье металлов. При раскопках было найдено много ножей, топоров, зеркал, бритв, из оружия – кинжалов, мечей, наконечников стрел и копий, булав. Из металлов делались и предметы искусства.
Анализ процентного содержания металла свидетельствует об употреблении населением особого сплава меди и мышьяка, причем процент последнего был довольно высоким – до 4,5. Высоким было и содержание олова: в некоторых предметах до 26 %. Железо еще не было известно; его следы не обнаружены даже в самых верхних слоях хараппской культуры. Употреблялись также золото, серебро, свинец. Из золота делали различные украшения, а из серебра также сосуды. Эти металлы могли добывать на севере Индии, но возможно, что их доставляли из некоторых западных районов – Афганистана, Белуджистана, а также с юга Индии. Кроме металлов, в хозяйстве продолжал употребляться и камень.
Крупные города были центрами ремесленного производства, многие отрасли которого достигли в то время значительного развития. Находки пряслиц почти в каждом доме, а в некоторых и кусочков хлопчатобумажной ткани указывают на широкое развитие прядения и ткачества.
Замечательным мастерством славились ювелиры, горшечники, резчики по кости и металлу, судостроители и т. д. Высокой техникой изготовления и росписи отличается керамика местных горшечников. Сосуды делали на гончарном круге и подвергали обжигу. Обнаружены крупные печи для обжига сосудов. Керамику грунтовали обычно красной охрой, затем лощили и перед обжигом расписывали черной краской.
Памятников изобразительного искусства сохранилось немного. Это прежде всего скульптурные изображения: например, прекрасно выполненный женский торс, сделанный из песчаника, мужская голова, которую иногда условно называют скульптурой жреца. До нас не дошли стенные росписи в зданиях, хотя они, безусловно, существовали, о чем свидетельствуют их следы.
Большим спросом у жителей хараппских поселений пользовались различные украшения, бусы, ожерелья, кольца, браслеты. Они делались из металла (золота, серебра), кости и камня. Широкое распространение имели изделия из фаянса: украшения, браслеты и даже небольшие сосуды. Хараппские ремесленники пользовались также раковинами, различными полудрагоценными камнями (агат, яшма), которые добывались, очевидно, в Гуджарате.
Высокого развития в городах достигла внутренняя и внешняя торговля. О широком размахе торговых операций говорят находки весов и большого числа гирь разнообразной величины. Торговля велась как сухопутным путем, так и по рекам и морю.
B течение длительного времени среди ученых была распространена точка зрения о большой пестроте антропологического состава населения Индской цивилизации.
В настоящее время наиболее правильным следует признать мнение о преобладании европеоидных черт в расовых типах древнего населения долины Инда и его принадлежности к европеоидной расе, ныне широко распространенной в Северной Индии. Вместе с тем такое заключение еще не свидетельствует в пользу тех авторов, которые считают хараппскую культуру созданием племен – носителей индоевропейского языка (арьев). Европеоиды проникли в Северную Индию задолго до сложения индоевропейской общности, возможно еще в верхнем палеолите или мезолите.
Одной из характерных черт Индской цивилизации и показателем ее высокого культурного развития является существование письменности, к сожалению, до сих пор еще не расшифрованной. Найдено более тысячи печатей с надписями, включающими почти 400 различных знаков. Надписи наносились не только на особые печати (чаще всего четырехугольные), но и на керамику, медные пластинки и т. д. Многие из печатей просверлены, что позволяет рассматривать их либо как амулеты, либо как своего рода расписки и метки, которые могли прикрепляться к товарам. Все это говорит о широком развитии грамотности в эпоху Индской цивилизации.
Жители Хараппы писали горизонтальными строками. Надписи имеют преимущественно рисуночный характер, однако изучение письма позволило ученым прийти к выводу, что наряду с идеограммами оно имеет и ряд фонетических знаков. Среди знаков привлекают внимание черточки, которые ученые справедливо считают цифрами. Надписи, как правило, коротки, в основном текст содержит от одного до восьми знаков.
Письменность Мохенджо-Даро издавна привлекала внимание ученых, пытавшихся дешифровать загадочные письмена. Появление первых публикаций печатей в 70-х гг. XIX в. вызвало серию попыток прочтения надписей. Были высказаны точки зрения о близости письма Мохенджо-Даро письменности острова Пасхи, хеттскому иероглифическому письму и т. д. Основная трудность в правильной дешифровке письменности Мохенджо-Даро состоит в том, что наука не дает пока окончательного ответа на вопрос о языке создателей Индской цивилизации. Не располагают ученые и двуязычными надписями – билингвами.
Некоторые современные индийские ученые склонны рассматривать язык надписей Мохенджо-Даро как архаический санскрит, что противоречит многим историческим и лингвистическим данным. К настоящему времени установлено влияние дравидийских языков на ведийский санскрит, хорошо прослеживаемое по материалам «Ригведы», причем для индоарийских языков Северо-Западной Индии дравидийский субстрат являлся, очевидно, единственным. Наличие такого влияния позволило ряду исследователей высказать предположение о принадлежности языка доарийского населения долины Инда к группе дравидийских языков.
Можно привести еще ряд аргументов в пользу высказанного предположения о дравидоязычности древнего населения долины Инда. Прежде всего это существование явных связей между дравидийскими языками и языками Передней Азии, в частности эламским. Показательно, что дравидоязычное население и много позднее, почти до настоящего времени, было распространено далеко к западу от границ Индской цивилизации. В районе Калата (Белуджистан) сохранилась группа племен, говорящих на одном из дравидийских языков – брагуи, который развивался самостоятельно, без явного влияния дравидийских языков юга Индии.
Интересный вывод о близости языка протоиндийских надписей к дравидийским языкам был в свое время сделан советскими учеными, проведшими анализ текстов при помощи вычислительной техники. По мнению руководителя этих работ Ю.В. Кнорозова, «имеются все основания считать, что протоиндийский язык близок к дравидийским языкам по грамматической структуре».
Российские исследования показали также, что сближение протоиндийского языка с другими языковыми семьями Индостана и Передней Азии неправомерно.
О религиозных представлениях людей в эпоху Индской цивилизации можно судить только на основании отдельных памятников материальной культуры, так как специальных сооружений сакрального характера обнаружено не было. Правда, некоторые исследователи склонны считать храмом огромное здание, частично раскопанное в Мохенджо-Даро под буддийской ступой. К этому комплексу примыкает и бассейн, построенный из обожженного кирпича. Находки большого количества терракотовых статуэток женщин могут указывать на существование культа богини-матери, широко распространенного и у других народов древности. Это согласуется и с той большой ролью, которую играло земледелие в жизни хараппского общества. Жители индских поселений, вероятно, обожествляли животных. На печатях имеются изображения носорога, быка, слона, буйвола, крокодила, льва, тигра и других животных, что в определенной степени могло быть связано с тотемистическими представлениями населения. Интересно, что на печатях изображены также и мифические животные, полубоги-полулюди. Жители хараппских поселений поклонялись также огню и воде.
Особенно интересно изображение на печатях трехликого божества, сидящего в позе, в которой позднее изображали бога Шиву, окруженного животными. Дж. Маршалл идентифицирует его с Шивой в образе Пашупати, т. е. покровителя скота. Это может, по-видимому, указывать на определенную связь религиозных представлений жителей Хараппы с индуизмом. Изображение Шивы было обнаружено и на печатях, найденных после раскопок Дж. Маршалла. Он нарисован трехликим божеством с цветами, возвышающимися над головой. Вероятно, это отражает его власть над природой.
Любопытен так называемый протоиндийский вариант изображения Гильгамеша, встречающийся на печатях (герой держит не львов, как в месопотамском варианте, а тигров).
Весьма сложным остается вопрос о политической и социальной структуре общества Индской цивилизации. Некоторые исследователи считали, что политическая система на Инде являла собой миролюбивую демократию без каких-либо проявлений власти государства. Открытие в Хараппе, Мохенджо-Даро и в Калибангане городских цитаделей произвело переворот в представлениях о структуре хараппского общества; оно окончательно опровергло мнение о доклассовой структуре Индской цивилизации, бытовавшее до последнего времени во многих зарубежных работах.
В цитаделях, сделанных из обожженного кирпича и хорошо укрепленных оборонительными стенами с башнями, располагались, по-видимому, городские власти. Показательно, что цитадели находились на отдельном холме и как бы господствовали над городскими постройками.
По мнению ряда ученых, общество Хараппы было рабовладельческим, а политический строй индских городов был близок к политическому строю Шумера. В.В. Струве полагал, что государство в долине Инда могло принять форму деспотии, поскольку устои первобытно-общинного строя еще не были изжиты полностью. Д. Косамби склонен был сопоставлять общество Индской цивилизации с обществом Месопотамии и считал, что во главе управления стояли жрецы, а вся земля составляла собственность большого храма.
Однако эти точки зрения пока не могут быть подтверждены письменными свидетельствами и нуждаются в дальнейшем обосновании. С достаточной определенностью можно пока говорить только об имущественном и общественном неравенстве, но какой именно характер имело это неравенство, сказать в настоящее время не представляется возможным. О существовании имущественного и общественного неравенства свидетельствует общий облик городских построек и предметы ремесленного производства. Наряду, например, с небольшими строениями, принадлежавшими, очевидно, ремесленникам, были раскопаны просторные двухэтажные дома с большими внутренними дворами, специальными помещениями для омовений. Здесь, можно полагать, жили зажиточные слои хараппского населения.
Интересное здание было открыто в Мохенджо-Даро, которое, по мнению Э. Маккея, могло быть дворцом. В нем наряду с большими залами имелось несколько караульных помещений, административные комнаты и продовольственные склады. Есть некоторые основания полагать, что в городах находились и рабы, обслуживавшие зажиточных горожан. Они жили либо в домах своих хозяев, либо ютились в хижинах. Вероятно, в городах были и государственные рабы, возводившие общественные постройки, но никаких прямых данных об этом не имеется. Некоторые ученые пытаются даже проследить четыре основные социальные прослойки: «владельцы больших домов», или олигархи, военные, торговцы и, наконец, ремесленники. Среди населения индских городов ученые склонны находить нарождающуюся форму кастовой системы.
Тщательная планировка городов, городское благоустройство также могут говорить о существовании сильной централизованной власти. В городах раскопаны общественные постройки – амбары для хранения продуктов, бассейны для омовения и т. д. Как отмечалось выше, в Мохенджо-Даро имелось огромное крытое помещение, которое являлось городским рынком. За всеми этими постройками должны были следить городские власти. В их функции входил надзор за канализацией и водоснабжением. Они же должны были принимать меры по борьбе с наводнениями.
Можно думать, что при столь сильной власти, осуществлявшей надзор над городом и жизнью населения, существовали и государственные хозяйства, где работали различные категории свободного и подневольного населения. В пользу такого предположения, очевидно, говорят раскопанные археологами огромные амбары для хранения зерна.
Индская цивилизация просуществовала несколько столетий. Затем наступил «закат» хараппской культуры. Новые археологические материалы позволяют восстановить в общих чертах последние этапы истории Индской цивилизации, отмеченные внутренним кризисом культуры и упадком ряда основных центров.
Процесс упадка не был одновременным, а продолжался в течение длительного времени, протекая по-разному в различных районах. В поздний период в главных городах – Хараппе и Мохенджо-Даро – нарушилась нормальная городская жизнь, ранее строго регламентировавшаяся. Ослабел и муниципальный надзор, который являлся характерной чертой города в период расцвета. Это ясно проявляется и в планировке города, и в городском строительстве.
В Мохенджо-Даро крохотные домишки выросли на развалинах пришедших в упадок общественных строений (например, амбара), вторглись на улицы, чего раньше не наблюдалось. Даже на главных улицах появились гончарные печи, а вдоль дорог ряды наспех построенных прилавков. Многие здания в главных центрах просто забрасывались, обширные строения перегораживались в мелкие помещения. Черты внутреннего упадка явно проступают и в Хараппе. В поздний период многие строения пришли в негодность и вскоре превратились в развалины. В городах нарушалась торговля, как внутренняя, так и внешняя (резко уменьшилось количество привозных вещей), упало ремесленное производство.
До недавнего времени упадок хараппской культуры большинство ученых объясняли внешними факторами: вторжением иноземных племен, отождествляемых, как правило, с ариями. Однако указанные черты упадка отчетливо проявляются до проникновения в индские города каких-либо значительных групп пришлых племен.
Вывод о внутреннем упадке хараппских городов до и независимо от непосредственного вторжения иноземных групп подтверждается новыми исследованиями позднехараппских и послехараппских поселений и городов Саураштры и Катхиаварского полуострова. На этих поселениях не прослеживаются черты каких-либо культур пришлых племен, но и здесь видны изменения, связанные с начавшимся внутренним кризисом хараппской культуры.
В Рангпуре, например, непосредственно над слоем с типично хараппской культурой залегал слой, отличавшийся особыми признаками. В керамике этого периода отмечаются черты упадка, сосуды обработаны грубее, хотя техника их изготовления еще непосредственно связана с Хараппой. Этот «переходный» период, как показали раскопки, был довольно продолжительным. Совершенно очевидно, что в данном районе упадок хараппской культуры не был связан с вторжением арьев, а вызывался внутренними причинами.
Исследователи предлагали различные объяснения упадка хараппской культуры. Большинство из них, как уже отмечалось, ссылались на внешние факторы – одновременное наступление арийских племен, некоторые видели причину в изменении русла рек и направлении муссонов, в засухе, наступившей в результате вырубки лесов, в засолении почв, в наступлении пустыни из Раджастхана, в наводнении. В связи с последним заключением любопытно следующее сообщение, переданное Страбоном (XV, 1.19): «Во всяком случае он (т. е. Аристобул) говорит, что посланный с каким-то поручением он видел страну с более чем тысячью городов вместе с селениями, покинутую жителями, потому что Инд, оставив свое прежнее русло и повернув налево в другое русло, гораздо более глубокое, стремительно течет, низвергаясь подобно катаракту».
Можно привести и ряд других объяснений внутреннего упадка центров на Инде и видоизменения хараппской культуры в провинциях. Не исключено, что в силу развития общества, значительного расширения территории, включавшей уже и многие соседние племена, которые стояли на более низкой ступени развития и социальной организации и отличались в этническом отношении, произошла определенная варваризация культуры, ее приспособление к потребностям нового периода.
Принятие вывода о внутренних причинах падения главных хараппских городов ни в коей мере не исключает, однако, и значительную роль внешнего фактора – вторжения иноземных племен, которые в ряде поселений завершили упадок хараппских городов.
Последний этап Мохенджо-Даро связан со странным на первый взгляд усилением контакта с культурами Южного Белуджистана и главным образом с Кулли, что выражается в появлении керамических изделий и каменных сосудов белуджистанских типов.
Совершенно иная послехараппская культура – культура Джхукар – засвидетельствована в Чанху-Даро, небольшом поселении к юго-востоку от Мохенджо-Даро. Первые три периода относятся к собственно хараппской культуре, затем появляется культура типа Джхукар, известная по находкам одноименного поселения в Синде. Раскопки Э. Маккея показали, что создатели культуры Джхукар оккупировали Чанху-Даро уже после того, как город был покинут населением хараппской культуры, должно быть, из-за наводнения. Таким образом, конец хараппской культуры в Чанху-Даро не наступает с приходом сюда иноземных племен – носителей культуры Джхукар.
Послехараппская культура Джхукар отмечена рядом особенностей, отличающих ее от хараппской, но сближающих с культурами Белуджистана и Ирана. В первую очередь это проявляется в керамическом производстве.
По мнению ряда ученых создателями послехараппской культуры Джхукар были арьи.
Вышеприведенное заключение подтверждает факт проникновения индоарийских племен в Индию, реальность которого теперь не вызывает никаких сомнений.
«Веды» и арктическая родина
Тот, кто имеет возможность познакомиться со значительной частью научных трудов по истории, увидит, что началом ее иногда считают III–II тысячелетия до н. э., связывая именно этот период с переходом человеческого общества к производящему хозяйству (речь идет о территории, получившей не столь давно название Евразии). Основным признаком или критерием производящего хозяйства признается наличие земледелия и скотоводства. От этого признака как основного большинство современных ученых отказалось или отказывается, изучая историю как единый поток развития человека, начиная с первого созданного им каменного орудия

Рукопись «Ригведы». XIX в.
И перед учеными стоит труднейшая задача выявления путей духовного развития человеческих коллективов, возникновения и развития их речи, складывания их взаимоотношений.
Мы пытаемся найти исходные земли и зоны расхождения древнейших предков двух групп этносов – арьев и славян, причем в тот период, когда они уже существовали как группы племен, каждая из которых была обобщена своим языком или близкородственными диалектами, своей бытовой культурой и верой.
Здесь следует пояснить и уточнить значение слова «арья (арий, ария)», которое стало часто неправомерно, а иногда и спекулятивно употребляться в нашей публицистике.
В науке и литературе утвердилось это название, но следует помнить, что оно условно и относится к группе племен, говоривших на близкородственных диалектах и создавших некогда сходные формы культуры. Перевод слова «арья» как «благородный» дошел до европейцев не из «Вед», а из более поздних источников, создававшихся главным образом жрецами арьев – брахманами. Современные индийские специалисты переводят и поясняют его по-другому, что точнее и научнее.
Это слово встречается в «Ведах» более 60 раз и означает, по мнению выдающихся древнеиндийских грамматистов, «хозяин», «скотовод-земледелец (вайшья)», «член кочующего племени» (последнее производят от глагольного корня «рь(ри)» – передвигаться, идти, кочевать). Словом «арья» в «Ригведе» определяются члены трех сословий – «варн»: брахманы, кшатрии (воины) и вайшьи, т. е. все члены племени. Вернемся снова к проблемам нашей общей древности.
Что касается славян, то многие видят территорию их сложения в областях, лежащих к северу от Карпатских гор. Но согласиться с тем, что описываемые ими земли, средней частью которых был бассейн р. Припять, являлись прародиной славян, мы не можем в силу вышеизложенной оценки поисков «родин» и «прародин». Да, в указанных областях жили славяне, что подтверждается многими исследованиями, но как они там очутились и откуда и когда пришли сюда их первые группы или даже, возможно, группы племен? Вот на этот вопрос, к сожалению, лишь небольшая часть историков пытается найти ответ. Наш крупнейший ученый, академик Б.А. Рыбаков, настоятельно призывает выявлять «тысячелетнюю архаику отдаленной первобытности» и, тщательно изучая пережитки древности, находить пути и возможности связать их с теми условиями, к которым восходят их корни. И не углубляться в поиски прародин народов, а уделять внимание следам их древнейших связей. Большинство ученых русской археолого-исторической школы и большинство лингвистов придерживаются такой же точки зрения. Поэтому попытаемся и мы здесь присоединиться к поискам следов, уводящих в глубь тысячелетий, и к попыткам объяснить некоторые явления, неотложно требующие внимания тех исследователей, которые посвятили себя самым разным отраслям науки – археологии, лингвистике, палеогеографии, палеоботанике, геофизике…
Откуда, куда и когда продвигались в древности группы предков славян и арьев? Где они скапливались и куда уходили те, кто переселялся? Какие следы их контактов остались в истории? В ряду многих попыток ответить на эти вопросы не последнее место занимает теория, известная под названием полярной, или арктической.
Посмотрим, как эта теория связана именно с этими народами.
Почему из всей обширной семьи индоевропейских народов мы останавливаемся здесь на славянах (и конкретно на русских) и арьях? Для пояснения этого мы выбираем два повода из ряда многих других: а) максимальная из числа всех индоевропейских языков взаимная близость русского языка с санскритом; б) сходство языческих культов славян с религией индуизма.
Как бы давно ни начали возникать эти схождения и взаимная близость, в них важно то, что они в известной своей мере дожили до наших дней, а в сравнительно недавнем прошлом, то есть в начале нашей эры и в эпоху Средневековья, проявлялись все еще заметно, что и нашло свое отражение в письменности и в литературе. Где и в каких условиях могли сложиться такие схождения и такая близость?
Наиболее убедительные ответы на ряд подобных вопросов дает полярная теория, которой нам и следует здесь уделить внимание. Зародилась она в умах исследователей прошлого века, когда они, один за другим, из числа тех, кто изучал санскрит – «язык индийской культуры», стали обращать внимание на содержащиеся в древнейших памятниках литературы Индии, таких, как «Веды» и эпос, описания природных явлений, совершенно не соответствующих действительности Индии или лежащих к западу от нее стран Азии. Проследить эти описания «вниз» по ступеням эпох было хоть и трудно, но возможно, так как в религиозных гимнах «Вед» веками свято сохранялся каждый звук, каждое слово без права внесения в них малейших изменений. Удалось установить место и время завершения главной из «Вед» – «Ригведы» (то есть «Ричведы», или «Рикведы», букв.: «знания речи» – слова-синонимы «риг-рик-рич» сохраняются и сейчас в старорусском в известной всем форме «реку, речешь» и других аналогичных образованиях). «Ригведа» была завершена в конце II тысячелетия до н. э. в области северо-запада Ддревней Индии. Тот факт, что до наших дней строго соблюдается запрет на внесение в нее изменений, как речевых, так и фонетических, заставляет думать, что этот запрет возник гораздо раньше, в доиндийский период жизни арьев, когда в среде жрецов сложилась эта традиция бережной передачи знаний из уст в уста, от учителя-проповедника к ученику, из поколения в поколение.
Из «Вед» многие описания перешли в связанные с ними памятники ведической литературы (а они в Индии насчитываются сотнями) и стали известны более широкому, чем жрецы, кругу лиц. В знаменитой эпической поэме «Махабхарата», начало сложения которой тоже теряется во тьме веков, содержится ряд описаний загадочных природных явлений, которые далеки от реалий Индии. Так в чем же дело? Эти описания отличаются заметным сходством с имеющимися и в древнейших по своему происхождению преданиях, сказаниях и поверьях всех славян. Б.А. Рыбаков в своей книге «Древняя Русь» пишет, что их истоки «нам по-настоящему неизвестны, так как фольклористы XIX–XX вв. уловили лишь схемы сказаний, получивших еще в Средневековье христианскую окраску».
В какой же глубокой древности могло возникнуть такое сходство? И где? Многие из описаний, содержащихся в древнеиндийской литературе, которые принято считать загадочными, совсем не кажутся таковыми славянам, даже живущим в наше время. Их предки в течение тысячелетий наблюдали на Крайнем Севере эти «загадочные» явления природы (как их могут наблюдать и живущие в тех краях наши современники), а поэтому не только русским, но и некоторым другим индоевропейским народам вполне знакомо то, что в Индии считается уже только мифами или поэтическими аллегориями.
Остановимся на этих моментах как основных в построении полярной теории, а затем перейдем к сопоставлению славян с арьями.
В полярной теории ряд загадок разрешается без особого труда, а на другие будут, видимо, найдены ответы исследователями в самом недалеком будущем.
Большинство источников видит «родину» или «прародину» арьев в лесостепной зоне Причерноморья. Это утверждение не расходится с той исторической истиной, что жившие здесь рядом с праславянами арьи, занимавшиеся главным образом скотоводством, стали волна за волной уходить в сторону Ирана и Индии в конце III – начале II тысячелетия до н. э. при наступлении затянувшегося периода засухи. Жили они здесь до своего постепенного ухода длительное время, но значит ли это, что земли «от Днепра до Урала» можно назвать их прародиной? Нет, не значит, тем более что и на Урале, и в Зауралье жили, как считают некоторые ученые, ираноязычные арьи, тогда как другие утверждают, что они были индоиранцами: «Около 2000 г. до н. э. обширные степные территории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии, населяли полукочевые варварские племена; это были высокие, довольно светлокожие люди… Они приручали лошадей и впрягали их в легкие повозки на колесах со спицами.
Колесницы превосходили быстроходностью влекомые ослами неуклюжие телеги с четырьмя сплошными колесами – лучшее средство передвижения, известное Шумеру той эпохи… В начале II тысячелетия… эти народы пришли в движение. Они мигрировали группами в западном, южном и восточном направлениях, покоряли местные народности и смешивались с ними, образуя правящую верхушку… Некоторые племена переместились на территорию Европы, и от них произошли греки, латиняне, кельты и тевтоны. Другие пришли в Анатолию и в результате их смешения с местными жителями возникла великая империя хеттов. Некоторые – предки современных балтийских и славянских народов – остались на своей прародине».
Не углубляясь здесь в проблему признаваемой в науке балтославянской общности, укажем лишь на мнение известного венгерского лингвиста Я. Харматты, выступившего с докладом на Международном симпозиуме «Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н. э.)», в котором содержалось утверждение, что «индо-иранские племена отделились от балтов и славян в начальный период развития земледелия в Европе, то есть примерно в первой половине V тысячелетия до н. э.». Эта дата указывает на признаваемый наукой факт наличия славян в V тысячелетии до н. э.
Б.А. Рыбаков, пытаясь определить место древнего расселения праславян, которое он именует прародиной, указывает, что «наименее определенной была северо-восточная окраина земли праславянских племен, где могли быть неясные для нас индоевропейские племена, не создавшие прочного, ощутимого для нас единства… Вытянутость праславянской области в широтном направлении на 1300 км (при меридиональной ширине 300–400 км) облегчала соприкосновение с разными группами соседних племен». Далее исследователь подчёркивает историческую важность такого фактора, как «двухтысячелетняя устойчивость основной области расселения праславян».
Здесь важно уделить внимание тем фактам исторической значимости, которые дают всем историкам ключ к утверждению наличия в указанной области праславян, начиная с расцвета эпохи бронзы, с первых веков II тысячелетия до н. э. Сюда, значит, и продвинулись к этому времени близкие предки славян и прочно заняли эти земли, поддерживая связи не только с западными, но и с «неясными» восточными соседями, в число которых входили и продвинувшиеся к югу племена арьев, о чем свидетельствует и такой фактор, как неоспоримая близость языков, и такой, как множество сохранившихся здесь (как на Русском Севере) топонимов и гидронимов арийского характера.
Как уже упоминалось, историки в поисках «прародины» не только арьев, но и других индоевропейских народов, включая и предков славян, обратили свои взоры на Заполярье. Заметное воздействие на подход к этой проблеме оказала дискуссионная книга американского историка Уоррена, выдержавшая десять изданий. Среди предков других народов начали в Арктике искать и предков арьев, или индоиранцев (названных так по «будущей их судьбе» – они стали, как нам известно, жителями Индии и Ирана). Внимание историков многих стран привлекла книга известного индийского ученого, знатока санскрита (как в ведийской, так и эпической и, самой поздней, классической его форме) Бала Гангадхара Тилака (1856–1920). Этот труд под названием «Арктическая родина в “Ведах”» был впервые издан в 1903 г., а затем неоднократно переиздавался на разных языках. Исследователями было выявлено сходство некоторых слов индоевропейских языков, а также ряд совпадений в их грамматическом строе, близость верований и обычаев этих народов. В поиске путей «прародины» и «праязыка» некоторые ученые пришли даже к заключению, что в древности была общая арийская раса. Возникла дискуссия о возможности существования такой расы, и проявилась тенденция причислять к ней лишь кельтов и германцев.