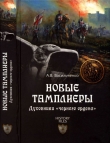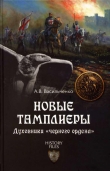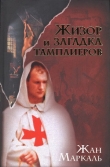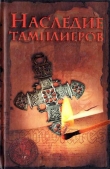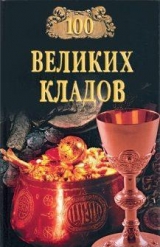
Текст книги "100 великих кладов"
Автор книги: Николай Непомнящий
Соавторы: Андрей Низовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
…Судя по сохранившимся греческим надписям, эти серебряные, покрытые позолотой сосуды относились ко временам одрисского царя Котиса I (383/5–359 гг. до н. э.). Уже потом, несколько лет спустя, кто-то из учёных предположил, что эти сосуды и Рогозенский клад представляют собой две части большого царского сокровища. По каким-то причинам его владелец (или владельцы) был вынужден укрыть своё достояние. Большую часть сокровища он закопал возле современного села Рогозен, но сохранил набор драгоценных ритонов – роскошных царских сосудов. Однако позже обстоятельства заставили его расстаться и с ними. Он закопал ритоны на Беленском холме, там, где много лет спустя выросло болгарское селение Борово. А в декабре 1974 года, при совершенно случайных обстоятельствах – тракторист пахал поле и наткнулся на скрытый в земле клад – эти драгоценные сосуды вновь увидели свет…
На место события приехали археологи. Они тщательно исследовали окрестности Борово, но больше ничего не нашли. Раскопки показали, что поблизости нет ни остатков древних построек, ни погребальных сооружений. Сокровище явно представляло собой клад, укрытый при чрезвычайных обстоятельствах.
Клад состоял из пяти предметов: трёх ритонов, кубка с двумя ручками и небольшого кувшина, изготовленных из серебра с позолотой. На двух ритонах и на кувшине были вырезаны надписи греческими буквами. По этим надписям учёным удалось установить, что сосуды изготовлены около 380–360 годов до н. э., в период расцвета фракийской художественной культуры, в городе Беос, находившемся в юго-восточной Фракии, на побережье Мраморного моря. Позже, когда в 1986 году в руки учёных попал знаменитый Рогозенский клад, стилистические особенности драгоценных изделий и их синхронность заставили специалистов задуматься: а не попала ли в их руки казна одрисских царей?
Центральное место в Боровском кладе занимают три ритона, завершающиеся протомами [2]2
Протома – передняя часть тела.
[Закрыть]коня, сфинкса и быка. Ритон традиционно занимал центральное место среди фракийских сосудов. Этот украшенный затейливым декором рог сочетал в себе функции культового сосуда и атрибута власти. По всей вероятности, ритон воплощал в себе жреческий аспект царской власти. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность, во времена, когда верховный жрец одновременно являлся и политическим руководителем народа. Во многих фракийских памятниках герой-царь получает ритон из рук Великой Богини-матери или демонстративно воздевает его в момент своего апофеоза. Эта функция ритона как культового сосуда и одновременно атрибута политической власти известна и среди других древних народов: хеттов, персов, скифов.
Среди сосудов Боровского клада выделяется серебряный позолоченный ритон с длинным, изгибающимся вверх почти под прямым углом туловом, покрытым вертикальными каннелюрами, и протомой галопирующего коня в основании. Устье ритона обрамлено рядом круглых и овальных зёрен (жемчужин и овули) и украшено тонко гравированным орнаментальным фризом. Возможно, существовал ещё какой-то пластический декор, но, будучи плохо прикреплённым, он отвалился. Полуфигура коня моделирована очень пластично, с не вполне правильным обозначением мускулов на груди и шее и тремя врезавшимися складками возле опущенной головы. Уши коня повёрнуты вперёд, глаза выпуклые, косо подстриженная грива завязана в высокий пучок между ушами и тремя долгими прядями ниспадает на спину. Интересно, что мускулы на ногах стилизованы как цветы лотоса – это типично иранский приём.
Этот сосуд воспроизводит один из наиболее характерных типов фракийских ритонов. Конь играл большую роль в религии и идеологии фракийцев. Легендарный царь фракийского народа эдонов Резос славился тем, что имел многочисленные табуны коней, другой мифологический царь фракийцев – Диомед – владел конями, которых кормил человеческим мясом; исторический царь Котис I подарил своему зятю два стада белых коней и т. п. Конь был посвящён двум главным божествам фракийцев – солнца и войны. Этим божествам по традиции приносили в жертву лошадей.
В состав клада из Борово входит и большой серебряный кубок, позолоченный по верхней грани и по основанию ручки. На дне кубка изображена покрытая позолотой сцена, в которой грифон нападает на лань. Особое место среди предметов Боровского клада занимает кувшинчик-ритон. Он выделяется как своей специфической формой, так и многофигурными сценами, изображёнными на стенках сосуда. Превращение кувшина в ритон отмечено учёными-историками только во Фракии, и это ещё раз подчёркивает особую роль ритона в религиозных верованиях и культовых обрядах фракийцев.
Своей остродонной формой кувшинчик приближается к амфоре. Отверстие на дне окружено лентой шнуровидного орнамента, а в поле между ним изображены три водяных птицы, ловящие рыбу. Шейка кувшина отделена от яйцевидного тулова лентой овулов, которыми украшен и край устья.
Изображения на стенках сосуда разделены на два фриза. Лёгкая позолота играет на одежде и в волосах представленных здесь божеств и героев. В нижней части фигуры крупнее, что говорит о том, что именно здесь следует искать основной смысл всей композиции. Тут изображён эпизод из мифов о Дионисе-Вакхе, а именно – его свадьба с Ариадной, дочерью критского царя Миноса. На торжестве присутствует силен, восседающий на львиной шкуре с ритоном и фиалом в руках. Другой силен играет на двойной флейте, под её звуки танцует крылатый Эрос, а третий силен наливает в фиал вино, которое он черпает остроконечным кувшинчиком из огромного кратера, наполняющегося из источника, оформленного в виде львиной маски. Бородатый Дионис изображён с ритоном и фиалом в руках. Критская принцесса облачена в длинный хитон, в руках держит ленту – вероятно, свой девичий пояс.
В верхнем фризе мастер представил сцену Дионисийских мистерий. Сатиры и силены экзальтированно танцуют, размахивая зелёными ветвями и тирсами [3]3
Тирс – палка, обвитая плющом или виноградом, с кедровой шишкой на конце.
[Закрыть]. Старый силен несёт мех с вином, впавшие в экстаз менады держат в руках ножи и расчленённых на части жертвенных животных. В этом возбуждённом шествии выделяется своим спокойным, лирическим настроением пара влюблённых. Трудно сказать, что это за юноша и девушка. Юноша несёт на плече тирс, что характеризует его как участника мистерий, хотя мы знаем, что Дионисийские мистерии были открыты только для женщин. Может быть, это сам Дионис, изображённый в момент, когда находит Ариадну на острове Наксос?
Возможно, кувшинчик-ритон из Боровского клада был предназначен для исполнения обрядов культа Диониса. Судя по надписи на шейке, он был изготовлен придворным мастером одрисского царя Котиса I и вместе с другими ритонами подарен некоему гетскому владетелю. Наши скудные знания о царской идеологии у древних фракийцев не позволяют до конца постичь весь смысл изображений на священных сосудах, понять их назначение и воссоздать обряды, для которых они предназначались, но, вглядываясь в эти шедевры древних мастеров, мы вполне способны постичь всю глубину и силу фракийского искусства.
Сокровище из ЛетницыМало кто из болгарских крестьян, отправляясь на работу, не даст полной гарантии, что не вернётся с поля или виноградника со связкой увесистых фракийских золотых сосудов или с пригоршней римских или византийских монет – ведь разговоры о найденных или ненайденных кладах велись и ведутся почти что в каждом болгарском селении. Вот и жители села Летница, начиная в 1963 году постройку новой кошары для овец, наверное, были готовы ко многому. Но разве не ёкнет сердце, когда именно твоя лопата неожиданно стукнет о край большого металлического предмета!
Этим предметом оказался бронзовый котёл, наполненный какими-то пластинками и монистами. Он лежал на глубине 0,5–0,6 м – на том самом месте, где селяне затеяли копать яму для столба. С усилием вытащив котёл из земли, счастливые находчики разделили между собой серебряную с позолотой мелочь и разнесли её по домам. Однако о находке клада стало известно сотрудникам музея в городе Ловеч. Приехавшие в Летницу учёные провели исследование места находки, подобрав здесь ещё несколько серебряных бляшек, а потом пошли по домам, убеждая крестьян сдать найденные предметы, которые могут представлять большую ценность для науки!
Так, хотя и не целиком, сокровище попало в руки учёных. Оказалось, что клад из Летницы содержал большое количество золотых и серебряных предметов конской сбруи – налобники, наузники, нашивные бляшки и т. д. В числе находок были и хорошо сохранившиеся железные удила. Практически все предметы богато украшены. Несколько бляшек даже образуют целый иллюстративный цикл, посвящённый подвигам некоего фракийского героя. Он изображён в виде всадника, бросающего копьё, сражающегося с дикими хищниками – медведями и волками… Часть изделий клада из Летницы, несомненно, является делом рук греческого мастера, в то время как другие изготовлены местными фракийскими мастерами. Специалисты датируют эти предметы IV веком до н. э. и считают их весьма ценной находкой, проливающей свет на мифологию фракийцев и их верования, что позволяет лучше понять культуру и мировоззрение этого древнего народа.
Предметы Клада из Летницы экспонируются в залах Национального Археологического музея в Софии.
Клад из могиланского курганаЭтот клад, в отличие от многих других, был найден не случайными людьми, а учёными. В 1965–1966 годах они вели охранные раскопки Могиланского кургана в городе Враца. Его полуразрушенная насыпь долгие годы возвышалась во дворе одного из домов, почти в центре старой части города. Наконец, её решили снести, но перед этим во Врацу приехали археологи. Под древней насыпью им удалось обнаружить целых три погребения, в каждом из которых были похоронены по два человека – мужчина и женщина (по-видимому, муж и жена). Первая гробница была полностью ограблена ещё в древности, зато две другие сохранились сравнительно хорошо. В одной из них – погребении номер 3 – среди разбросанных костей лежали два кувшина – золотой и серебряный – и несколько золотых украшений. Но наиболее богатым оказалось погребение номер 2, расположенное в южной части кургана. Здесь археологи нашли остатки колесницы, запряжённой двумя конями. Скелеты коней были буквально усыпаны серебряными бляшками и пластинками, украшавшими истлевшую кожаную сбрую. Возле останков похороненного здесь пожилого мужчины лежали два серебряных кувшина, четыре серебряных фиала, богато украшенный серебряный наколенник (кнемида) с позолотой, бронзовый шлем и четыре бронзовых сосуда; рядом с останками молодой женщины были найдены лавровый венок из чистого золота – он весил 205 г! – и многочисленные золотые предметы: массивные серьги, украшенные фигурками сфинксов и растительным орнаментом, пуговицы, булавка, ложечка, нашивные бляшки.
Богатые находки наводили учёных на мысль о том, что в этой гробнице могли быть похоронены знатные представители фракийского племени трибаллов, обитавших на землях нынешнего Врачанского края. Может быть, даже среди них была фракийская принцесса – именно её голову украшал золотой лавровый венок… Датой погребения считается IV век до н. э.
Один из найденных в Могиланском кургане серебряных сосудов-фиалов отличался особенно богатым декором. От днища к вершине радиусами расходятся полосы орнамента; к центру с внутренней стороны прикреплена круглая позолоченная серебряная пластинка, обрамлённая концентрическими рядами полосами круглых бусин. Эта широкая рамка окружает центральное круглое поле, в котором отчеканен образ Афродиты в профиль.
Другая находка в Могиланском кургане – золотой кувшин – принадлежит к числу шедевров фракийской торевтики. Создавший его мастер вложил в это выдающееся творение не только свои незаурядные способности, но и воплотил в нём религиозно-мифологические представления своего народа. Фриз из пальметок отделяет вытянутое горло кувшина от его округлой центральной части; ручки оформлены в виде «гераклова узла», а венчик и донце украшены насечкой. Две крылатые колесницы-квадриги симметрично расположены по обе стороны пальметты, их изображения повторены зеркально точно. Обращённые в профиль лица в колесницах возничих переданы с почти портретной точностью.
Трудно однозначно объяснить смысл этой сцены. Некоторые авторы считают, что здесь изображён бог Аполлон на своей крылатой колеснице. Другие убеждены, что в образе возницы изображён какой-то фракийский царь. Возможно, образы двух колесниц символизируют своеобразную двойственную природу солнечного божества: в религиозном сознании фракийцев оно одновременно представляло собой день и ночь, лето и зиму, свет и тьму. Таким образом получала своё образное выражение идея вечного круговорота, чередования противоположных начал в природе.
С другой стороны, колесница – хорошо известный в Древнем мире атрибут царской власти. Состязания колесниц нередко служили способом испытания достоинств будущего царя. Особенно красноречив в этом отношении известный греческий миф о Пелопсе, который выиграл состязание на колесницах с Эномаем, царём города Писы; позже он стал основателем знаменитой микенской династии Пелопидов. И в древней Фракии колесница, несомненно, служила символом царского достоинства – достаточно вспомнить восторженные эпитеты, с помощью которых Гомер и Еврипид описывают коней и колесницы легендарного царя Резоса, или обычай погребать царей вместе с их парадными колесницами, хорошо известный по раскопкам фракийских погребений.
Луковитский кладИз всех найденных сокровищ древней Фракии последним по хронологии является Луковитский клад серебряных изделий и украшений. Учёные датируют его второй половиной IV – началом III века до н. э. Подобно многим другим фракийским кладам, он был найден при абсолютно случайных обстоятельствах: в 1953 году крестьяне, пахавшие поле в урочище Балана, к востоку от городка Луковит (Северная Болгария), зацепили плугом и вывернули на поверхность большой глиняный горшок, в котором находилось 15 серебряных сосудов и три комплекта конского снаряжения, общим числом более 200 предметов.
Клад быстро разошёлся по рукам, и лишь часть его успела попасть в руки приехавших в Луковит учёных. Раскопки на месте находки дали ещё несколько десятков штук разной серебряной мелочи. Остальную часть клада удалось найти и конфисковать у недобросовестных приобретателей только спустя два года. Однако отдельные вещи из Луковитского комплекса продолжали поступать в Археологический музей в Софии вплоть до 1986 года.
В своём современном виде клад из Луковита включает в себя 6 серебряных чаш, 5 фиалов, 4 ковша и около двух сотен всевозможных декоративных предметов из серебра – бляшек, пластинок, подвесок, колец и т. д., – служивших украшением конской сбруи. Несомненно, что это был намеренно скрытый в земле клад – на месте, где была сделана находка, археологи не нашли следов ни древнего поселения, ни курганов. Скорее всего, это было личное имущество какого-то местного князька или видного представителя племенной аристократии. Во время тревожных событий цервой половины III столетия до н. э., связанных с кельтский нашествием, владелец серебра сложил свои драгоценности в большой глиняный горшок и закопал в землю – до лучших времён, а как оказалось – аж до середины XX столетия…
Луковитский клад особенно интересен тем, что в нём ярче всего отразились особенности позднего фракийского искусства IV – начала III века до н. э. Изделия из этого клада исполнены в духе так называемого скифского звериного стиля и напоминают, в частности, клады, найденные в разное время в курганах Украины (Мартыновский клад на Киевщине, Перещепинский на Полтавщине и т. д.). Сбруйные пластинки и бляшки украшены изображениями сидящих сфинксов, человеческих голов, разнообразных животных: львов, оленей, собак. Встречаются и образы всадников, столь характерные для фракийского искусства. На двух серебряных пластинках из Луковитского клада изображён лев, терзающий оленя; несчастная жертва упала на колени под тяжестью хищника. На другой пластинке два всадника преследуют льва – уже почти настигнутый, он падает под копыта коней… Эти образы во фракийском искусстве имеют определённый социальный смысл и связаны с прославлением царской власти.
Один из самых больших и наиболее пышно украшенных фиалов Луковитского клада, к сожалению, дошёл до нас в плохом состоянии – от него фактически уцелело одно днище, большая часть венчика отсутствует. Однако даже сохранившаяся часть наглядно демонстрирует, сколь сложен и богат был декоративный замысел мастера. А покрывающий сосуд орнамент из равнобедренных треугольников имеет очень древнюю историю и уходит корнями ещё в эпоху раннего железа. Считается, что он связан с какими-то магическими традициями. Сосуд украшают и два концентрических ряда орнамента, составленного из женских головок, чередующихся с пальметками-трилистниками, – вероятно, это многократно повторённый образ Великой богини-матери – главного божества фракийцев.
Изображения на входивших в состав Луковитского клада сосудах наводят на мысль об их ритуальном использовании. Один из ковшиков, вероятно, предназначался для обрядов, связанных с культом воды и небесной влаги: в украшающих его трёх горизонтальных фризах представлены образы рыб, водяных птиц и быка. Водяная птица – одно из самых распространённых образов в искусстве Центральной Европы, Фракии, Греции и Ирана XI–VI веков до н. э. Этот древний образ продолжал сохраняться и во фракийском искусстве IV века до н. э. А образ быка, на первый взгляд далёкий от темы водной стихии, на поверку оказывается тесно связанным с ней: на Древнем Востоке бык являлся атрибутом бога бурь и дождей. На одной из иранских чаш само божество изображено в образе быка, изливающего из уст благодатный дождь, напояющий землю.
Предметы из Луковитского клада хранятся в Национальном Археологическом музее в Софии, а их копии в музее города Ловеч.
ЗОЛОТО СКИФОВ
Золото скифских «могил»…В первых числах февраля 1902 года в Мелитопольском уездном полицейском управлении можно было видеть сваленную на полу присутственной комнаты кучу, из которой виднелись куски разбитых больших амфор, ржавое железо, солома и различные мелкие предметы. За столом, в жарко натопленной комнате, тяжело вздыхая и поминутно утирая лысину большим клетчатым платком, восседал пристав 2-го стана и, аккуратно выводя буквы, писал рапорт на имя уездного исправника:
«29 января с. г. крестьяне села Нижних-Серогоз, в числе 33 человек, по своему почину, занялись раскопками кургана, что возле с. Нижних-Серогоз, под названием „Агузки“. Этот курган разрыт был членом Археологической комиссии Веселовским в 1893 г., который и закончил раскопки. В настоящее же время вышесказанными крестьянами открыт совершенно новый туннель и найдено во время раскопок несколько предметов, которые от них мною отобраны и представляются Вашему высокоблагородию. При этом имею честь доложить, что мною дальнейшее разрытие этой могилы было воспрещено ещё 12 сего января, сейчас же, как было обнаружено, что производятся раскопки; за сохранением этого кургана учреждён надзор, сделанные отверстия в кургане зарыты и виновные в числе 33 душ привлечены к законной ответственности». В описи отобранных у кладоискателей находок, приложенных к рапорту приставом, значатся 19 золотых предметов общим весом 261,85 грамма…
Пока пристав писал свой рапорт и взвешивал конфискованное золото, в симферопольской газете «Салгир» в номере от 1 февраля появилась следующая заметка:
«По поводу раскопок древней могилы (от корреспондента Салгира). Сегодня мне пришлось видеть у крестьян Василия Чумака и Тимофея Мелешки с товарищами добытые ими из скифской могилы „Агузки“ разные древние вещи: собачку из литого золота, пуговку с двумя ушками с изображением лица мифологической богини, кружок, величиной с копейку, с выпуклой пчёлкой, пластинку величиною в две коп., с изображением цветка, 141 золотую пуговку с ушками, 123 таких же, но золота на них более, 15 обломков золота, кольцо с уздечки на манер напёрстка… Все эти вещи золотые. Нашли они все эти вещи в подземной галерее, сделанной, вероятно, вскорости после того, как была насыпана могила скифами. Подземный ход этот профессором Веселовским, по разрытии могилы, был исследован на расстоянии 16 сажен, но теперь земля осела и крестьяне раскопали ещё на девять сажен в другую сторону и тут-то нашли эти вещи».
Удивлённое начальство немедленно послало приставу по телеграфу предписание немедленно провести повторное расследование и отыскать названные в заметке предметы. Проведённое дознание выяснило, что крестьяне, предводительствуемые Василием Чумаком, утаили бо́льшую часть находок. В результате полиция конфисковала в совокупности более 700 различных золотых предметов. Уже по стоимости одного металла серьёзность находки не вызывала никаких сомнений. Но эта находка – лишь один из многих эпизодов кладоискательской лихорадки, связанной с поисками сокровищ в древних курганах, которые на Украине называют могилами.
…Старый солевозный чумацкий шлях, идущий от Никополя на юг, к Перекопу, тянется по бескрайним степям Таврии. И повсюду, аж до самого Мелитополя и далее, раскиданы по степи высокие, издалека видные «могылы» – курганы, оставленные неведомыми древними народами и таящие, по преданию, несметные сокровища.
Что за люди оставили эти курганы в степи? Бывалые люди рассказывали всякое. Неспешно плетутся по пыльной дороге волы, поскрипывает подвешенное к задку воза ведёрко с дёгтем для смазки колёс, неторопливо льётся рассказ о минувших временах…
«Сначала на ций земли, де мы жывемо, жылы туркы, це була туречщына. Туркы булы сыльни багачи. Як народа в русскому царстви стало багато, то тоди сталы зганяты туркив с своеи земли. Як покорылы туркив, тоди воны – де худобу диваты? Везты нельзя, та й началы йийи ховаты в землю. Дралы шкуру з коней и зашывалы в неи гро́шы, насыпалы бочонкы золота и закопувалы в землю, або опускалы в воду. Воны ховалы в землю и орудие, разни ружья, пицталеты, пушкы, щоб руськи не воспользовалысь цым добром. Воны ховалы його куда попавшы: в землю, в воду, в писок. Як зарывають гро́ши, або як пускають у воду, то заклынають их: „будь вы трыжды прокляти, прокляти, прокляти! Хто ци гро́ши возьме, той и сам проклятый, тому голова долой!“ В степи под Екатеринославом однажды выкопали чоловичий шкелет, а в йому висимнадцять мидних стрилок. Стрилки ти булы миж кистками. От цими мидними стрилками и воевалы туркы».
А на другом возу другой бывалый человек рассказывает молодым чумакам другую историю:
«Годив пятьсот тому назад була Украина, саме де мы тепер жывем. В тий Украини жылы розбойныкы чычиньци; хатами у их булы могылы. Як стала Россия размножатьця и прытисняты чичинцив, то воны взялы и пишлы геть, хто куды попав. У йих багато було гро́шей, так шо йих невозможно й понесты с собою, то воны взялы и позакопувалы йих в землю скризь по могылах. Одни из йих думалы прыйти в мырне время и одкопаты свои гроши, други закопувалы з заклятиямы на викы, шоб нихто йих и не выкопав, а хочь и выкопа, всэ одне нымы не пожыве, умре; а инши закопувалы на стико-то годив, и як пройдуть ти годы, то гро́ши сами выйдуть из земли в разних выдах. А зарывание в землю кладов сопровожалось от яким образом: як здумае якый-небудь чичинець закопаты в землю клад, то зараз объявляе о том своим сусидам, шоб воны шлы до його зарываты клад. Сусиды прыйдуть до його; вин зараз начынае копаты яму, и як выкопае яму, то в неи кладуть зараз дошку, на тии досци напысана крейдою (мелом. – Авт.) заклята молытва; на дошку кладуть клад и загортають землею, а хазяин клада в те время тры разы обходе крутом зарывающых клад».
Нет, ну вы скажите – у кого от таких рассказов руки не зачешутся взять лопату и попытать счастья в «могыле»? И перевидали старинные курганы таких искателей счастья тьмы и тьмы…
…Около двух тысяч лет назад верстах в двадцати от нынешнего Никополя был погребён скифский царь. С ним, по обычаю, зарыли жену, рабов, лошадей и имущество, а над могилой насыпали высокий курган, столетия спустя получивший название Чертомлыцкого. Вскоре после похорон в курган, прорыв подземный ход, проникли грабители. Едва они подступились к царским сокровищам, как обвалилась земля, и грабители вынуждены были бежать, оставив одного своего товарища под завалом. А в 1863 году археолог и историк И. Е. Забелин, раскапывая Чертомлыцкий курган, натолкнулся на следы этой древней трагедии. Он обнаружил следы грабительских подкопов, скелеты царя, царицы и челяди. Под грудой обвалившейся земли стояло ведёрко с собранными грабителями золотыми украшениями, а рядом лежал скелет неудачливого грабителя, двадцать веков пролежавшего на месте преступления.
За два тысячелетия в причерноморских степях сменилось множество народов, оставивших после себя высокие курганы с каменными идолами на вершинах. И два тысячелетия в этих курганах рылись кладоискатели, соблазнённые «даровым» золотом мертвецов…
Первые исторические сведения о «гулящих копачах», грабящих курганное золото, появились ещё в Средние века. В одном из документов XVI века говорится: «По городищам и селищам ходячи, могилы роскопуют, ищучи там оброчей и перстней». А к концу XIX столетия только в Херсонской губернии более половины «степных пирамид» были уже перекопаны и разграблены.
Сокровища скифских «могыл» казались неисчерпаемыми. Знаменитый на Украине курган Сороку грабили несколько столетий, таская оттуда старинные доспехи, которые считали польскими или казацкими. Тем не менее и на долю археологов там кое-что осталось. Большой Рыжановский курган в Звенигородском уезде (под Киевом) раскапывал в 1884 году археолог Ю. Гринцевич. Через три года после его раскопок, в траншее, размытой дождём, местный крестьянин нашёл амфору и множество золотых украшений, которые он тайно выкапывал на протяжении нескольких дней. А уже после этого крестьянина другой археолог, Г. Оссовский, нашёл ещё 446 золотых предметов!
Вскрывая древние захоронения, кладоискатели, конечно, не особо затрудняли себя в определении значения найденных сокровищ. По их убеждению, эти золотые «треугольники», «пластинки» и «кольца» – клады, зарытые турками, татарами, запорожцами, гайдамаками или разбойниками. Поэтому легенды о разбойниках или запорожцах, зарывших золото в очередной «могыле», уверенно считались надёжным указателем пути к сокровищам…
В степи за Мариуполем, близ сёл Амвросиевки, Голодаевки и Савуровских хуторов, находится курган Савур-могила. Величественный курган был виден за 40–60 вёрст. Некогда на «могыле» стояла половецкая каменная баба – «каменный чоловик», но к середине XIX столетия её уже не было.
В старину мимо курганов Савур и Медведь пролегали большие дороги – Чумацкий шлях и Великий (Почтовый) шлях. У чумаков бытовала пословица – «Савур-могыла, Теплынский лис – де бере чумакив бис». Место это считалось заклятым – где-то близ могилы был зарыт зачарованный клад («багато сховано гро́шей»). Клад этот, по преданию, закопал легендарный разбойник Савва, который «с товарыством» в старину жил на Савур-могиле. Следами пребывания разбойников долгое время оставались глубокие ямы – остатки землянок. Одна из ям, отмеченная кустом бузины, была остатками землянки Саввы.
Скрываясь днём в подземельях, разбойники в ночное время выходили на добычу и собирали дань со всех обозов, шедших по Великому шляху. В одном из подземелий жил у них старик глубоких лет, который по временам смотрел в книгу и по ней определял, возможно ли ещё жить этим разбойникам в данном месте или уже пора скорее уходить, перебираться на другое. Переселяясь на другое место, разбойники из награбленных ими богатств брали лишь небольшую часть, а остальные сокровища зарывали в окрестных местах с заклятиями в землю.
Рассказывают, что однажды Савва принял в свою шайку одного хлопчика, бывшего с чумаками. Спустя несколько лет он отправил его вместе с другими своими «гайдамаками» в Киевскую губернию, где их «половылы и забралы в москали» (т. е. в солдаты). Много лет спустя пас чабан овец близ Савур-могилы. Видит – идёт «москаль». «Здорово, человече!» – «Здоров, служивый». – «А кто это выкопал ту канаву, что сбоку могилы?» – «Да вот, такой-то человек», – «И что, он богатый?» – «Да разжился, говорят, здорово». – «Эх, плохо дело: всего один казанок денег и был, да и того не стало». И стал солдат рассказывать чабану, что тут раньше творилось – на могиле и на Великом шляхе… Оказалось, что этот «москаль» и есть тот самый хлопчик…
Поиски золота в курганах были связаны с большим риском для жизни. Речь идёт не только о «страхах», насылаемых нечистой силой и привидениями, но и о реальных опасностях, подстерегающих кладоискателя в подземных ходах и древних склепах.
Верстах в пяти от города Купянска, по дороге в слободу Маночиновку, возвышался большой курган, известный под названием Острой могилы. Курган, вероятно, был остатками древнего городища. Он долгое время служил местом паломничества окрестных кладоискателей, и искать клад в Острой могиле приезжали кладоискатели аж из Воронежской губернии. Следы раскопок были видны повсюду. Говорили, что будто одному из кладоискателей удалось докопаться до дверей, запертых большим висячим замком. Но лишь только дотронулся он до замка, как услышал из-за двери голос: «Не трогай, пропадёшь! А прежде откопай на 80-саженной цепи ключ, тогда отопрёшь им все двери и всё будет твоё». Дверь внезапно засыпал обвал земли, а сам кладоискатель едва живой вылез из вырытого им в кургане хода и отказался от дальнейших работ.
Смертью кладоискателя закончились поиски сокровищ легендарного разбойника Саввы Самодриги в курганах близ деревни Шамовка Херсонской губернии. Прорыв подземный ход в курган, кладоискатели в одну из ночей проникли в склеп, где обнаружили обугленный скелет. Ночь, душное подземелье, мысли о подстерегающих кладоискателя «страхах», внезапное зрелище человеческих останков – всё это так повлияло на кладоискателей, что один из них умер от страха, а другой навсегда зарёкся лазить по ночам в «могылы».
Справедливости ради надо сказать, что иногда игра со смертью всё же стоила свеч и находка курганного золота многократно превышала все неудобства, риск и издержки, связанные с кладоискательством. Но чаще всего грабителям курганов после нескольких дней или даже недель упорных раскопок доставалась ни на что не годная рухлядь. Вместо желанных денег кладоискателям доставались целые возы человеческих костей, битой глиняной посуды, ржавого железа, угольков.