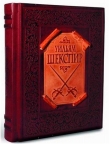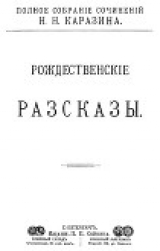
Текст книги "Рождественские рассказы"
Автор книги: Николай Каразин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Между тем Ирен не была уведомлена о кончине ее мужа, по той причине, что случай на охоте так был странен и мало правдоподобен, что решено было его официально не констатировать. Над головой вдовы разразилась целая буря бедствий и несчастий. Роскошный дворец в Петербурге сгорел разом, от неизвестной причины, со всей своей богатой обстановкой. Одновременно с этой бедой, телеграмма известила ее о таковой же погибели всех ее замков и вилл за границей. Отрывные листки ее чековых книжек оказались недействительными, за иссякновением кредитов. Но странно!.. Все эти бедствия не особенно поразили бедную вдову, она отнеслась к ударам судьбы довольно хладнокровно. Иное чувство овладело теперь ее сердцем, ее душой, мозгом – одним словом, как часто пишут теперь: «всем ее я». Это чувство была пламенная, безумная любовь к своему исчезнувшему супругу. Все свои помыслы, все надежды несчастной Ирен сосредоточились на одном желании – «найти и водворить». И она принялась искать. Она еще жива и продолжает свои розыски.
Вероятно, не один из читателей встречал несчастную на площадях и улицах Петербурга.
Высокая старуха, с седыми космами на лбу, с горящими в глубоких впадинах глазами, с крючковатым, заостренным носом, с злобно сжатыми, сухими губами, на голове ее старомодная шляпа, с высоким страусовым пером, наполовину объеденным молью, на плечах, когда-то бархатная ротонда, вылинявшая пятнами неопределенного цвета. Она нервными шагами ходит по улицам, внимательно всматриваясь в лица прохожих мужчин. Иногда она обращается с просьбой хоть немного приподнять шляпу, и когда ее желание исполняется, она грустно качает головой и шепчет:
– Лысый, но не он...
ПИСAHКA
В эту весну Дарья вскрылась рано, да как-то совсем неожиданно.
Еще вчера лед был надежен. Большой караван легко переправился на эту сторону, только у самого берега один верблюд чуть было не провалился. Тарантас морозовского приказчика из Петро-Александровска тоже благополучно перебрался; лед был толстый, крепкой спайки, надежный, а к ночи потянуло теплом, пошел ливень, в полночь треснуло и зашипело по реке, а стало светать – уже вся Дарья тронулась, а с левого берега, сажен на десять, полоса чистой воды забурлила, подмывая глинистые скаты.
Бойко тронулся лед, ни прохода, ни проезда. Так и прут льдина на льдину, треск и грохот стоят в воздухе, людские голоса заглушают...
Время настало свободное, праздничное, и много казалинских жителей собралось на реку любоваться грозной картиной ледохода. Отстояли заутреню и обедню, разговелись, перехристосовались, отдохнули малость, ну, и нечего больше делать, как только гулять.
Собрались на берегу и простой казалинский народ, и военные, господа даже – из начальства и зажиточного купечества, со своими семействами, кто пешком, кто в экипажах, кто верхом, по местному обычаю... и все теперь внимательно на ту сторону всматриваются – и простыми глазами, и в бинокли.
Очень занимает всех этот тарантас, что стоит у самой воды, отрезанный бушующей рекой от города и всего жилого, уютного.
Над широкой Дарьей – туман ледяной; неясным пятном виден громоздкий, тяжело нагруженный экипаж, уже распряженный. Верблюды, привезшие его, лежат около, а один забрел в береговые камыши, чуть виднеется. Киргиз-лауча пытается огонь разложить, да дело «плохо клеится» – дымит только промерзлое, сырое топливо. Кто в тарантасе сидит, не видно, а на козлы взобрался высокий человек в военной шинели, шапкой машет и, должно быть, кричит... Помашет, помашет, да и приставит руки ко рту, а ничего не слышно; ширина такая, что и при спокойной воде слов разобрать невозможно, а где же теперь, когда на реке стоит стон стоном, и льдины, как бешеные звери, друг на дружку лезут – сшибаются.
Все, кто на этом – жилом берегу, очень жалеют тех, кто на том – пустынном: этим и тепло, и сыто, и весело по-праздничному, а тем и холодно, и голодно, и притомились, чай, за дальнюю дорогу, а когда Господь приведет перебраться на эту сторону – неизвестно.
Помощь бы тем подать, провизии бы послать – да невозможно, всякая переправа остановилась. На этой стороне казенный, железный паром в неисправности, только сейчас к починке приступили: прозевали пост и страстную неделю, все собирались, а тут вдруг и прорвало неожиданно.
Положение путников на том берегу было, действительно, очень печальное.
Сообщил об их участи морозовский приказчик из Петро-Александровска; он доложил, что обогнал тарантас майора Кусова с семейством, верст за пятьдесят до Дарьи, и что их дела неважные: верблюды, нанятые майором, оказались слабоваты, в степи стояла гололедица, рассчитывали в десять дней всю путину сделать, а только на двадцатый до Дарьи добрались. Провианту, по расчету, и не хватило, с полдороги едут впроголодь, только чая и осталось с избытком, а сухари все давно приели. Оставил им морозовский приказчик полноги бараньей прожаренной, да хлеба фунта два не больше, а водки или чего-нибудь в этом роде у него самого ничего не осталось. Думали путешественники, что как раз через день и дома будут, а тут вдруг беда – реку прорвало – стоп! Хоть с голоду помирай! Близок локоть, да не укусишь! И что всего обидней, всего раздражительней, что несчастные путешественники ясно видят и город весь сытый и празднующий, и люд гуляющий, и дымки в трубах, а ночью (они еще затемно дотащились до берега) светлое зарево над церковью, огоньки по всем улицам, красные змейки ракет; до их слуха доносятся и пушечные выстрелы, и перезвоны церковных колоколов, даже веселые рожки стрелков и рокот барабана, отбивающего утреннюю зорю...
Сиди вот тут впроголодь, зябни на ветру и зубами щелкай!
Не всякий сытый голодного не понимает, а тут все собрались больше понимающие и сердцем сочувствующие, помочь очень желающие, а как и чем помочь не знающие.
Вот об этом-то все и шли разговоры в собравшейся на этом берегу – сочувствующей толпе казалинских обитателей.
Прибыл и сам комендант, чтобы всем распорядиться самолично – и трет себе голову в недоумении, а пока ищет свирепыми глазами, кого распечь, да разнести за несвоевременное вскрытие.
– Пуще всего барыню Марью Ивановну жалко! – вздыхает старушка в ковровом платке... – У ней, ведь, сердечной, грудной младенец на руках!
– Да девочка Настя, да мальчик Коля – да тот ничего: тому шестой годок пошел! – пояснила другая, тоже в ковровом платке...
– И как это, право, Семен Петрович оплошал?! – удивлялось военное пальто с барашком.
– Оплошаешь – когда, слышь ты, гололедица. На десять ден запоздали! – оправдал Семена Петровича чей-то голос в толпе.
А Семен Петрович и был сам майор Кусов, что на том берегу напрасно горло надрывает.
– Ах, черти! Это они до завтра со своими заклепками прокопаются! – ругался комендант, прислушиваясь, как у мастерских, несмотря на праздник, звякают молотки по железу.
– Да и бесполезно сегодня паром отправлять! – заявило другое начальство. – Видите, как лед валит – все равно, не переправиться!
– Да ведь замерзнут, с голоду помрут!
– Выдержат! Чаю осталось, а с чаем все лишние сутки продержаться можно!
– Вон-вон раздули! Эво, как пламя взвилось! Справились с костром... Важно! А, здравствуйте! Христос Воскресе!
Чмок да чмок, слазили в карманы, обменялись яичками, а там еще подошли: чмок, да чмок; опять Христос Воскресе, да Воистину!..
– А если пустить теперича ракету на ту сторону, а к ракете этой самой либо кулич, либо бутылку водки...
Захохотали в толпе, а одна дама с пером на шляпке воскликнула:
– Ах! Это идея!..
– Это ужасно! Ехать так долго, мечтать доехать к празднику домой – и такая неприятность!
– Сам виноват! Старый степняк должен понимать, что едешь на десять ден – бери запасу на двадцать... Вы говорите, совсем нету у них провизии?..
– Так точно, ваше превосходительство! – почтительно докладывал морозовский приказчик. – Я их обогнал у сухого колодца; они все уже давно приели и очень бедствовали. Дети особенно плакали и кушать просили – я им ногу баранью пожертвовал, фунта полтора на ней мяса осталось, да сухарей, все что со мной были, а больше ничего, до завтра еще вытерпят, а ежели что, то может болезнь приключиться...
– Заболеешь!
– Супруга ихняя очень огорчены, сам майор сердиты-с, а мальчик Николаша ревмя ревут... Красное яичко им обещано, а вот оно какое красное яйцо вышло!
– Красное яйцо... гм... Нельзя ли хоть каик надежный спустить, деревянный? Может, как-нибудь доберется?.. Попробовать бы!
– И пробовать нечего! Сейчас его сомнет льдом, да кто идти решится?!
– Послушай! – подошел тут коренастый киргизенок, лет шестнадцати. Он только что подъехал в общей группе, слез со своего косматого моштака и стал дергать за рукав морозовского приказчика.
– Что тебе?
– Ты говоришь, больно плачет Миколка, красного яйца хочет... Ой! Ой!
– Отстань!
– Нет, говоришь ты, Миколка плачет – это он оттого плачет, что знает, какое ему я яйцо сделал – красное, ой, ой, хорошее! Я ему обещал, когда домой приедет, будет ему хорошее яйцо!
Кто слышал – смеяться стали, а киргизу не до смеха, сам чуть не плачет и зорко в ту сторону всматривается. И видит он, как какая-то крохотная фигурка отделилась от тарантаса и подбежала к огню...
– Вон он, вон! Миколка! – заорал во все горло киргизенок и добавил визгливо так: – Миколка!..
Кто ближе стояли, даже шарахнулись от этого отчаянного крика.
– Это – Малайка, майорский джигит, что оставался дома. Они большие друзья с Колей, самые неразлучные! – пояснил кто-то знающий...
– Чего орешь, дурак? Не услышит!
– Нет, ты посмотри, какое я яйцо приготовил! – засуетился Малайка и вынул из-за пазухи что-то, тщательно завернутое в цветную тряпку.
Он освободил свою драгоценность от оберток и стал показывать всем, кто был поближе.
– Вот какое! Здесь я ножом джигита выскоблил, с ружьем и саблей, здесь вот крест нацарапал, здесь петуха... Джигит – это Миколка!
– А петух это ты?
Опять смеяться стали.
– Ну, побереги яйцо свое, молодец! – похвалил один из офицеров. – Вот, дня через два, когда переправим их, ты и отдашь. Сам со своим другом похристосуешься!
– Эх! Да дорого яичко во Христов день! – заметил кто-то.
– Миколка плачет, яйца ждет от Малайки! – забормотал киргиз и стал пробираться к берегу поближе, таща за повод своего моштака.
– Да что, малый! Ты никак через реку, на ту сторону сбираешься?
Малайка только отмахнулся и стал садиться на своего чубарого.
– Эй, там! Посмотрите за этим дураком!
– Куда лезешь, черт?!
Какой-то казак даже нагайкой замахнулся на киргизенка, а тот только отшатнулся в седле и поехал шажком по самому краю берега, зорко всматриваясь в несущиеся мимо льдины.
Вдруг раздались отчаянные крики. Все замахали руками и бросились к воде...
– Держи его, дурака! Лови, лови! Эй, веревок сюда, багров!
– Тащи буйки к пристани!
Саженях в пяти от берега уже барахтался Малайка – его зажало между двумя льдинами и относило все дальше и дальше. Но чубарый держался стойко. Степной конь фыркал и усиленно работал своими железными ногами. То он выскакивал из воды, словно на дыбы становился, то словно нырял между льдами и все дальше и дальше отплывал от этого берега.
Малайка орал, только, видимо, ободрения коня ради, не со страха, и вдруг оба они, и конь, и всадник, исчезли под водой!
– Сгиб!
– Царство ему небесное!
– Экое дикое животное!..
С одной дамой сделалось даже дурно, и ее повели к дрожкам.
– Вынырнул!.. Опять пошел! Пошел!..
Какая-то черная точка показалась уже почти на самой середине реки, только эта точка раздвоилась.
Старый казак-уралец пояснил это раздвоение:
– Он это правильно, ловко! Это он сполз с лошади – самой ей легче на воде держаться, а сам за ейный хвост уцепился. Правильно!
– Изнемогает! Затрет его льдом опять!
– Окоченеет ежели, тогда судорога и шабаш!
– Ох, ты, Господи! Спаси и помилуй!
– И это, чтобы только яйцо свезти своему Николке. Вот так шалый!
– А ведь доберется! Ей же богу, доберется!
– Опять не видать!..
– Спаси, Боже, и помилуй душу христианскую, то бишь, тьфу! татарскую, а все же спаси, Господи, и помилуй! – бормотала старушка и даже на колени стала, чтобы удобнее молиться было.
– Теперь уже ничего не увидишь! Потому его далеко вниз снесло. Там ведь чего-чего не плывет по реке. Коли сгиб – так сгиб, а коли жив – надо быть, только на том берегу обозначится.
Но долго еще, очень долго не расходилась толпа, а на том берегу ничего не обозначалось.
– Чего уж тут глядеть-то! Пойдем домой!
– А что ж, и то правда; домой – так домой!
– Иван Николаевич, Марфа Семеновна, вы к нам?
– И как это весеннее тепло обманчиво – я совсем окоченел!
– Ну, по домам!
А все-таки никто не уходил, все что-то держало на берегу всех в сборе, и глаза не отрывались от этого ледяного хаоса, шумно несущегося все вперед и вперед...
– Ура... ра... ра!.. – раздалось вдруг с крыши шлюпочного сарая.
– Ура! – подхватила толпа, еще не зная, в чем дело.
Сверху много виднее. Там заметили, далеко ниже по течению, черную точку, появившуюся на том берегу и затем быстро направлявшуюся вверх, по направлению к майорскому тарантасу.
Это был Малайка, чудом выбравшийся из страшной опасности. Он теперь во всю прыть гнал своего моштака, везя своему маленькому другу драгоценную «писанку».
МУМИЯ НЕОПТОМАХА
(Воспоминания о путешествии по Нилу)
После заката солнца быстро наступила темная южная ночь, и во всем маленьком городке Хелуане повсюду загорались разноцветные огоньки. При таком контрасте непроницаемой тьмы, каждый жалкий фонарик, каждая мизерная лампочка кажутся бенгальским светом, и даже каждая спичка, при закуривании сигары или папиросы, озаряет лицо курильщика красным, костровым заревом. Над террасой нашего отеля-пансиона сиял громадный, матово-белый электрический шар, а через крыши соседних домов и вдоль по ровным улицам города он посылал на далекое расстояние ослепительные лучи, на террасу же распространял мягкий, ласкающий свет, приятный для глаза, позволяющий даже свободно заниматься не только игрой в шахматы и трик-трак, но даже чтением новых газет и журналов.
В такое чудное время начала ночи, как раз после обеда, за чашкой ароматного кофе, на террасе появляется всегда все пестрое, разнородное по национальности, больное и здоровое население отеля-пансиона.
Сидят, болтают, лениво обмениваются новостями, вычитанными из газет, лениво передвигают костяные фигурки на шахматных досках и болезненно нетерпеливо вздрагивают и подергивают плечами, когда какая-нибудь из получахоточных или диабетных девиц подсядет к роялю и робко возьмет несколько аккордов, грозящих перейти во что-нибудь длинное и, конечно, скучное.
Так почти ежедневно... Но вот уже несколько дней, как появился новый обитатель отеля с необыкновенной способностью обращать и приковывать к себе общее внимание – и этот новый джентльмен ухитрился сделать наши тоскливые послеобеденные собрания несравненно более оживленными и потому более интересными.
У него была способность – начать кому-либо что-либо говорить сначала вполголоса; к этому началу прислушивались соседи и втягивались в разговор. Звук голоса рассказчика усиливался, усиливался и интерес слушателей, а скоро все это превращалось в настоящую аудиторию.
По спискам отеля, этот новоприезжий значился: «Жорж Нуар, доктор медицины и хирургии, сотрудник всех европейских газет и журналов» – это скромное заявление было, очевидно, вымышлено, но до этого, как и до каких бы то ни было паспортов, никому не было никакого дела, и каждый мог называться, чем и как ему угодно. Администрация же отеля наблюдала только за аккуратностью оплаты недельных счетов.
Наружность Жоржа Нуара напоминала довольно банальный грим маскарадного Мефистофеля: те же изогнутая кверху углом брови, те же заостренные усы и эспаньолка, та же, будто искусственно наклеенная, горбинка посреди носа; только голова его была совершенно лысая и прикрыта шелковой черной шапочкой. Одет он был во все черное (время обеда, нельзя же по этикету иначе), и на его шее красовался белый бант, красиво, но скромно повязанного галстука.
– Конечно, – говорил он, – настоящие, подлинные, так сказать, мумии, стали теперь большой редкостью!
При этом он как-то подозрительно, внимательно посмотрел на длинного, пожилого господина, сухого, как жердь, с лицом цвета свечного, помятого в руках, воска. Посмотрел он – и все почему-то посмотрели тоже...
– А, между тем, господа, наука идет вперед, египтология становится любимым предметом все большего и большего числа развитых людей... Музеи основываются и растут, как грибы. А все это требует большого количества образцов, предметов для научных демонстраций. Какой же будет египтологический музей без должной коллекции мумий?! А где же их взять?!.. Усердные изыскания и раскопки исчерпали почти весь исторический слой почвы Египта... Все династии фараонов, достаточно отдохнув за тысячи лет покойного лежания под спудом, увидели снова свет Божий, узнаны великими учеными, снабжены объяснительными ярлыками, номерами для справок и занесены в каталоги... Но этого мало! Жажда научных знаний, новых и новых тайн и их разгадок неутолима, и на алчный крик: «Мумий сюда, побольше мумий!» – истинные любители науки должны же были, наконец, откликнуться и позаботиться об удовлетворении этой священной жажды.
– Вы и занялись этим делом? – не без язвительности заметил кто-то из дальних рядов слушателей.
– Да, я и занялся…
Жорж Нуар спокойным и ясным взором окинул всех слушающих и продолжал:
– Я занялся этим делом. Я горжусь, что я изучил его обстоятельно, до полного совершенства...
– Фабрикацию фальшивых мумий? – раздался опять тот же голос из задних рядов.
– Фальшивых?.. Это определение совершенно неверно. Фальшивым называется подделка, но не производство подлинного материала. Имеете вы, господа, понятие, что такое мумия? Конечно, да! Так вот, видите ли? Мумия есть труп человека, набальзамированного, прочно консервированного, предохраненного, так сказать, от порчи разложения, затем, обернутая тщательно в бесконечные, пропитанные разными дезинфекционными веществами ткани и, в конце концов, подверженная влиянию нескольких тысячелетий, дабы приобрести настоящую свою историческую ценность и значение... Не так ли, господа?
– Ну, конечно!
– Прекрасно! Если я беру действительно труп человека, проделываю с ним все вышесказанное, а потом мною специально открытыми химическими способами привожу в такое точно состояние и вид, как бы сей труп, сохранялся в земле тысячи веков... Будет ли это подделка, или это настоящая мумия, годная для самого серьезного музея, для самых серьезных научных демонстраций?..
Тут вмешался один джентльмен, который еще вчера только был приглашен в музей Гиза и присутствовал при полном развертывании найденной мумии того самого фараона, который гнался с войском за бежавшими евреями.
– Вчера, – заметил он, – мы последовательно и обстоятельно разоблачали драгоценный прах; мы развертывали ткани по строгому методу, мы снимали веками просохшие листки папируса и с благоговением прочитали священные надписи, мы, наконец, добрались и до самого тела, до этих, высохших, но сохранивших строение мышц, вглядывались в строгие черты почившего властелина, мы узнали и кто он, и что он – и отдали честь останкам великого Неоптомаха. Что же будет с вашей мумией, осмелюсь спросить.
– То же самое! – возвысил голос Жорж Нуар. – Вы, получив мой экземпляр, также точно повестками соберете ученых со всех концов мира в операционный зал музея, также точно отыщете основной узел (вы о нем забыли), также точно станете развертывать бесконечные ленты тонких тканей, осторожно отделяя скальпелем там, где они ссохлись от векового лежания, вы также отделите вековые листья папируса и прочтете на них все, что следует по науке, вы, наконец, доберетесь и до самых останков, вглядитесь в древние черты и, конечно, не узнаете в них кого-нибудь из своих родных и знакомых, или скажу шире, кого-либо из современных соотечественников, а убедитесь, что перед вами, на экспериментальном столе, лежит тело Радамеса первого, погибшего так трагически в подземельях храма Изиды. Да, господа! Согласитесь, что такая мумия не может считаться фальшивой. Приведу вам один, довольно вульгарный пример: если в Болонье делают превосходную, так и называемую болонскую колбасу из сильно прокопченного свиного мяса, то почему же считать такую же точно колбасу, приготовленную в Падуе, за фальшивую.
– Конечно, – согласился голос из более темного угла, – вкусовые ощущения будут одинаковы.
– Да, вы правы. И я вполне уверен, если бы у египтологов, исследователей мумий, явилось мужество отрезать ломтик от мумии Неоптомаха и от моей мумии Радамеса – вкусовое ощущение было бы тоже совершенно одинаково!
Это пояснение не всеми принято было равнодушно; много рук потянулось к чашкам с остывшим кофе... Две барышни, немки, побледнели и быстро встали со своих мест. А какая-то очень полная дама по-русски пробормотала:
– Свинья!
К счастью, она произнесла это на языке, мало кому-либо из здешних знакомом, хотя Жорж Нуар улыбнулся, взглянув по ее направленно, и прибавил:
– Вот из этой особы приготовление мумии было бы очень затруднительно.
– А где же вы достанете материал для вашего производства?
– Трупы? Да, скажу вам откровенно, что это вовсе не так легко, как кажется с первого взгляда. Положим, что здесь, при таком стечении тяжелых больных, смертность довольно велика... но все это материал не особенно пригодный к делу... Тела старых феллахов и арабов, – негры никуда не годятся, – и гораздо лучше, и по тону больше подходят, но добывание их с кладбищ довольно трудно и сопряжено с большой опасностью.
– Еще бы!.. Законы страны не шутят...
– Законы, вы говорите? Нет, законы в такой свободолюбивой стране, как Египет, не так опасны: вознаграждение, гонорар за изображение и труд, настолько солидны, что это дело со стороны закона легко улаживается, но серьезные опасности предстоят со стороны родственников и соотечественников погребенного; можно очень легко самому стать материалом для мумии, да еще попасть не в артистические руки, как мои, а в лапы жалкого кустаря, промышляющего действительно грубыми и жалкими подделками.
Но, во всяком случае, я вам скажу откровенно, господа, что лучшим материалом для изготовления мумии я считаю живого человека... Я последнее время только и имел дело с живыми субъектами, по желанию близких им людей и по их собственному письменному согласию подвергнутыми моей операции.
– Ну, это очень похоже на сказку! Что вы говорите? Чтобы нашлись охотники до подобных... Странная форма самоубийства! – послышались недоверчивые голоса.
– Да вот, господа, я вам расскажу последний случай. Это было года четыре тому назад. Я уже давно не практиковал на этом поприще. Случилось это именно здесь, в Хелуане. Я тогда жил в отдельном арабском доме, на самом краю города, у серных источников. Угодно прослушать, господа?
Конечно, все изъявили самое живое, самое полное желание слушать внимательно. Жоржа Нуара тесным кольцом окружили преимущественно дамы, сближаясь все теснее и теснее, досадно шумя и шелестя шелковыми подкладками своих костюмов.
– В Хелуан приехала из Саксонии, или там из Галиции, не помню точно, польская графиня Бреховецкая, необыкновенно, поразительно, очаровательно красивая женщина! Она была совершенно здорова, лечиться ей было не от чего, но она привезла сюда, на обычный курс, своего мужа, страдающего хроническим недугом почек, нефритом. Графине едва ли было около тридцати, и находилась она в периоде самого полного и роскошного развития красоты, энергии и силы. Мужу было лет не особенно много, но все-таки около пятидесяти. Он был лицом желт, как воск, худ до такой степени, что, когда он двигался, казалось, будто кто-то танцует с кастаньетами. С этой четой прибыл и третий спутник, неразлучно сопровождавший супругов, – лицо очень полное, краснощекое. Особа, очевидно, духовного звания, – это было заметно по его длинной одежде и по его полным, выхоленным рукам, сложенным как раз на границе груди и живота, и пальцам, постоянно находящимся в движении, будто бы они перебирали четки. Спутник этот был записан в отеле, где они жили, под именем отца Иозефа Тромпетовича. Судя по обстановке, по тратам графини, граф сидел только на одном подогретом молоке – люди эти были более чем состоятельные, а по слухам, хотя слухам, в таких случаях, верить никогда не следует, даже очень богатыми.
Я познакомился с ними очень скоро и скоро же сделался им необходимым, особенно самому господину графу. Ведь, я тогда был очень знаменитым доктором, специалистом по болезням почек. Но главное, на чем мы сошлись, это на египтологии. Граф был страстный египтолог, я также. Графиня тоже очень интересовалась и любила, когда я бойко прочитывал все эти иероглифы и переводил не только на французский язык, но и на ее родной, польский, что доставляло ей, как пылкой патриотке, громадное удовольствие, отцу Иозефу тоже.
Говорили также и о мумиях, о способах их приготовления, о возможности и в настоящее время прибегать к подобным же способам консервирования драгоценных, милых сердцу прахов.
Надо заметить, что графиня, как верная католичка, горячо любила своего мужа, была ему безусловно верна и, как всякая полька, почтительно относилась к сопровождавшему их духовнику. О, эта семья представляла истинный образец нравственности и семейного, христианского долга!
Вот уже четыре года подряд, как супруги приезжали в Хелуан, проводили тут четыре, по-европейски, зимних месяца, и это пребывание в тепле благодатного юга приносило графу видимое облегчение. Однако, вся польза Египта быстро истощалась под влиянием губительного пребывания в Европе, и больному с каждым годом становилось все хуже и хуже.
Графиня стала грустна и задумчива – отцом Иозефом овладело очевидное беспокойство – и если бы не мои ободряющие беседы с графом, то он наверное заметил бы эту перемену в настроении духа его окружающих. Я, конечно, отлично знал, в чем дело. Я изучил уже все подробности, все тонкости их отношений. Кроме того, навел справки и в Дрездене, и в Лемберге, и в Кракове и получил уже оттуда все необходимые для меня сведения. Граф женился против желания своих многочисленных родственников; все эти родственники от души ненавидели графиню. В случае смерти мужа – бедная красавица лишилась бы всего, если б эта смерть постигла графа прежде, чем он успеет сделать должное духовное завещание, а граф медлил, потому что надеялся жить очень долго, несмотря на свой тяжелый недуг. Надо было, значит, подвинуть графа поспешить исполнением этого долга любящего мужа и доброго христианина; за это дело взялся отец Иозеф, и я обещал графине помогать во всем своим умом и влиянием... И вот хлопоты наши увенчались полным успехом. Раз, после тяжелой ночи, проведенной больным, после неудачно прописанной мной ванны (всякий врач может иногда ошибаться), все мы поехали в Каир и там, в австрийском консульстве, привели все дело к желанному окончанию. Граф оставлял единственной наследницей своих капиталов свою дорогую, верную, обожаемую жену Ядвигу – графиню Бреховецкую, урожденную девицу Амалию Кединг, но к завещанию был прибавлен еще один пункт, о котором я сообщу после.
Когда мы вернулись в Хелуан, и граф, утомленный поездкой, хлопотами и естественным в таких случаях волнением, покойно расположился в креслах, в своих апартаментах, надо было видеть трогательную сцепу любви и преданности, происшедшую перед моими глазами. Графиня на коленях стояла около кресла графа, она прижимала свое чудное лицо к впалой, тяжело дышащей груди супруга, целовала его липкие руки и говорила:
– О, мой дорогой, мой любимый Янек... живи, живи долго, на счастье твоей горячо любящей Ядвиги! Мы с отцом Иозефом будем молиться, мы молимся, чтобы Господь сохранил твою драгоценную жизнь, и Господь услышит наши моления... не правда ли, пан отец Тромпетович?
– О, да, это истинная, святая правда, – подтвердило духовное лицо. – Господь сохранит и услышит... Господь может все!..
***
На другой день мы втроем, решили что граф находится именно в таком положении, что из него должна выйти превосходная мумия.
Это заключение до такой степени было неожиданно для всех слушателей, что многие вздрогнули, а несколько дам даже вскрикнули:
– Ах!
– Что же делать, господа, – пожал плечами рассказчик. – Кто мог предвидеть, что в Хелуан из Петербурга, приехала такая медицинская знаменитость, да еще, вдобавок, знавшая графа с молодости, подвергла пациента самому подробному осмотру и постановила, что больному вовсе нельзя возвращаться в Европу, а нанять, даже купить, простую виллу в окрестностях Каира или Александрии, и жить там безвыездно, по крайней мере, лет десять... что от такой перемены жизни знаменитость вполне ручается за этот продолжительный срок, да еще обещает прибавить еще столетие впоследствии, даже с правом возвращения через десять лет на родину...
– Граф поверил, да это и похоже было на правду, сразу ожил, повеселел; даже румянец появился на его впалых, мертвенных щеках... С графиней даже дурно сделалось, конечно, от радости, Тромпетович многозначительно посмотрел на меня и приподнял брови. Ну... что же тут удивительного, что мы все трое пришли, наконец, к вышесказанному решению.
Однако, в сборах и приготовлениях прошло почти две недели; знаменитость из Петербурга продолжала посещать нашего больного. Я, как доктор, конечно, согласился вполне с его диагнозом и предсказаниями... Наконец, время пришло. Была чудная, темная ночь, вот как эта... Граф в тот вечер сделал мне честь посетить мое скромное, уединенное жилище. Он был настолько силен, что даже сделал эту прогулку пешком, опираясь с левой стороны на руку отца Иозефа, с справой – на плечо своей кроткой и милой графини; я, как любезный хозяин, шел впереди, запасшись букетом дивных белых роз.
Мы пришли. Улицы были пусты, и никто нас не мог видеть, кроме нескольких черномазых индивидуумов, которым до нас не было никакого дела.
Я усадил слегка уставшего пациента в покойное, раскидное кресло, показал ему несколько удивительных свидетелей глубокой древности, лично добытых мною из раскопок в Луксоре, и, заметив, что граф несколько волнуется, больше чем следует, дал ему понюхать из крохотного пузыречка, случайно очутившегося под моей рукой. Граф вздрогнул, сделал, было, попытку приподняться, беспокойно посмотрел в ту сторону, где только что за тяжелой ковровой драпировкой скрылись его жена с духовником, и умоляющим, детским взором уставился мне прямо в глаза. Странное явление!.. Я много раз замечал этот последний взгляд у своих пациентов.