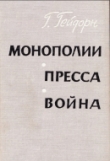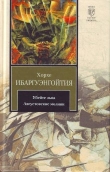Текст книги "В сетях предательства"
Автор книги: Николай Брешко-Брешковский
Жанры:
Шпионские детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
4. На приеме у сановника
Леонид Евгеньевич Арканцев, молодой, в гору идущий сановник, принимал по четвергам от трех до пяти.
Обыкновенно в это время в большой, желтой, с гармонично бьющим старинным, шкафчиком, часами, приемной собиралось много дам, генералов, иностранцев и видных, раскормленных; всякого возраста мужчин в блестящих придворных мундирах.
В этой с казенным убранством и с портретами высоких особ на стенах комнате не бывало скромных и бедных просителей, как в других министерствах. Наоборот, все сплошь отменная публика, та, что принято называть шикарной.
Дверь из приемной в кабинет Леонида Евгеньевича охранялась длинным, белесоватым, аршин проглотившим курьером с громадной золотой медалью на шее. Бесстрастно, с неподвижным лицом открывал и закрывал он, впуская и выпуская, заветную белую дверь.
И видно было, что эта несложная, в пору механической кукле, работа, из месяца в месяц, из года в год, ему осточертела. Но кругленькое жалованье, квартира, наградные к Рождеству и Пасхе, чаевых – тьма-тьмущая, А открывать и закрывать ведущую в кабинет сановника дверь, право, уж не так трудно.
Глаза курьера, такие же бесцветные, как и он сам, успели наметаться. Окинув беглым взглядом чающих приема, он безошибочно угадывал наперед, сколько минут, иногда и секунд, – потому что некоторые, словно ошпаренные, вылетали из кабинета, едва успев войти в него, – пробудет с глазу на глаз с Арканцевым то или другое лицо.
И когда шкафчик-часы пробили с чистым, мелодичным, напоминающим барскую усадьбу звоном четыре, и с последним ударом, – это вышло, конечно, случайно, – появилась в приемной молодая, высокая, немного полная красавица, вся в черном и с глубокой какой-то растерянной печалью в громадных синих глазах, курьер подумал:
«Этой на две минуты, по крайней мере, хватит…»
К желтой комнате примыкал крохотный кабинетик секретаря. Пожилой человек и сам уже действительный статский, секретарь, с повадкою опытного, бюрократического режиссера, мягко, дипломатически руководил приливом и отливом.
У него был длинный список фамилий. По возможности соблюдалась очередь. Но некоторых Леонид Евгеньевич принимал и вне очереди.
Случалось, что какой-нибудь шталмейстер в жгутах, одетый в духе времени на военный лад, начинал сопеть, нервно шагая между диванами и креслами.
Секретарь, подкатившись, мягко и вкрадчиво говорил:
– Ваше превосходительство, еще самое большое – десять-пятнадцать минут. До вас – вот изволите видеть – всего шесть человек осталось… Леонид Евгеньевич «спустит» их живо.
Шталмейстер не сопел больше, уже спокойно ждал своей очереди.
С нетерпеливыми дамами секретарю приходилось гораздо труднее, но и дамы становились ручными под его обволакивающей, немного сладенькой, немного приторной манерою обхождения.
Секретарь был психолог, не хуже белесоватого курьера. Увидев эту с монашеской скромностью одетую женщину с тоскою в синих глазах, он, по всему ее облику сообразив, какого она круга, подлетел, расшаркался.
– Изволили записаться?
– Нет, я не записывалась.
– Разумеется, это, в конце концов, несущественно, я могу доложить и вне очереди. Как прикажете доложить?
– Басакина, Варвара Дмитриевна Басакина.
Лицо секретаря изобразило самое живейшее удовольствие.
– Княгиня Басакина?
– Княжна…
– Ваше сиятельство, я сию же минуту доложу Леониду Евгеньевичу. Вот только выйдет граф Сантуринский.
Граф Сантуринский, полный, внушительный, с анненской звездою, выплыл из кабинета. Еще перед закрытой дверью он «сделал» себе довольную, счастливую улыбку, чтобы все в приемной увидели и поняли, как благосклонно беседовал с ним, графом Сантуринским, Леонид Евгеньевич Арканцев. На самом деле короткая двухминутная беседа не отличалась особенной благосклонностью.
Секретарь юркнул в кабинет и вернулся к Басакиной с виноватым лицом:
– Леонид Евгеньевич покорнейше просит ваше сиятельство обождать. Необходимо спешно отпустить кое-кого. Леонид Евгеньевич очень, очень извиняется…
На самом деле Арканцев сухо и коротко бросил: «Пусть подождет!»
Минут через двадцать принял он свою кузину, принял скорей с недоумением, чем с родственной теплотою.
Кабинет был громадный. Где-то в далекой глубине затерялся письменный стол. Затерялся, хотя был величиною с бильярд. На первом плане, ближе к дверям, – подобие гостиной. Круглый стол, несколько тяжелых кресел. Здесь и принял Леонид Евгеньевич кузину Басакину. Здесь он всех принимал.
– Здравствуй, Барб! Откуда, из Рима?
– Да.
– Католичка?
– Да, но видишь, Леня, на это я решилась…
– Не оправдывайся, – перебил Арканцев. – Религиозные убеждения – твое личное дело. Что у тебя ко мне? Говори. Меня ждет еще около восемнадцати человек, а в пять кончается прием.
– Лео, ты так со мной официален…
– Друг мой, ты выбрала самое неподходящее время. Не могу же я болтать с тобой о римских впечатлениях, а между тем ты, несомненно, привезла с собою много интересного…
– Очень много!
– Вот видишь! И не нашла ничего лучшего, как разлететься ко мне на прием. Чисто по-женски!.. Позвонила бы в телефон, я пригласил бы тебя к себе.
– Это верно. Ты прав, как всегда. Ты и в детстве был таким рассудительным. Надо было позвонить в телефон. Правда: отчего я не позвонила? Ты не сердишься, Лео?
– Я не сержусь. Но, Барб, что с тобой? Ты растерянная какая-то вся.
– Да? Ничего, так, с дороги… пройдет.
– Сегодня приехала?
– Сегодня, через Финляндию.
– Конечно, через Финляндию, других нет путей. Ты мне потом расскажешь, что видела и слышала в Стокгольме.
– Много интересного в Копенгагене.
– Почему в Копенгагене? – Ведь ты же ехала, надеюсь, не через Германию, а через Францию?
– Да, да, конечно, с чего это я про Копенгаген? Я же не была там.
Леонид Евгеньевич внимательно всматривался в княжну из-за стекол пенсне близорукими глазами своими.
– У тебя нервы в порядке? Я тебя не узнаю. Вообще ты странная какая-то… Доходили до меня разные слухи, но я не верю, не хочу верить.
– Ах, на меня так много клевещут! Перемена? Да, я переменилась, а вот в тебе – никакой! Все тот же.
Действительно, как будто вчера только видела Басакина своего кузена. Такой же румяный, благообразный, моложавый, в безукоризненной черной визитке и с мягкими, душистыми, скорей темными, чем светлыми баками. В этих старосветских, отзывающих восьмидесятыми годами баках с пробритым подбородком – что-то отжившее, «валуевское», но они идут Арканцеву.
Леонид Евгеньевич встал.
– Ты свободна завтра? Жду тебя в восьмом часу к обеду. Поговорим, а теперь извиняюсь, – недосуг болтать.
Он проводил ее к двери. У самых дверей спросил:
– Где остановилась? У себя на Фонтанке?
– Нет, в «Семирамисе».
– А… а…
Белесоватый курьер ошибся на полторы минуты: эта высокая дама в черном пробыла в кабинете вместо двух минут три с половиною.
Арканцев позвал секретаря.
– Кто у вас на очереди?
– Генерал Белоцветов.
– Пока не позвоню, Павел Алексеевич, не пускайте ко мне никого. Хочу поговорить по телефону.
– Слушаюсь.
Арканцев отошел в глубину кабинета. У письменного стола снял трубку, велел соединить себя с отелем «Семирамис» и, когда соединили, потребовал 558-й номер.
– Алло, – протяжно откликнулся пятьсот пятьдесят восьмой номер, – у телефона Криволуцкий.
– Вовка, – говорит Арканцев. – У вас остановилась княжна Басакина, Варвара Дмитриевна. Понаблюдай, понимаешь? Кто к ней заглядывает или куда она сама выезжает, словом, тебе не нужно пояснять. Ночью, около двенадцати, позвонишь ко мне или еще лучше: загляни сам.
– Будет сделано.
Арканцев повесил трубку.
Владимир Криволуцкий, или, короче, Вовка, – так звали его товарища по привилегированному учебному заведению, – был однокашником Леонида Евгеньевича Арканцева. Вместе кончили, вместе вышли в жизнь. Но потом судьба их сложилась по-разному.
Криволуцкий, «ассириец», тогда еще без бороды, мятежно ищущий, бывал на коне и под конем и, презирая чиновничество, нигде не мог ни усидеть, ни устроиться более или менее прочно. Арканцев же, прямо со скамьи училища, поступивший в министерство, делал карьеру, к сорока двум годам заняв очень видный и очень влиятельный пост.
И вот совершенно случайно, после долгих лет разлуки, встретил он опустившегося, близкого к самоубийству Вовку. Арканцев проявил несвойственное суховатой натуре своей теплое участие к судьбе товарища. Пригрел, помог и устроил к себе на службу. Не чиновником, нет, в чиновники «ассириец» не пошел бы. Арканцев давал ему ряд поручений, живых, интересных, где человек энергичный, способный может проявить себя во всей своей многогранности.
Вовка, к большому удовольствию Арканцева, оказался «многогранным», а следовательно, нужным и полезным, и – это выяснялось все более и более – прямо необходимым.
5. Профессиональный обольститель
Растерянная, твердой почвы не чуя под собою, – какая уж тут твердая почва! – оставила Барб кабинет своего сановного кузена. Выйдя на улицу, растерялась еще больше… Солнечный день, снует кругом толпа, и конная, и пешая, и мчащаяся на моторах, – но до чего все это чужое, далекое.
Или никогда не было своим, близким, или за целый год оторванности своей она успела отвыкнуть.
Ей все равно… До того все равно, – даже не взглянула к себе на Фонтанку, в свой особняк.
Зачем? Эти анфилады комнат с мебелью в чехлах, задернутые марлей картины, эта остановившаяся жизнь – все это способно ее охватить еще более мучительной тоскою.
Да, тоскою. Она места себе не находит, как неприкаянная. Так оно и есть – неприкаянная.
И она идет, синеокая Барб. Идет с «пустыми» глазами, никого не видя, не замечая.
Но этот шумный, безостановочный людской хаос замечает ее. Да и нельзя пройти мимо. В Петербурге даже теперь, в дни этой кровавой разрухи, когда, что ни шаг, – женщина в трауре по мужу, отцу, сыну, любовнику, все равно, – даже теперь обращала внимание Барб своим полумонашеским видом, и главное, – в этом не было ничего гнетуще-мрачного, тяжелого.
Изящный черный туалет, гладкий, но не настолько гладкий, чтоб казаться аскетическим, и небольшой черный, со вкусом, переливающий мягкими складками берет.
Для ликующего весеннего дня это было, пожалуй, чуточку смело, но адски стильно, а прежде всего скрадывалась полнота Барб и удивительно оттенялись выгодно нежный цвет лица и большие синие, затуманенные всегдашней поволокою и временной тоскою глаза.
До чего глупо это все! И этот приезд, и миссия, на нее возложенная, и все… Ах, этот Алоис Манега, такой неугомонный, сжигаемый вечным политическим огнем интриган…
И теперь, когда Барб очутилась далеко от него, за тысячу верст, казалось ей, что она не любила Манеги, не любила, не любит… Гипноз этого хищника в сутане на расстоянии терял свою силу. Без его поцелуев, редких, скупых, ядовитых и острых, она могла свободно и трезво думать, критиковать…
Она сказала ему там, на улице Четырех Фонтанов, что любит не его, а свою любовь к нему. Это, пожалуй, верно. Ее, экзальтированную, с проклятой наследственной материнской чувственностью в крови, захватил, ударил по воображению и нервам этот двуногий тигр, этот пряный мужчина в юбке…
Захватил и держал под гипнозом католической мистики, запугивая и опьяняя жестокостью ласк с поцелуями, похожими на укусы, и объятиями, от которых по всему холеному розоватому телу ходят ходуном густые синяки…
И это покоряло Барб, как ее покойную мать, купеческую Мессалину под княжеской короною, покоряли где-нибудь в Сорренто грубые ласки смуглого живописного оборванца-маринайо (лодочника).
Стряхнуть бы весь этот кошмар – и Манегу, и эту «важную» политическую миссию!..
Еще бы не «важную!» Ей устроили свидание с Вильгельмом. Эту политическую встречу дипломатические фигляры инсценировщики обставили не без таинственного романтизма… Швейцарский берег Лугано. Теплая лунная ночь. Расплавленным серебром дрожала тихая гладь озера. Дальние горы, такие бесплотные, воздушные, тающими нежными силуэтами намечались средь глубоких звездных небес.
И эта ночь разнеживающе, истомно охватывала Басакину. Она думала, как хорошо было бы… Там, далеко, где скрадываются туманно-прозрачные дали, медленно плывет баркетта, и под звуки мандолины чей-то мощный и властный баритон поет, поет, и она, Барб, так же тихо движется вдоль берега, вся озаренная бледно-синеватым сиянием… И с нею он, сильный, мужественный, лица которого она не видит ясно. И сплетаются руки, горячие губы ищут друг друга…
Но это – мираж. Там, на озере, пустынно и тихо, не звенит мандолина, не рокочет ничей баритон, мягкий и сочный…
А рядом с нею, опираясь на трость, идет старик в плаще и в мягкой широкополой шляпе. Она видела его два года назад совсем, совсем другим. Парадный мундир, лента, звезды, и весь он дышал какой-то нечеловеческой гордынею… Усы, знаменитые усы, острыми концами поднимавшиеся к вискам, словно вызов всему свету бросали…
А теперь они как-то опустились, растрепались, и даже при луне заметно, что наполовину седые. Выражения глаз – на них падает тень от шляпы – не, видно, хотя можно судить по голосу, что они усталые, измученные, погасшие.
И странно Басакиной… Кто она? Русская княжна, каких много. Меж тем он, этот человек, еще так недавно желавший диктовать свою волю Европе, убеждает ее, Барб, оправдывается перед нею…
– Видит Бог, – высоко поднял он руку. И здесь театральный жест! – Видит Бог, не я повинен в этой войне, не я ее вызвал и первый обнажил меч. Наоборот, я содрогнулся, чуя неотвратимую катастрофу…
Она молчала. Молчала, хотя возражение так и просилось:
«А кто натравливал Австрию? Кто внушил ей дикую, неслыханную ноту по адресу маленькой Сербии? Ноту, что не могла не явиться искрою, воспламенившей всю Европу?»
– Меня называют убийцей, – продолжал он, – говорят, на мне кровь женщин и детей, уничтоженных цеппелинами, погибших вместе с «Лузитанией». Это ужасно! Все это совершалось и совершается, не скрою, с моего ведома, но это имеет свою глубокую идейную цель. Чем чудовищнее ведется война, тем сильнее у всех желание прекратить ее. Я хотел, чтоб содрогнувшийся мир сказал наконец: «Довольно!» Я хотел сотнями жертв предотвратить миллионные гекатомбы. Но мир охвачен каким-то повальным сатанинским безумием, он опьянен и не только не говорит «довольно!», а жаждет все залить океаном крови, жаждет самоистребления…
Даже Барб, рассеянно слушавшая, далекая, разнеженная приливом чувственности, – лунный свет действовал всегда на нее, – даже она разгадала всю лицемерную фальшь своего собеседника.
– И вот, дорогое дитя мое, вам выпало на долю быть белым ангелом с пальмовой ветвью… Ангелом, над которым развевается белое знамя. Прекраснейшее из всех знамен… Кто знает, быть может, когда утихнет и рассеется весь этот кровавый смерч, ваше имя попадет в историю и человечество будет повторять его, как одно из самых звучных, красивых, обаятельных имен… Что говорить, как действовать – вы знаете. Вам это внушено. Завтра Бетман-Гольвег вручит вам мое письмо, мое собственноручное письмо, и… да поможет вам Бог! Тот самый Бог, – еще театральный жест к небесам, – который знает все, видит все, и прежде всего мою невиновность в этом человеческом самоистреблении…
И вот с этим письмом уехала Барб в Россию. Ей хотелось забыть и про письмо вместе с его автором, и про Манегу, и про всех немецких дипломатов, взапуски натаскивавших ее, что должна говорить, делать и даже думать… Хотела, но не могла… Ей не давали…
Не успела приехать, сейчас же взяли ее в переплет. На Финляндском вокзале Басакину встретил Юнгшиллер, повез на своей машине в «Семирамис», и она знала, что в самом «Семирамисе» будет следить за каждым ее шагом портье Адольф.
Как церемониймейстер, чуть ли не по часам расписал Юнгшиллер каждый ее вечер и день. Тогда-то и тогда-то она должна быть там-то и там-то, тогда-то и тогда-то – встретиться с таким-то и таким-то, или у себя, или на почве нейтральной.
Например, сегодня вечером Басакина обедает у Елены Матвеевны Лихолетьевой. Отправится туда вместе с Юнгшиллером – он заедет за нею.
Она – вещь, предмет, которым распоряжается, как хочет, по своему капризу чья-то чужая воля. Своя же воля спит, цепенеет, если она только есть вообще.
Барб вернулась к себе. Пересекая по направлению к лифту кишащий разноязычной толпою вестибюль, она почувствовала на себе брошенный из-за конторки холодный, скользящий взгляд портье Адольфа. Боже, какой противный, липкий, вызывающий физически неприятное ощущение взгляд…
Лифт поплыл вместе с княжной. В глубине длинного коридора с двумя чинными шеренгами белых дверей – ее комната.
Навстречу княжне – высокий брюнет с черной бородой в завитках.
Подумав: «Какая интересная голова», – Барб хотела пройти мимо.
Вовка, остановившись, приветствовал ее глубоким, необыкновенно учтивым поклоном, опустив глаза и сделав преисполненное самого строгого уважения лицо.
– Княжна Варвара Дмитриевна, здравия желаю…
– Pardon, я не…
– Не припоминаете? – подхватил «ассириец». – Загляните в прошлое и вспомните Вову Криволуцкого, который был значительно старше вас, но который, однако…
Барб вся так и засияла отзвуком нахлынувших воспоминаний.
– Вова Криволуцкий! Вы вместе учились с Леней Арканцевым.
– Вашим кузеном… Вот-вот, я был правоведом, гордившимся тем, что носит усы, носит, потому что может их брить, согласно традициям… А вы, княжна, были очаровательным голубоглазым ребенком в светлых кудрях. Какая встреча! Мы соседи, почти соседи. Я живу здесь над вами. Сошел сюда навестить приятеля, но его нет дома, и вот… Давно изволили пожаловать?
– Сегодня.
Открыв двери тяжелым ключом с германским орлом на массивной лопаточке, вместо ушка, Барб остановилась в нерешительности.
Вовка нерешительность эту понял по-своему.
– Можно к вам на минуточку? Можно? Так много воспоминаний! Этот голубоглазый ангелочек в шелковистых кудрях – тогда, и вы – теперь, такая прекрасная, пышная…
Очутившись в номере вдвоем с Барб, Вовка плотно захлопнул дверь.
Он вспомнил Лаприкен, вспомнил Труду, эту мощную латышскую Диану.
«Черт побери, я становлюсь каким-то профессиональным обольстителем!.. Но не моя же вина, что эта Барб дьявольски интересна. Наконец прямо удовольствие украсить рогами этого каналью-аббата».
Он близко, близко подошел к ней, касаясь ее рук своими, касаясь ее груди, касаясь бородою лица, горячо вспыхнувшего.
– Дайте на вас посмотреть… дайте…
Но ничего не увидел, весь уйдя в прикосновения. Не видел, как большие синие глаза затуманились каким-то растерянным безумием, блаженством, а губы покорно-зовуще раскрылись двумя сочными, влажными лепестками.
И ковер ушел из-под ног, опустился, и оба, он и она, закружились и поплыли вместе с комнатой, мебелью, чемоданами…
А когда все было на своих прежних местах, – и мебель, и комната, и Барб с Вовкою, – она, уже без черного берета, кающейся Магдалиною стояла на коленях перед «ассирийцем», в слезах, с распущенными волосами, вся еще во хмелю, и шептала что-то невнятное, сумбурное, истерическое…
6. Носитель «Золотого руна»
Автомобиль с потушенными фонарями (попробуйте не потушить – австрийцы обстреливают в лучшем виде!) остановился. Дальше уже никак не продвинуться. Дальше – лесная тропинка через буковый лес, ведущая прямо к Днестру.
Загорский хорошо знал тропинку. Вместе с генералом Столешниковым ходил не раз ночью проверять заставы спешенных и сидящих в окопах эскадронов и сотен.
Но тогда было совсем иное чувство. Сознание какой-то спокойной деловитости. Явились, посмотрели, услышали вокруг себя говор, какой-то по-ночному особенный и значительный, услышали сухое, короткое пощелкивание одиноких выстрелов, бог весть зачем выпущенных и бог весть где затерявшихся… А затем назад в штаб, к относительному комфорту с лампою, самоваром, постелью.
Теперь – совсем другие ощущения. Да и все кажется другим. Загорский охвачен охотничьим азартным подъемом. В самом деле, он охотник, «следопыт», загримированный галицийским мужиком, и только вот неприятное ощущение – физическое, от этих дурацких наклеенных усов… Он охотник, – охотник, однако, могущий сам легко превратиться в дичь…
А кругом – сонный и влажный запах ночного леса, леса густой темени, таинственных шорохов и как бы чьих-то подавленных вздохов…
Днем шел дождь, крупный, теплый дождь раннего, раннего лета. Вот почему дышал сыростью молодой буковый лес. Вот почему с потревоженных ветвей, как слезы, падали на голову большие, твердые капли и вот почему – это всегда после дождя – «вызвездило» столько светлячков.
И вправду – вызвездило. Вот они, куда ни глянешь, переливают синими, голубыми, зеленоватыми огоньками в траве. Совсем земные звездочки…
И, как странствующие звездочки-непоседы, как души маленьких лесных существ, летают они во тьме по всем направлениям.
Кавалеристы ловят их на рыси фуражками, и при свете такого ярко-лучистого жучка в самую темную ночь можно прочесть записку или телефонограмму.
И сонное дыхание леса, и светлячки, и рискованность предприятия – все это вместе создавало какую-то нервную повышенность настроению Загорского, наполняя чем-то хмельным, дерзким, ликующим… И, как никогда, хотелось жить, ощущать и впитывать в себя ее, эту загадочную, прекрасную жизнь… Он вспоминал стыдливо-истомные поцелуи пани Войцехович, вспоминал упругую теплую грудь под уютными складками провинциальной кофточки, но видел перед собою губы Веры и чувствовал близко ее грудь, такую невинную, белую, которой никто не касался губами. Никто, даже он – Загорский…
Пахнуло свежестью реки. Вот она внизу, тусклой, теряющейся во мгле полосой. И за этой полосой – неведомое, чужое, враждебное. На том берегу взвилась ракета и, описав огненную параболу и осветив, как вспышкой молнии, все вокруг, – упала. И вслед за этим, – словно кто невидимый быстро-быстро заколачивал гвозди, – сухой, короткий залп. Над головами просвистели две-три пули, и слышно было, как одна из них прошуршала в ветвях.
– Кто идет?
Несколько темных силуэтов словно из-под земли выросло.
Загорский дал пропуск штаба дивизии. Солдат снял фуражку чиркнул внутри ее спичкою, чтоб заслонить огонек от неприятельского берега, прочел записку.
– Так что вас трое?
– Трое!
– Ступай с Богом.
Двинулись вдоль берега. Шли в высокой, влажной траве. Шли с четверть версты. Сели в плоскую рыбачью лодку. Ее относило течением по диагонали.
Чужой берег, круто поднимавшийся в гору, зарос густым лозняком.
Тот, кто был в суконном пиджаке, прошептал:
– Мы так выведем пана ротмистра – ни одна собака не забрешет!
Поднялись на гребень. Прошли еще немного. Тут оба спутника внезапно бросились на Загорского, схватили его за руки, а «суконный пиджак» резко, пронзительно, совсем по-разбойничьи, свистнул. Пока Загорский отбивался, набежало несколько солдат и, стиснув его, скрутили за спиною руки, обыскали, отняли револьвер и потащили за собою.
Западня, самая грубая западня! И как это он пошел на удочку, поверил?! И теперь ему казалось, что и тогда, когда он выслушивал этих каналий, было ясно как Божий день, что они его продадут. Но зачем, какой смысл? Им обещана тысяча, неужели здесь дадут больше?
Его вели долго, и, так как руки были не свободны, он спотыкался. Конвоиры перебрасывались между собою непонятными пленнику мадьярскими фразами. Хотя он не видел солдат, он чувствовал смуглых, скуластых, черноволосых венгров, – так от них пахло острым и крепким потом, и дешевой помадой. Венгерцы все, от аристократа до мужика, любят помадить волосы… Только на войне возможна такая резкая смена впечатлений, только война так играет людьми. Полчаса назад он был у себя, среди своих, свободный и сильный. Кругом трепетали холодными огоньками светлячки, а теперь он весь во власти врага, который может его унизить, заживо сгноить в сырой тюрьме, где капает с потолка сырая слизь, может расстрелять, повесить…
Будь руки свободны, Загорский первым делом сорвал бы наклеенные усы, – таким жалким, лишним, оскорбительным маскарадом казалось это теперь.
А негодяев-предателей и след простыл. Вероятно, побежали вперед похвастать, какого им дурака повезло из него сделать.
Вот уже действительно околпачили!
И все это было так мерзко и гнусно, что он заставлял себя не думать ни о чем, и единственным ощущением были – усы, эти проклятые усы! И как это не сорвали их во время свалки, потому что, охваченный бешенством, он отбивался, пуская в ход и кулаки и ноги по всем правилам бокса, как учил его Лусталло, уже погибший на западном фронте, защищая свою дорогую Францию.
Долго шли.
Вот, наконец, и Залещики, и чем ближе штаб, тем оживленней. Какой-то нечистою силою проносятся мимо, с белым снопом света впереди себя, мотоциклетчики. Автомобили, конные ординарцы, пешие патрули…
У стеклянного крылечка, где раньше теплыми вечерами ксендз в обществе почетных прихожан пил кофе с густыми сливками, теперь стояли два громадных боснийца в фесках. Содрогаясь, тяжело дышит запыленный автомобиль.
Загорского, видимо, ждали в штабе. В низенькой комнате с уютной старосветской мебелью, такой мирной, безмятежной и такой контрастной с этим большим столом посредине, на котором были разложены карты и за которым сидело несколько офицеров австрийских и германских в походной форме… И здесь с первого взгляда бросилась Загорскому разница между теми и другими.
Австрийцы – тоненькие, изящные, подвижные, легкомысленные в своих куцых голубых куртках в обтяжку. Немцы – тяжелые, монументальные, напыщенные, одетые параднее и богаче, держащие себя господами и откровенно презирающие «союзников».
Несмотря на раскрытые окна, воздух в комнате – сплошное облако сигарного дыма. Австрийский генерал, сухой, с подстриженными седыми усиками и «Золотым руном» на шее, обратился по-немецки к стоявшему меж двух мадьярских солдат Загорскому:
– А мы давно поджидаем вас! Давно! Мы знаем вас по вашим портретам… Такой элегантный офицер, и вдруг этот мужицкий костюм.
– Во-первых, я не офицер, а нижний чин, солдат, а во-вторых, я попросил бы для объяснений со мной избрать какой-нибудь другой язык.
Сидевшие за столом переглянулись. Ого, мол, какая дерзость!
Но генерал – он и сам не прочь был щегольнуть французским языком – спросил:
– А вы какими языками владеете, господин Загорский?
– Кроме, конечно, родного, английским, французским, польским.
– Давайте говорить по-французски. Вы знаете, что вас ожидает? Мы можем вас повесить, даже без военного полевого суда. Вы, воинский чин враждебной армии, проникли в наше расположение, одетый мужиком с определенной целью – шпионить. На всех ваших портретах вы бреетесь как англичанин, а сейчас вы в усах.
Генерал что-то бросил конвойным по-венгерски, и они грубо сорвали с Загорского наклеенные усы.
Он рванулся всей силою, но удар прикладом в спину убедил его в бесполезности протеста. Он прикусил до крови губы. Австрийцы улыбались, германцы хохотали самодовольно и громко.
Генерал с «Золотым руном» молвил:
– Ну, вот, теперь вы похожи на себя. Лорд в лохмотьях. Скажите, господин Загорский, вам хотелось бы получить свободу?
– Генерал, и вопрос и ответ на него я считаю праздными.
– Ничуть! Говорю совершенно серьезно… Переходите к нам на службу, мы знаем все. Там у себя вы начинаете карьеру сызнова, между тем как здесь…
С гордо поднятой головой пленник перебил австрийца:
– На такие предложения отвечают руками. А руки у меня, к сожалению, связаны.
– Как вы смеете говорить дерзости?
– А как вы смеете мне предлагать измену?
– Что он сказал? – спрашивали друг у друга офицеры, не знавшие по-французски.
Генерал вспыхнул.
– За такую наглость, Загорский, вас следовало бы часа на три подвесить к столбу. Это действует отрезвляюще на самые горячие головы… У вас есть еще другой путь к освобождению. Это если б русское правительство согласилось взять вас в обмен…
– На кого? – спросил Загорский, невольно улыбнувшись, до того показалась ему забавною мысль австрийского генерала.
– На кого? На одного из трех лиц на выбор: или униатский митрополит граф Шептицкий, или комендант Перемышля, генерал Кусманек, или помощник его, генерал Арпад Тамаши.
– Генерал, или я совершенно отказываюсь вас понимать, или вы убеждены, что перед вами стоит переодетый принц. Повторяю, я – самый обыкновенный солдат с двумя унтер-офицерскими нашивками, только и всего. За меня вы не получите в обмен даже самого скромного лейтенанта вашего. Смею вас уверить! – добавил Загорский, видя, что генерал все еще сомневается.
– Вы в этом убеждены?
– Вполне.
– В таком разе пеняйте на себя. Если вас не повесят – это будет высокой милостью, – то, во всяком случае, вы разделите судьбу ваших пленных солдат. Строгий режим, взыскания, тяжелый физический труд. Вам это улыбается? А между тем стоит лишь захотеть…
– Я не прошу никакого снисхождения, я нисколько не нуждаюсь в нем, – перебил Загорский, понимая, к чему клонит генерал. – Я знал, на что иду, и готов разделить участь всех моих товарищей, имевших несчастье попасть к вам в плен…