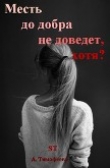Пламя Победы

Текст книги "Пламя Победы"
Автор книги: Николай Асеев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Николай Асеев
ПЛАМЯ ПОБЕДЫ

ВСТУПЛЕНИЕ
Когда мы,
от нечисти землю очистив,
за прутья стальные
загоним фашистов
и сверху, —
чтоб издали видеть, —
отметим:
«Не подходить
престарелым и детям!»
Тогда,
залечив и застроив руины,
подымутся
все города Украины:
опрятен – Пирятин,
и Нежин – оснежен,
и снова доступны
Мерефа и Лубны;
и вот паровоз
станет бодро пофыркивать,
когда через изгородь
выглянет Миргород.
У Гоголя есть
«Страшная месть»;
здесь начата,
но не кончена здесь.
Послушайте струн
перебор серебристый
и жалобный голос
слепца-бандуриста:
«За пана Степана
Седмиградского
жило два казака,
Иван да Петро…»
За труп одного ребенка
Карпаты
дугой изогнулись,
седы и горбаты, —
что сделать
за тысячи судорог детских —
польских,
чехословацких,
советских?!
Встань, казак,
на коне над долиной, —
протянись,
рука исполина!
Вздыбьтесь кверху,
взябшие кости, —
взвив предателя,
в пропасть сбросьте!
Чтоб проходящим
помнилось летам —
кто поле засеял
серым скелетом!
Чтоб на века
не забыть потомкам —
кто реки
кровавым
окрасил потоком!
Я знаю,
жизнь иная настанет:
отрадно представить
во всей красе,
как над Москвой
взовьется блистанье
за каждой заставой
цветным шоссе.
Но время
не выстудит этого пыла,
прожегшего сердце столетья
насквозь.
Давайте припомнимте,
как это было,
как в наших душах
отозвалось.
БЫЛА ЖИЗНЬ
Была жизнь
прекраснее летнего вечера;
ясноглаза,
светлолоба
прелестью облика человечьего, —
гляди на нее
да любуйся в оба!
Была жизнь
прочна и богата:
с затылка до пят
золотой водопад
без примеси суррогата.
Были матчи
футбольные яростные,
брали кубки
братья Старостины,
отбивал «Спартак»
сотни атак
и вклеивал мяч
в чужие ворота
на радость
болельщицкого народа.
Козловского голос
был нежен и сладок,
поклонницами
овладевал
припадок;
нежнейшие ноты
выструивал Ойстрах;
витрины лоснились
в материях пестрых.
Бывало,
весь мир
удивится и ахнет, —
таких подбирали
гроссмейстеров шахмат;
жгучий спор
раздирал противников:
Ботвиннику – Флор
или Флор – у Ботвинника.
Бойченко ставил
рекорды брассом…
Вся жизнь простиралась
чудесным рассказом,
которому
конца не найти,
и все впереди!
Женщины,
словно мухи на мед,
липли к вывескам
«Ателье мод»;
и, не боясь
погоды студеной,
ребята вламывались
в стадионы.
Вы скажете:
что этих радостей праздничных
горстка
перед блеском
Кузнецка
и Магнитогорска?
Но радости эти
живили нам чувства,
нам жить помогали
и спорт
и искусство.
Мы ростом добычи
взрослели в металле,
мы Северный полюс
перелетали,
мы Волгу с Москвой,
обменявшихся грузами,
связали удобными,
прочными узами,
мы нормы работ
переметили заново,
осмысливши труд
по примеру Стаханова.
Тяжелый состав
убыстрение пронесся,
ведомый
искусной рукой Кривоноса.
И знатность людей
утверждалась по праву
труда,
приносившего
гордость и славу.
Страна, вдохновленная
партией Ленина.
Могучесть партийного
окрыления.
Великая слава
везде о нас катится.
Ученые наши
Иоффе и Капица.
А как бескорыстно
нас тешил и радовал
успех математика
Виноградова!
Советские люди
сжились и сдружились,
страна их отметила
и подняла;
читать,
и летать,
и мечтать научились,
повсюду мечты
превращая в дела.
Конечно,
не все было ровно
и гладко,
кой-где и рубец
намечался
и складка,
кой-где и топорщит
брови морщина,
но – всюду дыханье
живого почина.
Конечно,
не все удавалось вначале,
кой-где и, ворча,
головою качали,
но новое семя
и новое племя
ростками острело,
пробившись сквозь время.
Года проходили,
друг друга минуя,
сменяла уборочная посевную,
весне уступали
снега и метели,
колхозы обстраивались
и богатели;
уж им становились
привычны и любы
конюшни, комбайны,
концерты и клубы.
Не тот —
с вековечным гайтаном на ребрах,—
иной восставал
человеческий облик,
еще не описанный,
не воспетый,
сегодняшней жизнью
рожденный —
вот этой!
Жизнь —
гуще сада плодового,
мичуринским яблоком
из-под листка,
зелеными запахами
заколдовывала, —
так далека от нас
и так нам
близка!
ВТОРЖЕНИЕ
Как саранча
на цветущие ветви,
налетели
насильники эти;
люди без слова,
лица без чести —
все, что есть злого,
сплавилось вместе;
все нелюдское в них,
незнакомое:
может, действительно
насекомые?!
Обглодано лето
и зелень примята
в треск мотоциклов
и в дрожь автоматов;
смотровые щели
презрительно узки,
зрачки на прицеле,
и пальцы на спуске.
Железным напором,
бездушным парадом —
по нашим просторам,
по свежим прохладам
двигалась танков
сила тупая…
Наши отстреливались,
отступая.
Смертельной механики
призрак зловещий —
вонзались их клинья
и ширились клещи.
Холодным расчетом,
бездушным парадом,
как бы выдыхая
бензиновым чадом,
спортивной походкой,
загаром на теле
они
на колени швырнуть нас
хотели.
Но мы, изловчась
из последних усилий,
их клещи
зубами перекусили!
И, сами влачась
по кровавому следу,
пошли отвоевывать
нашу победу.
Но – раньше,
чем это сбылось и свершилось, —
сто солнц закатилось
в дыму и в пыли,
сто раз потемнело
и омрачилось
лицо оскорбленной
советской земли!
Оставлен Смоленск,
Житомир,
Винница…
От тела враг
отрывал по куску,
еще немного —
и он придвинется
под самое сердце страны —
под Москву!
Уже он над Брянском навис,
над Тулой,
уже в Калинин
вполз, тупорыл;
везде – автоматов
угрюмые дула,
везде – «мессершмитье»
шуршание крыл.
В тот год
урожай созревал
небывалый:
ломили плечи
хлеба обвалы;
а в поле народа
все меньше да меньше,—
видать одних
ребятишек да женщин.
К чему повторять
неприятеля зверства, —
достаточно это
из сводок известно,
но это
неслыханное злодейство
забыть не старайся,
простить не надейся.
Я видел —
и сердце сжималось от боли,
как колос,
сгорая,
безмолвствовал в поле;
как сироты-копны
чернели рядами,
не вставши,
не выросши
в небо скирдами.
Напрасно на помощь,
объятья раскинув,
спешили к ним
жители городские.
Вся сила полей
поднималась стеною —
и жатки ломались
под их гущиною.
Что сделаешь здесь
без привычной сноровки?
И пальцы не хватки,
и взмахи не ловки;
как ни нагибались
и как ни старались, —
зерно оплывало,
поля осыпались.
Что сделают здесь
старики да старухи?
Где нужные в срок,
позарез,
нарасхват
умелые, сильные, ловкие руки?
Они – на фронтах!
Под ударом – Москва.
Москва под ударом!
И малым и старым
тревога и гнев
обжигают сердца,
лишь весть пролетела:
«Москва под ударом!» —
приспело нам время
стоять до конца.
По волжским белянам,
по камским бударам,
на юг и на север,
в закат и в рассвет
страна всколыхнулась:
«Москва под ударом!
Вставайте,
спешите,
идите к Москве!»
По русским,
грузинам,
казахам,
татарам —
взметнулось,
как яркое пламя в костре:
«Москва под ударом!
Москва под ударом!
На помощь,
на выручку
старшей сестре!»
Холодною сталью,
змеиной дугою
ее окружает
безжалостный враг.
«Скорее!
Не станет столица слугою!
Нельзя отступить от нее
ни на шаг!»
ЧЬЕ ЧУДО?
Казалось,
что все было кончено…
Мокли
поля сражений,
от крови устав.
Уже наблюдали
немцы в бинокли
железный холод
московских застав.
Город – страны основа —
встал на семи холмах,
бренность всего земного
провозвещая в умах.
Город – земли опора,
воли народной стан, —
о, неужели скоро
будет врагу он сдан?
Каменными шатрами
рухнет, теряя след,
высвистанный ветрами,
пустошью страшных лет.
Жил Рим, горд, —
первым считался на свете;
стал лавр стерт
зубом столетий.
Был Карфаген, Сиракузы, Фивы —
сонмы людских существ, —
мир многоликий, пестрый, шумливый
стерся с земли,
исчез…
Что же?
И нам пропадать,
пав победителям в ноги?
Нет!
Это – вражьим глазам не видать
в будущее дороги.
Такими, —
врага не прося о милости, —
на смертный рубеж
вышли панфиловцы.
Что двигало ими?
Выгода? Слава?
Чем были сердца их
воспламенены?
Они были люди
Советской державы,
они были дети
великой страны.
И сердце ее
продолжало биться,
горячую, гневную
кипень гоня,
и с ходу
бросались в атаку сибирцы,
сквозь скрежет стали,
в развалы огня!..
И все же
Москве было очень худо,
и хмуро на запад
глядели все:
казалось,
бездумье идет оттуда —
от Ленинградского шоссе.
Что же тому дивиться?
В небе все та ж звезда.
Так же Москва-орлица
страждала у гнезда.
Так же —
У Крымского вала,
у десяти застав —
грозно она стояла,
крылья свои распластав.
Видела орды Батыя,
слышала чуждую речь,
маковки золотые
не пожалела сжечь.
Тяжести страшной груда
вбила сердце в тоску;
думалось – только чудо
может спасти Москву!
И чудо это случилось!
Памятное число —
лучиком залучилось,
краешком солнца взошло;
ветром времен раздуло
пламя из-под золы:
танками из-под Тулы,
залпами из-за мглы!
Это – с Верхнего Уфалея,
Кировграда, Тагила, Кушвы
поднимаются люди,
болея,
и заботясь о судьбах
Москвы.
Это – с рек Иртыша и Урала,
общей участью
объединена,
очи зоркие в темень вперяла —
в подмосковные дали
страна.
Это – чудо
сплоченного люда,
всколыхнувшего
море штыков;
это – чудо
бессонного зуда
подающих снаряды
станков.
Это – чудо
посеянных всходов,
неусыпных трудов и забот;
чудо новых, могучих заводов,
переброшенных за хребет.
Это – нового племени
сила,
негасимого пламени
страсть, —
все, что выплавила
и взрастила
в четверть века
Советская власть.
И вот я молчанье
песней нарушу,
сложив и припомнив
мазок к мазку
про все, что тогда
волновало душу, —
про новых —
великих времен
Москву.
Не к праху лет,
не к древней были
я воззову…
И вот уж
мнут бронемобили
пути в Москву;
и вот уж мчит мотопехота,
врага врасплох
сбивая влет,
стреляя с хода,
сметая с ног.
Не в мох обросшею руиной,
не стариной, —
Москва встает
среди равнины
живой стеной.
В старинных былях
не ищите:
подобья нет, —
вся юность на ее защите,
вся свежесть лет!
Она,
из каменных пеленок
повырастав,
с Наполеона опаленных
своих застав,
косою плеч своих саженью,
вскрутив снега,
в еще не виданном сраженье
крушит врага.
Артиллеристы
здесь не редкость,
их тесен ряд:
настойчивость,
упорство,
меткость,
скулы квадрат;
и рослых летчиков отряды —
стране родня;
и это – ширь ее ограды
и мощь огня.
Замаскированные в ветки, —
как лес застыл! —
Ждут сообщения разведки
про вражий тыл,
потом, нащупав
вражьи точки,
накроют цель —
и дуб сронил
свои листочки,
а иглы – ель!..
Давно разделали саперы
крутой овраг,
куда, не чувствуя опоры,
сползает враг.
И утро вспыхнет спозаранку
дыханьем мин,
а сверху – бомбы,
с флангов – танки,
и выбит клин!
Такой Москва
стоит повсюду
на сотни верст.
И валит враг
за грудой груды
из трупов мост.
Но вражье зверство
и свирепость —
обречены.
Москва —
неслыханная крепость
живой стены!
ФРОНТ НА ТЫСЯЧИ ВЕРСТ
Была ль то осень
или зима, —
все нынче спуталось в памяти;
казалось,
что время сошло с ума
в своей тарабарской
грамоте.
Я друга давнишнего потерял,
из верных
верного самого, —
ушел в ополчение
и пропал, —
поэта Петра Незнамова.
А сколько
таких же —
незнакомых —
ушло,
неведомых
сколько пропало?
Таких же
и по сие число
забытых Петров и Павлов.
Они собрались
сегодня в кружок,
сосед наклонился к соседу,
и я подойду к ним
на мокрый лужок
беззвучно слушать
беседу:
«Привыкшие
к утратам и потерям,
мы больше
синеве небес
не верим!
Когда над фронтом
катится звезда, —
ждешь грохота
в конце ее следа.
На небе – месяц,
молодой и прыткий,
глазеет вниз, —
еще не сбит зениткой.
Туман,
встающий молча из-за леса,
окутывает дымовой завесой,
и на лугу,
где сладко млеет сено,
приходит мысль
о запахе фосгена.
Пожарищем,
плывущим из-за хат,
дымит восток
и плавится закат.
Ряды кустов,
знакомые веками,
загримированы грузовиками.
Клин журавлей летит:
точь-в-точь —
над рощей
к бомбардировщику
бомбардировщик.
И тополя,
темны и молчаливы,
встают вдали,
напоминая взрывы.
Притворно все…
И на лесной опушке
поют обманным голосом
кукушки».
Сидят партизаны
в лесной стороне,
жуют партизаны
сухарь при огне.
Дымками чуть дышит
родное село,
снегами по крыши
его замело.
Ветер, дик и груб,
клонит дым у труб,
гонит, пригибает,
рвет за клубом клуб.
Над трубою дымы —
хата не пуста…
Страшны, нелюдимы
гиблые места.
Улица села
выжжена дотла,
словно все живое
вымела метла.
Ходит часовой
с «мертвой головой».
Вьюга запевает
нотой басовой.
Чудится ему:
в снеговом дыму
призраки мелькают
сквозь метель и тьму.
Пособи, зима,
посуди сама:
шаг врага попутай,
посводи с ума!
Чисты, непримяты
свежие снега.
Стынут автоматы
в пальцах у врага.
Снега целина,
вьюги пелена,
рухнув, вновь взмывает
воздуха стена.
У врагов в тылу
сквозь буран и мглу
сводные отряды
движутся к селу.
Помоги, пурга,
разгромить врага,
чтобы подкосилась
хищников нога.
Стужа их дерет,
ужас их берет,
ходят, автоматы
выставив вперед.
Не мешай, метель,
нам наметить цель,
чтоб упал захватчик
в мерзлую постель,
чтоб упал-уснул
под метели гул,
под прямой наводкой
партизанских дул.
Орды фашистские,
дики и пьяны,
вторглись в ворота
Ясной Поляны.
Что им Толстой?
Звук лишь пустой!..
Вторглись шакалы
ко Льву на постой.
Все испоганили,
все истребили,
книги пожгли
и деревья срубили:
пусть, дескать, в пепел
испепелятся
самые мысли
яснополянца!
Но со страниц
его книг обожженных —
сотни героев
вооруженных.
Из-за дерев,
подсеченных под корень,
вышел бессмертный народ,
непокорен!
Вот – человечен
и простодушен —
встал со своей носогрелочкой
Тушин.
Вот – невидимка —
Тихон Щербатый
где-то окапывается
лопатой.
Вот – красноликий,
бросающий вызов —
вражьим тылам
угрожает Денисов.
И – егеря
за Багратионом
рвутся в атаку
всем батальоном.
Вот —
остальных многоопытней,
старше,
шрамом отмеченный —
славный фельдмаршал…
Цепи обходные,
сторожевые…
Нет! То – не тени,
то – люди живые!
Вот сам хозяин,
обеспокоясь,
вышел,
засунувши руку за пояс:
грозное что-то
в движении этом,
в дымах,
поднявшихся над портретом.
Взор – на врага он,
брови нахмуря, —
в тульских лесах
подымается буря.
Люди, с ним схожие,
грозны и хмуры,
знают, как с хищников
сдергивать шкуры!
Тех дедов внуки
встали стеной,
все тот же твердый
народ коренной.
Все тот же, кто ясен был
взору Толстого, —
в поход подпоясан
без шума пустого.
Из самых глухих
лесных уголков
враг метится пулей
и пальцем штыков.
Нацисты,
теряя кровавые пятна,
скулили,
притворно возмущены:
«Мы русских разбили,
а им – непонятно:
они продолжают
затяжку войны».
Не нам – а им
непонятно,
как заново
крепчало оружие
партизаново;
как, в опыте долгих сражений
освоено,
взрослело мужество
нашего воина;
как, – все претерпев
и все одолев, —
поднялся народа
праведный гнев!
Хищные звери
с разумом темным,
Гитлер и Геринг,
мы вам припомним!
Жизнь превратившие
в сумрачный вечер,
лязг ваших армий —
не вечен, не вечен!
Куда б ваши танки
ни забежали, —
мы путь перережем им
рек рубежами;
куда б ни залетывать
вашим пилотам, —
станут их кости
гнить по болотам!
Вы к нам прокрались, —
столбы наших крылец
выше порогов
кровью покрылись;
мы опрокинем вас, —
кровь ваша – выше,
выше стропил
заструится по крышам!
Врагу,
в наши домы
посмевшему влезть, —
месть, месть, месть!
Врагу, оскорбившему
нашу честь, —
месть!
Что в мире отныне
священнее есть?
Месть, месть, месть!
Пять чувств у нас было,
отныне – шесть:
шестому названье —
месть!
Пусть слуху желанна
единая весть:
месть, месть, месть!
Пусть вспыхнет на стенах,
чтоб глаз не отвесть,
огромными буквами:
месть!
Врагу, разорившему
столько семейств, —
месть, месть, месть!
Ему не исчислить
и не учесть
неутолимую
месть!
На вражье коварство,
на хитрость,
на лесть —
месть, месть, месть!
Пять чувств у нас было,
да будет шесть:
шестому названье —
месть!..
«ЗА НАМИ ЗЕМЛИ БОЛЬШЕ НЕТУ!»
Когда бандит
забирается в дом,
зажав в кулачище
гирю литую,
свалив свою жертву, —
зачем он потом
еще бесчинствует
и лютует?
Сначала он
упоен удачей;
он руки моет
в горячей крови;
ни слезы женщин,
ни крик ребячий
его не могут
остановить.
Со всем живым
находясь в войне,
он полон угрюмого,
злого задора;
он даже доволен
и счастлив вполне
своей профессией
живодера.
Но вот тишиной
наполняется дом…
Чего ж еще пуще
и злей он лютует?
Он сам себя видит
перед судом
и сам себе приговор
грозный диктует.
Он в зеркала глянул
разбитый осколок
и смертный почувствовал
приступ тоски,
и сизым морозом
нещадный холод,
его ухватив,
потянул за виски.
И, вдвое зверея,
громя и круша,
мозжит он,
хоть кровь уже
лужами рдеет;
он злобно бессмыслен,
его душа
сама собой уже
не владеет.
Пора бы пуститься
давно наутек,
но поздно:
за край далеко
зашел он!
Подошвы окрашены
в крови поток,
и вкус ее
на языке его солон,
Облава уже
оцепила квартал,
и – мнится —
не выйти
из грозного круга,
и жалко расстаться
с тем, что понахватал,
со всем, что в узлы
наувязывал туго.
Вот так
у излучины Волги,
у локтя великой реки, —
разбилась вода
на осколки,
как зеркало на куски!
И он заглянул
в ее ледяную,
в ее оскорбленную,
грозную гладь,
почувствовав волю
иную,
стальную,
с которой нахрапом
не совладать.
Там, где Волга
сближается с Доном, —
со старшей сестрой
разлученный брат, —
земля надрывалась
пушечным стоном:
враги наседали
на Сталинград.
И Дон возмутился
до пенного блеска,
такого не видя
с седой старины.
Враг долго задерживался
у Клетской,
отбитый огнем
с низовой стороны.
И, наконец,
не считаясь с уроном,
под лай минометов
и бомбовый вой
навел переправы
над синим Доном
и вышел
к жиле страны
становой.
Как будто
на древней реке Каяле,
против насилия и грабежа,
вот так же,
насмерть,
люди стояли
защитой берега —
рубежа.
Дивизия «Викинг»,
дивизия «Зигфрид»,
дракона фашистского чешуя, —
то залпами вспыхнет,
то зарево взвихрит,
колючие кольца
клубя и змея.
О, эти кровавые
облака,
багровая от разрывов
река,
и в мины засеянные
поля,
и толом разодранная
земля!
И губ нерасторгнутая
черта,
и горе,
залегшее складкой у рта.
И вдруг это слово —
ракетой
раскрывшее небо опять:
«За нами
земли больше – нету!
Нам – некуда
отступать!»
И посреди
сталинградских развалин
стал человек,
как из стали изваян.
Что он продумал
за дни за эти, —
сложный,
большой
коллективный ум?
Не было выше
нигде на свете
этих простых
человечьих дум.
Пусть не в одной
обстановке военной
смысл этих дум,
возвышаясь,
живет.
Вот этой тайны души
сокровенной —
вольный,
но тщательный перевод:
«Большой человек
стоит на большой горе,
маленький —
на своем холме;
он, точно суслик из норки,
видит свои опорки
на своей
маленькой горке —
маленьком своем уме.
Большой человек
думает обо всей земле,
маленький —
лишь о своей семье;
считанная родня его
не велика,
с ней он не просуществует
века.
Но если народ поднимается
в полный рост,
и волосы его
касаются звезд,
и руки его
распростираются вширь,
то даже и в маленьком сердце
растет богатырь.
Тут его сердца
не задевай, не тронь,
все свое будущее
он кладет на ладонь,
все мелочные страсти
над ним не имеют власти,
он их бросил с размаху
под общий котел
в огонь.
Нынче мы все
стали большими людьми,
в сердце у каждого
больше стало любви,
больше стало у каждого
ненависти к врагу,
жить нам мешающему
на каждом шагу.
Враг стремится
наши сломить тела,
но ему
не уничтожить наши дела;
наши тела – из плоти,
наши сердца – в заботе,
но не пропасть
свободе,
которая нас вела!»
ЕЩЕ ПРИДЕТ ВРЕМЯ
Еще время придет
описаньям дивиться
ленинградских,
одесских,
севастопольских дней.
Их трагедии
ярче дадут очевидцы,
их свидетельства
будут точней
и полней.
Но сейчас,
когда столько событий
толпится
у дверей
и переступает порог, —
как нам нынче приходится
торопиться,
чтобы выполнить
времени
срочный урок!
Какие раны,
какие раны
на чистом,
могучем
теле страны!
Враги рвались,
в разрушении рьяны,
бешеной ненавистью полны.
Они счищали,
как снег с земли, нас,
но снег сжимался
в лед —
под ребром;
распивочно и на вынос
они торговали
нашим добром.
Чужое ж добро
рассыпается прахом
и впрок не идет
тупым наглецам,
а лед
примерзает
не только к рубахам —
смертельным холодом
липнет
к сердцам…
Ты, Севастополь,
и ты, Одесса,
вы, Харьков и Киев,
Курск и Ростов, —
еще вы сумеете
приодеться
в стальные ткани
домов и мостов.
Все, что разрушено
и разгромлено,
сожжено, увезено, —
все будет сосчитано
и установлено,
кирпич в кирпич
и зерно в зерно.
И вы, наши северные праотцы,
древние Новгород и Псков, —
придет пора
и за вас расправиться
со сворами
вас истерзавших псов.
Пускай только выбоины
да ямушки
остались от вас, —
все равно
мы все восстановим
по камешку,
венец к венцу
и к бревну бревно.
И вы, бесчисленные селенья,
заживо выжженные дворы, —
придет и к вам
пора искупленья
врагом обездоленной
детворы.
Где ныне
одни обгорелые печи,
дичая,
в глухой обрастают лопух,
поднимется новая
жизнь человечья,
зажжется огонь,
который потух.
А пока
осквернена и поругана
земля наша
ихней ухмылкой тупой, —
ненависть наша
сталью застругана,
боль нашу
одухотворяет —
бой!
За боем бой,
за схваткой схватка:
и нам не мед,
но и им не сладко!
Я не признаю
описаний разных
о легкой победе
под энским селом;
по-моему,
битва – это не праздник,
а стих – не молебен
и не псалом.
Каждое выигранное
сраженье —
это бойцов
поределых ряды,
это предельное
напряженье
тела и духа,
земли и воды.
Спросите об этом
лицо любое,
только что выдержавшее
тяжесть боя:
«Что было на поле боя?
Как было на поле боя?» —
«Не помню,
не помню,
не знаю!»
Там небо,
должно быть, рябое,
забыв, что оно голубое.
Там буря сквозная!
Там люди —
по крови не братья,
лишь свойственники
по ране…
И летчик,
снаряды истратя,
сам мчится снарядом,
тараня.
Там кровь капитана Гастелло
чертой непогасшей,
падучей звездой
загустела
на памяти нашей.
Там люди,
в гранаты обвесясь,
бросались, себя не жалея,
в последний —
взглянувши на месяц, —
и танки корежились, тлея.
Там волны взрывные
катились,
как волны морские,
и в воздухе плыл пехотинец,
широкие руки раскинув.
И наглостью ложного света
все то, что душа не прощала, —
с небес
подвесная ракета
вокруг освещала.
Так было от моря до моря
на поле великом.
Там было и счастье и горе
в величии диком.
Так было повсюду, повсюду,
а где – неизвестно.
Там было и благу и худу
просторное место!
РАЗГОВОР МАТЕРИКОВ БЕЗ ВЗАИМНЫХ РЕЗКОСТЕЙ
Хорошо
в Соединенных Штатах,
если есть
хоть маленький
достаток,
если есть
хоть маленький
избыток,
если нет
надежд и душ
разбитых.
Хорошо прожить вдвоем
в тихом домике
своем:
горячо трещит
печурка
переливчатым огнем,
хорошо поет
пичужка
в желтой клетке
над окном.
Ну а если вдруг
достатка – нету,
где тогда искать
уют по свету?
Я к тому обращусь,
кто нуждою задет:
мы вместе состарились,
поседев;
вы знаете граждан
своих,
я – своих;
давайте о судьбах
подумаем их.
Наши граждане
широкогруды:
рубят срубы
и роют руды;
труд им люб
и в лесу и в поле, —
наша сила
и наша воля.
Люди наши
миролюбивы:
рек и глаз
широки разливы;
если ж их
глубину затронешь,—
отойди,
захлестнет,
утонешь.
Я видал
рыбаков на Каме:
борода у них
завитками,
прорумянена
в зорях кожа,
говорят они
гулко и гоже,
называют себя
дедами,
а таскают рыбу
пудами.
Я глядел
горняков Урала:
люди —
вечного материала,
и в тайге
и в приморских сопках
нет ни слабых
меж них,
ни робких.
С севера —
Новгородское вече,
с юга —
круг Запорожской Сечи.
Где б нас ветром
ни заносило, —
наша воля
и наша сила!
Если нас
обожжет обида,
промолчим,
не покажем вида,
под ярмо
головы не клоним,
перед петлей
стоим – не стонем!
Если ж сердце
обманут грубо,
сплавим руды
и спалим срубы,
шапку сымем
и кинем оземь,
все оставим
и все забросим!
Нам тогда
все равно – убыток,
в бой пошли —
не считай убитых!
Ваш материк
от нас удаленный;
встанет приехавший,
удивленный,
встанет —
вскружится ум,
как пьяный:
что за народ такой
заокеанный?!
Ваших граждан
свободен навык:
чисты в чувствах
и тверды в нравах,
ходят прямо
и смотрят смело,
ценят время
и знают дело.
Век прошел
и еще полвека,
утвержденных
прав человека.
Но не сразу ж
утихли бури
на Гудзоне
и на Миссури!
Голос пушек
гремел об этом
над неведомым
Новым Светом;
были брошены
пашня с плугом:
дрались яростно
Север с Югом.
Первой стала
свинцом пронзаться
плодородная
ширь Канзаса.
Двое встретятся:
«Юг или Север?!» —
Оба слягут
в смертном посеве.
После посыпались
пули градом,
рея над генералом
Грантом.
Рабовладельцы
крепят подпруги.
Ли собирает
полки на Юге.
Плохо вначале
пришлось северянам:
нету и счету
потерям и ранам;
видно, придется
им жить по старинке:
станут все штаты —
невольничьи рынки.
Но – собираются
новые силы,
но укрепляются
павших могилы.
Нет! Не положат
свободе запрету,
нет, не померкнуть
Новому Свету!
Стоны и выстрелы,
топот и ржанье, —
жадные – сброшены
с седел южане.
Томас и Шерман
и Мир с Шериданом
гонят их вспять
по векам, по преданьям.
Плен их,
отброшенных и помятых,
ждет при селении
Аппама́ттокс.
И засинела
воздухом вольным
даль над Авраамом
Линкольном!
С той поры
эта песня грозна врагам:
«Мы идем за тобою,
отец Авраам!»
Светлеют лица
при этом имени,
сплочаясь
в вольнолюбивом гимне.
Годы прошли,
обгоняя годы, —
а в памяти жив
поборник свободы.