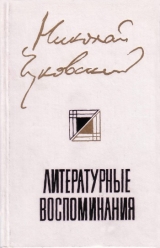
Текст книги "Литературные Воспоминания"
Автор книги: Николай Чуковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Беда заключалась в том, что, оставшись один, он тяжело заболел. Не сразу, а примерно через год. Я хорошо помню, как в начале 1922 года он пошел призываться в Красную Армию. Вернувшись с призывного пункта, он нам рассказал, что врач, выслушав его, сразу признал его негодным. Помню, он был и обрадован этим, и удручен. Обрадован, потому что ему вовсе не хотелось служить красноармейцем, а удручен, потому что узнал, в каком плохом состоянии находится его сердце. Он утверждал, что до этого дня никогда не замечал своего сердца и не думал о нем. Однако очень скоро ему стало плохо. Зиму с 1922-го на 1923 год он безвыходно провалялся на кровати у себя в крохотной комнатке в Доме искусств. У его постели постоянно толпился народ, он по-прежнему острил, стремительно жестикулировал, спорил, громко смеялся. Время от времени он еще выползал из своей конуры на общие сборища и устраивал свои ослепительные «кинематографы». Он много писал и принимал пылкое участие во всех делах «Серапионовых братьев». Но ему становилось все хуже и хуже. В ту зиму я с удивлением обнаружил, что Лева Лунц может быть и удрученным, и раздраженным. К весне ему стало так плохо, что родители мои, очень его любившие, взяли его к себе, и мы с ним начали жить в одной комнате. Он уже не вставал с постели.
Его отец и мать к этому времени переехали из Литвы в Германию, в Гамбург. Зная о болезни сына, они требовали, чтобы он приехал к ним. Они выхлопотали ему визу. И летом 1923 года тяжелобольной Лева Лунц уехал на пароходе в Гамбург.
Сам он верил, что отъезд этот временный, что он вот-вот поправится и вернется. Мы все стали получать от него множество писем из-за границы. Это были длинные и чрезвычайно веселые письма, и мы падали со смеху, когда их читали вслух на серапионовских собраниях. Посылал он нам и свои новые пьесы и статьи, и некоторые из них были тоже прочитаны нами вслух. За границей он продолжал жить жизнью нашего кружка, требовал от нас подробных сведений о каждом, интересовался каждой новой рукописью, каждой книгой, каждой шуткой. И все же из веселых его писем мы знали, что он лежит в больнице и что ему нисколько не лучше. Летом 1924 года до нас дошла весть, что Лева Лунц умер.
Когда-нибудь историки литературы взвесят и оценят и наследие Льва Лунца, и его роль. Я за это не берусь. Я только могу сказать, что Лева Лунц был одним из самых ярких и милых явлений моей юности. И когда я думаю о нем, я вспоминаю наши новогодние встречи,– как встречали мы 1920-й и 1921 год – без капли спиртного, но зато с Левой Лунцем и, следовательно, необычайно весело.
Новый 1920 год мы встречали пшенной кашей. Крупу где-то достал мой папа, он же организовал встречу. Ничего, кроме пшенной каши, не было. Кашу сварила нам Марья Васильевна, служившая еще у Елисеевых, и пировали мы за дубовым столом в елисеевской столовой, сидя на высоких, дубовых, резных готических стульях. Студия тогда еще была молода, и мы не успели еще достаточно ни приглядеться друг к другу, ни сдружиться, ни размежеваться. Из «взрослых» присутствовали папа и Миша Слонимский. Вначале над созданием веселья трудился папа. Он вовлек всех в соревнование: кто лучше напишет сонет на заданные рифмы. Сонеты писались и читались с увлечением, подробно разбирались, как на семинаре. К досаде поэтов, лучшим был признан сонет Миши Слонимского. Но сонетами занимались только пока не наелись каши. Горячая каша подействовала на голодные желудки возбуждающе. Лица раскраснелись, хохот стал громче, и разгорающимся весельем дирижировал уже не мой папа, а Лева Лунц. И началось нечто сверкающее, нечто слишком стремительное, чтобы можно было передать обыкновенными медленными словами…
Год спустя мы опять собрались в Доме искусств для встречи Нового года – 1921-го. За это время все успело сложиться и определиться, и Студия стала казаться учреждением, имеющим громадную историю. Завязалось множество любвей и романов, из которых немало уже успело трагически распасться. И, главное, произошло размежевание, молодежь разделилась на две группы. Сторонники «Цеха поэтов» отмежевались от тех, из числа которых месяц спустя организовались «Серапионовы братья». Размежевание это в то время только немногими осознавалось как политическое. Оно понималось скорее как эстетическое размежевание. С одной стороны были те, кто принимали гумилевские эстетические каноны, с другой стороны те, кто к этим канонам оставался равнодушен. С одной стороны были те, кто отвергал возможность писать о современности, с другой стороны – те, кто считал, что писать о современности необходимо. Образовались как бы две дружеские компании, жившие отдельной жизнью. И во встрече Нового 1921 года принимала участие только одна из этих компаний – враждебная «Цеху поэтов».
На этой встрече не было ни Нельдихена, ни Ирины Одоевцевой, ни сестер Наппельбаум. Из слушателей семинара Гумилева присутствовало только двое – Вова Познер и я. Зато здесь были и первенствовали Лева Лунц, Миша Слонимский, Илья Груздев, Коля Никитин, Миша Зощенко. Девушек присутствовало много, и как раз те, которые вскоре получили почетные звания «серапионовских дам» – Дуся Каплан, Муся Алоркина, Зоя Гацкевич, Мила Сазонова, Лида Харитон. Спиртного, как и год назад,– ни капли. И все же ели уже не кашу, а мясные котлеты. Первый тост провозгласила Зоя Гацкевич, в будущем Никитина, затем Козакова. Каждый встал и поднял свою котлету на вилке. И начался пир. Когда котлеты были съедены, все пошли по дубовой лестнице наверх, в главный зал елисеевского дворца, и там, среди зеркал, позолот, торшеров и амуров с гирляндами, принялись играть в фанты. Потом Лунц устроил «кинематограф», и ночь прошла в бешеном веселье…
Прежде чем приступить к рассказу об основании «Серапионовых братьев», я должен рассказать об еще одном причастном к этому кружку – о Вове Познере. Владимир Соломонович Познер родился в Париже в 1905 году. Он был сыном Соломона Владимировича Познера, который вынужден был эмигрировать за границу. Вова до пяти или шести лет жил в Париже, по-русски не говорил. Летом 1917 года, при Керенском, Соломон Познер с женой и двумя сыновьями вернулся из эмиграции в Петербург. Вова поступил в гимназию Шидловской, на Шпалерной. В одном с ним классе учился сын Керенского Олег, с которым он был дружен. В октябре Керенский бежал, но семья его еще долго продолжала жить в Петрограде, и Олег Керенский продолжал ходить в гимназию. 1918 год Вова провел в Москве, учился у Свентицкой. В 1919 году он вернулся в Петроград и поступил в Тенишевское училище. И я впервые увидел Вову Познера. Он оказался в одном со мной классе.
Это был круглолицый толстяк, черноглазый, с очень черными волосами. К этому времени от Парижа у него уже ничего не осталось,– в том возрасте год кажется громадным сроком, и Вова чувствовал себя в Петрограде так, как будто жил в нем с рождения. Меня сблизила с ним любовь к поэзии. Его стихи, чрезвычайно подражательные, поражали своим совершенством. В его даре было что-то хамелеоновское,– он мог быть кем угодно. Он писал стихи и под Брюсова, и под Маяковского. Мы с ним писали стихи верстами – иногда и совместно,– издавали школьные рукописные журналы, читали стихи на всех школьных собраниях. Когда осенью 1919 года организовалась Студия, я; привел туда Вову и мы вместе поступили в семинар Гумилева.
В Студии он расцвел необычайно и сделался одним из главных действующих лиц. Его шуточные стихи, в которых он воспевал все события нашей студийной жизни, имели огромный успех и у студистов, и у преподавателей. Лева Лунц был нашим драматургом и режиссером, а Вова Познер – нашим признанным бардом. Учился он в семинаре у Николая Степановича, но как раз там на первых порах его стихи имели наименьший успех, потому что Николай Степанович был глух и равнодушен к юмору, а влияние Маяковского, которое все больше ощущалось в стихах Вовы Познера, только раздражало его. Зато приятели Лунца восхищались им. Дуся Каплан и Муся Алонкина были с ним на «ты» и в самой тесной дружбе.
Первое время он, видимо, разделял политические взгляды своей семьи. Об этом свидетельствует глупое четверостишие, записанное им в «Чуккокалу» моего отца в 1919 году. Однако,, попав в кружок Лунца, он очень быстро усвоил господствовавшие там мнения и насмехался над белогвардействовавшими литераторами. Помню, что и у нас в Тенишевском, где мы оба продолжали учиться, он в 1920 году примыкал скорее к тем юношам, которые склонялись к комсомолу, чем к их многочисленным недругам. Впрочем, при размежевании студистов он сохранил хорошие отношения и с «Цехом поэтов». «Цех поэтов» и Гумилев к концу 1920 года стали относиться к нему лучше, чем прежде,– благодаря тем балладам, которые он начал писать и которые имели равный успех у преподавателей обоих лагерей.
Баллады, которые Вова Познер писал зимой 1920– 1921 гг., были, несомненно, интереснейшим литературным явлением. Наиболее характерная из них «Баллада о дезертире» начиналась такими словами:
Вчера война, и сегодня война, и завтра будет война,
А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена.
Для того чтобы представить, какое впечатление производили эти строки, нужно вспомнить, что тогда шел уже седьмой год войны. Дальше говорилось о том, как солдат дезертирует, как его ловят и расстреливают. Кончалась баллада плачем по дезертиру:
А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена,
Но вчера война, и сегодня война, и завтра будет война.
Над его головой голодный волк подымает протяжный вой,
Дезертир лежит у волчьих лап с проломленной головой.
Над его головой раздувайся и вей,
Погребальный саван сухих ветвей.
Ветер, играй сухою листвой
Над его разбитою головой.
Остальные баллады Познера были в том же роде. Характерно, что напечатаны они и во втором альманахе «Цеха поэтов», и в первом альманахе «Серапионовых братьев».
Баллады Познера оказали большое влияние на баллады Николая Тихонова, появившиеся в 1922 и 1923 годах. В то время это влияние было очевидно всем. Тихонов, кажется, никогда даже не встречался с Познером, но, несомненно, испытал сильное воздействие его стихов. Одна из первых баллад Тихонова так и называлась «Баллада о дезертире» и очень близка к познеровской и по тону, и по содержанию:
У каждого семья и дом,
Становись под пулю, солдат,
А ветер зовет: уйдем,
А леса за рекой стоят.
И судьба дезертира кончалась так же:
Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером, сверх пайка,
Шесть золотников свинца.
Вова Познер был одним из, деятельных участников Серапионова братства. Но пробыл он в братстве всего два с половиной месяца. Серапионы организовались 1 февраля 1921 года, а в середине апреля 1921 года Вова Познер уехал за границу.
Родители Вовы Познера тоже оказались уроженцами Литвы и, подобно родителям Лунца, решили воспользоваться соглашением с Литвой, дававшим возможность всем литовским уроженцам вернуться к месту своего рождения. Поступить по примеру Левы Лунца и остаться Вова Познер не мог, – ему не было еще семнадцати лет, он был ребенок и еще не мыслил себе существования без родителей. Я пошел провожать его на Варшавский вокзал. Был мокрый солнечный апрельский день. На одном из дальних путей стоял громадный эшелон из теплушек. В каждом вагоне теснилось более десятка семейств. Плакали дети, громоздились горы утвари, каждый старался вывезти как можно больше имущества, многие везли даже мебель, даже рояли. Эшелон должен был отправиться утром, но отошел только вечером,– все не было паровоза. Весь день бродили мы с Вовой Познером в обнимку по перрону среди груд имущества, не вмещавшегося в вагоны. С нами был и Лева Лунц, провожавший родителей, сестру, брата. Среди этих беглецов, неожиданно для самих себя ставших литовцами лишь бы покинуть страну Советов, было немало знакомых. С этим эшелоном уезжали, между прочим, и графы Рошефоры, два брата – Николай и Александр, мои главные недруги по Тенишевскому училищу. Уже стемнело, когда тронулся поезд. Мы с Левой Лунцем побрели домой.
Сначала Вовины письма приходили ко мне ежедневно. У него был особый, странный, очень выработанный почерк, резко отличавшийся от почерков всех других людей. Уехав, сначала продолжал жить интересами Студии и «Серапионовых братьев». Потом письма стали приходить реже. В Литве семья Познеров прожила всего несколько недель и вернулась в Париж. Примерно через год наша переписка с Вовой прервалась. Владимир Познер перестал писать по-русски и сделался французским писателем.
Впрочем, с воспоминаниями о своей петербургской юности он, видимо, расстался не скоро. Одной из первых его книг, написанных по-французски и вышедших в Париже, была книга о русской литературе. Эту книгу он прислал мне, и она красовалась у меня до тех пор, пока не погибла во время воины вместе со всей моей библиотекой.
Владимир Познер стал деятелем французской коммунистической партии, сотрудником «Humanite», французским литератором. Я снова увидел его только в 1934 году, на Первом съезде писателей в Москве, после тринадцати лет разлуки.
Он был членом французской писательской делегации, приехавшей приветствовать съезд. Мне сказали, что Вова Познер сидит в буфете Дома Союзов, и я со всех ног помчался в буфет. Он сидел за столиком, совершенно такой же, как прежде, только не в толстовке, а в пиджаке. К моему удивлению, он меня не узнал.
– Вова!
Он поднялся со стула и неуверенно протянул мне руку. Но через мгновение мы уже целовались. Помню, как шли мы с ним вдвоем по Тверской, узкой, горбатой и пустынной, и вдвоем вслух читали шуточные стихи, которые вместе сочиняли в Петрограде в годы гражданской войны. В Москве мы с ним разыскали Мусеньку Алонкину и отправились к ней. Она была замужем за латышом-чекистом. Мужа ее мы не видели, а сама она лежала в постели, поблекшая, несчастная, тяжело больная. У нее много лет был туберкулез позвоночника. Она носила, не снимая, металлический корсет и почти уже не вставала с постели. Только улыбка у нее была прежняя – добрая и беспомощная. Обрадовалась она нам необычайно. Это было последнее мое с ней свидание.
В Москве повстречали мы с Вовой и другу нашу приятельницу времен Петроградского Дома искусств – Олю Зив. Мы вместе с нею две зимы проучились в семинаре Гумилева. На съезде она сама разыскала нас в салонном зале. Она теперь была репортером газеты «Комсомольская правда» и до того огазетчилась и обкомсомолилась, что, слушая ее, трудно было себе представить, что когда-то она была девушкой при «Цехе поэтов», пишущей стихи под Гумилева. Впрочем, встречались мы с ней чрезвычайно сердечно. Она пригласила нас к себе, угостила ужином и познакомила с мужем, который оказался работником «Комсомольской правды».
После съезда Познер заехал на несколько дней в Ленинград. Здесь он тоже почему-то был встречен женщинами более пылко, чем мужчинами. Остановился он у Слонимских, потому что Дуся Каплан стала уже к этому времен Дусей Слонимской. И каждый вечер проводил он у Козаковых, потому что Зоя Гацкевич к этому времени была уже замужем за Михаилом Эммануиловичем Козаковым.
Следующая моя встреча с Вовой Познером была заочная – во время осады Ленинграда, в сентябре 1943 года. Военная авиационная газета, где я в то время работал, нуждалась в материале об американской авиации. И я отправился в библиотеку Иностранной литературы, чтобы посмотреть, нет ли там американских авиационных журналов. Эта библиотека была хорошо мне памятна,– основалась она в 1919 году как библиотека издательства «Всемирная литература». И помещалась она в том же месте, на Моховой, 36, как раз напротив Тенишевского училища. Во «Всемирной литературе» отец мой работал вместе с Горьким, и в годы гражданской войны я чуть ли не каждый день после занятий в школе переходил Моховую и шел к отцу в издательство, приветствуемый издательским старичком швейцаром, который называл меня по имени-отчеству, чем весьма льстил моему самолюбию. И вот, спустя двадцать четыре года, я опять оказался в том же доме. Закутанная в тряпье маленькая библиотекарша, без возраста, с опухшим от голода лицом, провела меня через стылые пустынные залы со стеллажами книг и усадила за маленький столик возле окна. Через несколько минут она притащила мне два-три номера толстого американского журнала «Aviation» за 1942 год. Этот журнал состоял не столько из сведений об авиации, сколько из объявлений и разных сенсаций газетного толка. Я довольно невнимательно читал его и поглядывал в окно, где было сумрачно, холодно и мокро. Прямо за окном видел я каменную арку – вход во двор Тенишевского училища. Вид этой арки взволновал меня. В страшные и грустные месяцы осады меня особенно волновало все, связанное с моим детством и юностью. Сколько раз проходил я когда-то под этой аркой! И конечно, вспомнился мне и Вова Познер, с которым в Тенишевском был я неразлучен.
И вдруг, к изумлению моему, я увидел, что Вова Познер глядит на меня со страницы журнала «Aviation». Почти неизменившийся, круглолицый, улыбающийся, в серой кепке. Я принялся читать и вот что обнаружил.
Это был разворот под шапкой: «Что думают французские писатели об Америке». Дальше пояснялось, что речь идет о французских писателях-антифашистах, бежавших в Америку от гитлеровского нашествия. Левая половина разворота была посвящена Женевьеве Табуи (тоже с портретом), а правая – Владимиру Познеру, автору известного французского романа «На острие шпаги». Владимир Познер, находясь в Бостоне, ответил представителю журнала «Aviation», что он любит Америку
во-первых, как француз,
во-вторых, как демократ,
во-первых, как француз, во-вторых, как демократ,
в-третьих, четвертых и пятых я уже не помню…
Но я непозволительно забежал вперед…
В числе основателей Серапионова братства были два человека, никак не связанные ни с Домом искусств, ни с его Студией. Это Федин и Каверин. Оба они вошли в литературный круг благодаря конкурсу на рассказ, организованному Домом литераторов зимой 1920/21 года.
Дом литераторов существовал в Петрограде в те же годы, что и Дом искусств, и занимал особняк на Бассейной улице недалеко от угла Надеждинской. Состав его членов был в основном другой, чем состав членов Дома искусств. В Доме литераторов состояли преимущественно сотрудники дореволюционных газет: «Новое время», «Речь», «Русская воля», «Биржевые ведомости», «День». В годы революции это были ободранные, голодные, стремительно дряхлеющие и безмерно озлобленные люди. По грязноватым его залам бродили стаями полупомешанные старухи вроде Марии Валентиновны Ватсон и, завывая, проклинали большевиков. Проклинали и в прозе, и в стихах. Вспоминается мне какая-то тамошняя старуха, которая, взгромоздясь на эстраду и тряся седой головой, читала свое стихотворение прерывающимся голосом. Каждая строфа этого стихотворения кончалась строками:
Не бросайте якорей
В логовище злых зверей.
И все понимали, что это означает: «Не идите работать на Советскую власть».
Заправляли Домом литераторов два очень бойких человечка средних лет, два расторопных журналиста из «Биржевки» – Волковысский и Харитон. Они устраивали в Доме литераторов мероприятия за мероприятием. Они доставали для членов Дома литераторов кое-какие пайки, – правда, довольно жалкие. Они умудрялись даже в течение двух с лишним лет издавать журнал «Вестник Дома литераторов» – орган контрреволюционной обывательщины. Когда к 1923 году их «Вестник» был закрыт, они оба ускакали в Ригу и основали там русскую белогвардейскую газету «Сегодня».
В Доме искусств презирали Дом литераторов. Презирали дружно, но по разным причинам. Сторонники Горького и Блока презирали их по мотивам политическим, как пособников саботажа и союзников эмигрантов. Сторонники «Цеха поэтов», бывшие сотрудники «Аполлона», презирали их, как всегда все эстеты презирают газетчиков. Студисты унаследовали это презрение от старших. Даже внешне Дом искусств был несравненно привлекательнее Дома литераторов,– в Доме искусств сохранились бывшие елисеевские слуги, которые, надеясь на возвращение прежних хозяев, заботились о чистоте и порядке, а Дом литераторов с каждым годом становился все грязнее и запущеннее.
Но, несмотря на презрение, это не были два совершенно разобщенных коллектива. Связь между ними постоянно поддерживалась. Многие мероприятия Дома литераторов посещались членами Дома искусств, и наоборот. Для члена Дома литераторов нелегко было стать членом Дома искусств. Но многие члены Дома искусств охотно становились членами Дома литераторов. Несомненно, известную роль играли в этом пайки, которые время от времени выдавали членам своего Дома Волковысский и Харитон.
Однажды, например, по городу разнесся слух, что членам Дома литераторов будут выдавать яйца, сбежались все, кто мог надеяться получить, и образовалась длиннейшая очередь. Пришел Волковысский и заявил, что каждому выдается только одно яйцо. Потом принесли яйца, и собравшихся постигло новое разочарование: все яйца оказались тухлыми. В очереди стоял нищий старик – полковник царской армии Белавенец. Он считался литератором, потому что писал до революции книги по геральдике. Он объявил, что охотно будет есть тухлые яйца, и стал выпрашивать их у всех получивших. По этому поводу Георгий Иванов, тоже стоявший в очереди, сочинил:
Полковнику Белавенцу.
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец.
Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.
Стишок этот сохранился у папы в «Чукоккале».
В конце 1920 года у входа особняка на Бассейной появилось написанное от руки объявление, в котором было сказано, что Дом литераторов проводит конкурс на лучший рассказ. Членами жюри были объявлены Евгений Замятин, Аким Волынский, Борис Эйхенбаум, Николай Волковысский и еще кто-то. Я был на том многолюдном собрании в Доме литераторов, на котором Замятин мужественно провозглашал результаты конкурса. Первой премии был удостоен Константин Федин за рассказ «Сад». Одну из поощрительных премий получил Каверин.
Федин служил в то время на какой-то небольшой должности в издательстве «Парус». Это было частное издательство, находившееся на Невском неподалеку от Аничкова моста, принадлежавшее З. И. Гржебину и существовавшее благодаря покровительству Горького. С Домом литераторов Федин был, по-видимому, связан и до конкурса, благодаря своей дружбе с Лидией Борисовной Харитон, дочерью Харитона. Но с литературной молодежью Дома искусств свел его, конечно, Замятин – сразу после конкурса. Федину в ту пору было уже около тридцати лет, держался он солидно, не без важности, и, разумеется, такие зеленые юнцы, как Вовка Познер, Лева Лунц и я, не могли ему быть интересны. Но с Зощенко, Слонимским, Никитиным, Груздевым он сразу сошелся.
Вениамин Каверин (тогда еще просто Веня Зильбер) попал в круг будущих серапионов тоже, по-видимому, благодаря Замятину и Эйхенбауму. Впрочем, решающую роль здесь, конечно, сыграл Лева Лунц, хорошо знавший Веню Зильбера по университету. Каверин был ровесник Лунца и по возрасту подходил скорее к нам, младшим. Это был плотный черноволосый малый с выросшими из рукавов руками. Самолюбиво поглядывал он на всех большими глазами и держался не без заносчивости. Впрочем, я впервые увидел его на первом серапионовом собрании.
История «Серапионовых братьев» примечательна. Это, кажется, единственный в мировой истории литературный кружок, все члены которого, до одного, стали известными писателями. Но выяснилось это только впоследствии. При организации кружка даже сами участники не придавали этому событию слишком большого значения.
Первое организационное собрание «Серапионовых братьев» состоялось 1 февраля 1921 года в Доме искусств в комнате Слонимского. Членами братства были признак Илья Груздев, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Николай Никитин, Константин Федин, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Елизавета Полонская, Виктор Шкловский в Владимир Познер. Название «Серапионовы братья» предложил Каверин. Он в то время был пламенным поклонником Гофмана. Его поддержали Лунц и Груздев. Остальные отнеслись к этому названию холодно. Многие, в том числе и я, даже не знали Гофмановой книги, носящей такое название. Но Лунц объяснил, что там речь идет о собрании монахов, где каждый по очереди рассказывал какую-нибудь занимательную историю. Так как члены кружка тоже собирались по очереди читать друг другу свои произведения, название показалось подходящим. Решили каждому брату дать прозвище и тут же их изобрели. Я их забыл, как забыли их все, потому что никогда впоследствии не употребляли. Помню только, что Груздев был брат-настоятель, а Лунц – брат-летописец. Предполагалось, что Груздев будет исполнять председательские обязанности, а Лунц – секретарские. Но и это не осуществилось. На серапионовых собраниях никто не председательствовал и не велось никакого протокола. Вообще там царило полное равенство, и все организационные мероприятия совершались сообща, скопом. Припоминаю, что Познеру дали прозвище Молодой брат – как самому младшему.
В серапионовском братстве были только братья, сестер не было. Даже Елизавета Полонская считалась братом, и приняли ее именно за мужественность ее стихов. Зощенко прозвал ее «Елисавет Воробей». Однако при серапионовом братстве был, так сказать, официально установлен особый институт – серапионовы дамы. Это были девушки, которые сами ничего не писали, но присутствовали на всех серапионовских собраниях. Вот их имена: Дуся Каплан, Муся Алонкина, Зоя Гацкевич, Людмила Сазонова и Лида Харитон.
На первом собрании было решено, что все присутствовавшие перейдут друг с другом на «ты». Именно с этого дня перешел я на «ты» с Зощенко, с Никитиным, с Груздевым, с Зоей Гацкевич-Никитиной-Козаковой. Но целый ряд «ты» все-таки не осуществился, несмотря на постановление,– между многими не было подлинной близости. В 1954 году Федин встретился с Познером в Варшаве на каком-то конгрессе в защиту мира. Познер прислал ему записку, где назвал его «Костей» и обращался к нему на «ты».
– А ведь мы никогда с ним на «ты» не были!– говорил мне Федин, рассказывая об этом, и был прав. Ни Познер, ни я никогда не были с Фединым на «ты» – слишком велика была между нами разница в возрасте; в 1921 году он относился к нам обоим как к ребятам.
При основании «Серапионовых братьев» оказались, конечно, и обойденные, непринятые. Помню, как разобиделся Николай Катков, товарищ Лунца, Зощенко, Груздева и Никитина по семинару Замятина тем, что его не приняли. Вообще проникнуть к серапионам было нелегко. Они сразу же составили замкнутый круг. После основания в братство были приняты только двое – Всеволод Иванов и Николай Тихонов. Об этом я расскажу ниже.
Серапионы встречались раз в неделю в комнате у Слонимского и читали друг другу свои произведения. Помню, как Зощенко с колоссальным успехом читал свои рассказы «Виктория Казимировна» и «Рыбья самка», как Слонимский читал рассказы, которые впоследствии вошли в его книгу «Шестой стрелковый», как Лунц с неистовой пылкостью читал свою трагедию «Вне закона», как Каверин читал свои фантастические рассказы про Шваммердама, а затем повесть «Большая игра», как Федин читал отрывки из «Городов и годов». Я не в состоянии восстановить в памяти порядок этих чтений, хотя помню каждое из них в отдельности. Произведения следовали одно за другим, создавая ощущение щедрости, изобилия, наполняя всех чтецов и слушателей гордой радостью. Вообще первый год существования «Серапионовых братьев» был для них годом удивительного подъема. На глазах у нас создавалась новая литература, способная изобразить мир, никогда никем еще не изображенный. Каждое чтение казалось открытием и волновало до боли, до счастья.
Теперь, спустя десятилетия, перечитывая первые литературные попытки серапионов, трудно понять, как они воспринимались тогда. С тех пор революция была не раз изображена несравненно ярче, мощнее, прямее – в «Тихом Доне», в «Хождении по мукам», в «Разгроме», в «Чапаеве». Серапионовские произведения тех лет кажутся сейчас покрытыми коростой литературщины, манерной замятинщины. Но для тогдашних молодых литераторов, воспитываемых в грубых и тупых формалистских представлениях о внеисторической ценности литературных приемов, эта короста казалась неизбежностью. Не замечая этой коросты, мы с восторженным удивлением обнаруживали и блестки новой речи, впервые входившей в литературу, узнавали новые бытовые отношения, чувствовали все страсти своего времени, так жарко обнимавшие нас. И с каждым днем все ярче сиял нам юмор Зощенко, неповторимый, человечный, мудрый.
На первых порах все были очень дружны или казались очень дружными. Еще неравномерное распределение успехов не породило зависти и неприязни. Кроме официальных еженедельных собраний было еще множество неофициальных – фактически все встречались почти каждый вечер. Комната Слонимского превратилась как бы в постоянный штаб братства. Несколько в стороне стоял один только Виктор Шкловский – все-таки он был литератор другого поколения, начавший значительно раньше и не сливавшийся с остальными серапионовцами полностью. Да и не особенно он был, по-видимому, интересен таким серапионам, как, скажем, Никитин или Зощенко, не отличавшимся особой склонностью к теоретическим умствованиям по поводу литературы.
Был у серапионов такой обычай. Если одному из них что-нибудь в разговоре казалось особенно любопытным, он кричал:
– Моя заявка!
Это означало, что любопытное событие или меткое слово, услышанное в разговоре, мог использовать в своей литературной работе только тот, кто сделал на него заявку. В беспрерывной оживленной трескотне, не замолкавшей на первоначальных серапионовских встречах, возглас «Моя заявка!» раздавался поминутно. Иногда двое или трое одновременно выкрикивали «Моя заявка», и возникал спор. Это не означало, что все эти заявки действительно использовались. Тут скорее было кокетничанье своей силой: все, мол, могу описать, что только захочу.
И действительно, ощущение своей силы у каждого в то время было огромное. Целина лежала перед ними: новый мир, который предстояло изобразить. Они не сомневались в том, что это им удастся, и чувствовали себя могучими, как титаны.
Я присутствовал при первом посещении серапионами Горького – при том посещении, которое описал Каверин в своей статье «Горький и молодые» (Знамя. 1954. №11. 158—167).
Каверин хорошо запомнил это посещение, потому что оно было его первой встречей с Горьким. Для Федина и Слонимского встреча эта была далеко не первой. Я тоже и раньше бывал у Горького на Кронверкском. Однако это посещение ясно помню.
Каверин хорошо описал большую низкую тахту в кабинете у Горького. Тахта стояла как раз против письменного стола, и, когда Горький сидел за столом, лицо его было обращено к тахте. Мы расселись на тахте (те, кто поместились, я, например, не поместился и сел на стул справа от тахты, у окна), Горький сел за стол, и началась беседа, в которой говорил почти один только хозяин. Я не произнес, конечно, ни слова, Лунц, Федин, Груздев отваживались лишь на робкие реплики, раза два что-то промямлил Слонимский. Горький, отделенный от нас плоскостью своего большого стола, говорил долго, назидательно и однотонно.








