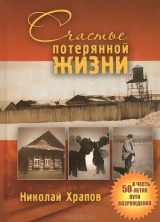
Текст книги "Счастье потерянной жизни"
Автор книги: Николай Храпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Да, начальник, это так... вижу, что вы говорите от души, да душа-то у вас не приимет Бога, потому и клонит к упорству против Него. Есть такой житейский пример, он как раз подходит к понятию о моей преступности. Два человека, молодой и старый, взялись работать на одном огороде – сажать картошку. Грядки у них были разные, разными были и семена. И вот они заспорили. Старший стал доказывать младшему, что его семена лучше, грядки аккуратнее и у него выйдет хороший урожай, в то время как у его напарника роскошной будет только ботва. Молодой не прекословил, лишь заметил кротко: "Посмотрим осенью". Старший рассердился и давай дубасить младшего. Сбежались люди, спросили: в чем дело? И тогда старший, не дав открыть рта своему напарнику, возвел на него напраслину. Какова же у него честность? Так и вы: привели меня сюда под дулом револьвера и хотите тем самым доказать правдивость своих идей, да и меня склоняете стать вашим учеником. Нет, начальник, – вы сумейте победить меня так, как победил Христос, тогда я и сделаюсь вашим учеником. Но поскольку вы на это не способны, то я всегда буду казаться вам преступником.
Тут все заговорили, перебивая друг друга, взоры их метали гневные молнии в сторону Павла, самые нетерпеливые выскочили из кабинета, брызжа слюной, и скоро Павел остался наедине со следователем.
И снова Павел ощутил в себе непомерную силу, дающую ему власть над гонителями и власть эта выше его сил и его понимания, она – оттуда и она неисчерпаема. Он приободрился весьма заметно.
Следователь же будто невзначай открыл ящик стола, вынул оттуда револьвер, будто играя, направил его на Павла, прицелился... щелкнул курком – Павел не шелохнулся, он смотрел прямо в глаза истязателю и лишь внутренне напрягся, однако незаметно для постороннего взгляда. Следователь с досадой отбросил оружие.
– Владыкин, на тебя поступило одно свидетельское показание, – подняв какую-то бумажку, буркнул он. – Будто бы ты, рассуждая с одним человеком о "П"-образных опорах для электросетей, выразился в том духе, что мол, случись неустойка с большевиками, ты их всех перевешаешь на этих перекладинах. Верно ли это?
– Начальник,... виноват: гражданин начальник – вы оказались весьма способны на то, чтобы собирать всякую грязную ложь обо мне. Допустите, что подобную нелепицу я бы сказал про вас. Так что же вы, со своим револьвером, которым только что хотели напугать меня, не расправились бы тотчас с двадцатилетним парнишкой? Не думаю. К тому же, всего три недели тому назад Владыкин выступал в клубе с речью о коммунистическом воспитании молодежи. Как можно оправдать такое противоречие?
Следователь встал.
– Ладно, Владыкин, – хватит на сегодня. Иди в камеру. По правде сказать, мне по душе твоя прямота и откровенность... ты мне даже... нравишься. Ну да ладно, там посмотрим...
На обратном пути Павел ничего не чувствовал, кроме благодарности в душе Господу и весь переполнялся жаждой хвалы за те чудесные откровения, которые произошли в его сердце. Он готов был припасть к стопам Господним прямо тут же, на тюремном дворе. Он готов был расплакаться в приступе благоговейной благодарности. Он сиял.
Ему вспомнились эпизоды из произведения Сенкевича [4] "Камо грядеши". Он читал и другие, подобные книги, в которых рассказывается о мучениях первых христиан, о смерти их на кострах, в пасти разъяренных зверей на цирковых аренах, в подземельях "святой инквизиции". Вспоминал и удивлялся: откуда эти простые люди черпали силу? Что придавало им уверенности в том, что в мученической смерти за Христа содержится высшая истина? Кто питал их стойкое сопротивление гонителям? Помнится, в свое время у него роились сомнения: не литературный ли вымысел перед ним? Как это можно улыбаться собственной смерти? Теперь он знал: велико чувство радости в страданиях за Христа, Сам Бог посылает Духа Святого защитнику истины. Воистину сильны слова Иисуса Христа: "И не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас" (Мф, 10:20).
В камере его встретили скорбные, унылые лица. Да и могут ли узники испытывать иные чувства, кроме горечи, безнадежности, страха? Поэтому, увидев сияющую улыбку на лице Павла, к нему бросились с расспросами:
– Отпустили? На волю!? Неужто свобода? Расскажи!
С душевным подъемом Павел подробно пересказал суть беседы со следователем, буквально повторил вопросы и ответы и, мысленно возвращаясь в тот кабинет, вновь испытал необыкновенную радость.
В своем мнении почти все арестанты были единодушны: Павла должны отпустить. Лишь один из сокамерников Павла мужчина хмурый и неразговорчивый, не открывший никому из своих товарищей по несчастью ни души ни сердца, но частенько поправлявший Павла краткими советами, получивший прозвище "Бродяга" из-за тех лохмотьев, которые были надеты прямо на голое тело, мрачно процедил сквозь зубы:
– Скорее нас, закоренелых преступников, распустят по домам, чем выпустят этого невинного юношу.
Павел вздрогнул, мрачное предсказание охладило радость:
– Почему вы так думаете?
– Да потому что для наших хозяев такие, как ты, опаснее всего. Что такое мы? Сорняк на дороге в светлое будущее. Не вырвешь летом, осенью он сам засохнет. В тебе же сокрыта сила новой жизни. Она, как виноградная лоза: осенью срежешь, весной жди новых, еще более сильных побегов, выкорчуешь остатки корня проклюнутся в другом месте.
Павел сидел нахмурившись. Бродяга, видимо, решил, что переборщил:
– Жаль мне тебя, прости... Но не отпустят тебя, парень, не для того сажали. Много предстоит пострадать тебе, много. Большая борьба ожидает тебя впереди, большая. Если ты, конечно, не оставишь своей веры, не отклонишься от своего учения. Сумеешь выстоять – счастлив будешь сам и другим путь к счастью укажешь, не выдержишь – умрешь с позором.
Впервые узники слышали столь длинную речь из уст Бродяги.
– Счастье, мой милый, есть в жизни, есть. Но не дается оно в руки запросто, нужно многое потерять, чтобы достичь его и жить им. Ты встал на правильный путь, смотри – не сбивайся с него, не сбивайся, да. Если уж ты в постылой тюрьме сумел загореться огнем веры, то не бойся – куда бы не загнали, твой свет будет с тобой, с тобой, да. Иди и свети миру!
Бродяга смолк так же внезапно, как и начал свою назидательную речь. Испещренное глубокими морщинами лицо его свидетельствовало о давней, пережитой им с величайшим трудом, муке, жизненной катастрофе. Видимо, в свое время сильные, страстные, непомерные чувства владели им безраздельно, пока не порвали тончайшие связи с этим миром. Ссутулясь, вернулся он на свое место на нарах и погрузился в тяжкую, безнадежную думу.
После его слов примолкла и камера. Тосковал и Павел.
...И пролетели в его памяти те времена, когда семья распалась после ареста отца, пролетели вагоны с арестантами, пролетели архангельские дни и ночи. Теперь и сам он за тюремной решеткой, ходит по тюремному двору и нет-нет да и покажется ему, что войдут вот в камеру надзиратели и объявят, что сидит по ошибке. Воля!
Несбыточные мечты угасли вместе с последним лучом заходящего солнца. Тяжко вздохнул колокол, извещая о наступлении ночи. Заснул Павел. Тишина нарушалась мерными шагами тюремного стража. Ночь. Сумрак. Тьма.
Между тем допросы продолжались. Следователь ярился, стучал по столу кулаком, швырял папки, в гневе выскакивал из кабинета и тут же возвращался, чтобы задать новый вопрос, чаще всего касающийся истоков Владыкинской веры. Уже в который раз Павел объяснял, что с детства полюбил Бога, ходил сначала с бабушкой в православную церковь, а потом, уже с родителями, в собрание баптистов. Следователю все казалось мало, он кричал, угрожал Павлу "засадить его на всю катушку", вынуждал к ложным показаниям, но Павел твердо стоял на своем: веры он не предаст, вымышленные же факты отвергал с удивительным спокойствием.
Наконец, следователь выдохся, устало попросил назвать некоторые фамилии из тех, кто вместе с Павлом посещал собрания. Павел не хотел ввязывать в свою историю никого из братства, но, поразмыслив, заключил, что в этом нет ничего худого, и указал двух-трех братьев.
Спустя несколько лет Павел случайно узнал, что все они были тут же арестованы. Но в то время следователь и ухом не повел, услышав имена, лишь переменил отношение: вдруг чаю предложил, подсел поближе и по-свойски предложил рассказать, чем занимались в общине названные им души, где жили, как работали. Добродушный тон заронил в сердце Павла сомнения: тут что-то не так. И хотя многого о жизни этих братьев Павел и не знал, да и что за секреты могли быть у тех, кто открыто служил в собрании, но все же внутренний голос подсказывал ему осторожность. Казалось бы, что греховного сделал Иуда всего лишь подошел к Учителю и поцеловал Его, а вот оказался же предателем. Нет, и ему нельзя откровенничать с внешним.
– Что ж ты замолчал? – помешивая чай и тонко позвякивая ложечкой, спросил следователь. Он сидел в уголке дивана, по-домашнему закинув ногу за ногу, вид у него был скорее утомленный, нежели грозный. – Имена назвал, а чем они занимаются – таишь. Понимаю – не хочешь прослыть предателем? Не бойся – отсюда ни одно слово не выпорхнет. К тому же мы и сами все разузнаем, так что зря упрямишься...
Тут он как-то искоса взглянул на Павла, тому даже почудился хищный огонек, мелькнувший и тут же пропавший, но такой страшный, что Павел невольно поежился.
– Да что я там знаю... Был маленький, когда ходил на собрания, уже не помню ничего...
– Ну-у, – разочарованно протянул следователь, – не похоже это на тебя, Владыкин. То ты выступаешь как профессор философии, то вдруг невинным юнцом прикидываешься. Так не пойдет. Или ты думаешь, что мы не знаем о прежнем доме, где вы проводили собрания? Знаем. Знаем и то, что баптисты собираются по домам тайно, и отец твой бывает на этих собраниях – все знаем. Но ты должен помочь следствию, ты должен указать адреса, тем самым и свою участь облегчишь.
Он так льстиво улыбнулся вдруг, что еле брезжившее в душе Павла желание не предавать христиан, сразу приобрело форму законченной мысли: ни одного имени больше не называть, стоять на своем.
– Адресов не знаю, имен не помню.
– Ах ты вот как! – взревел следователь и кинулся к Павлу с явным намерением вцепиться ему в волосы, но тут дверь кабинета открылась, следователя позвали.
Павел перевел дух. Если бы кто-нибудь попробовал описать сцены допроса, то наверное, он указал бы на признаки явной духовной борьбы двух представителей рода человеческого, один из которых, с посеревшим, точно безводная почва, лицом, с клочками волос, торчавшими в разные стороны с угрозами нападает на другого, спокойно взирающего умными, темными глазами на бесплодные попытки сатанинской силы сокрушить дух христианина. Вернулся следователь еще более взвинченным.
– Будешь отвечать? Или я тебе... Ух!
– Конечно, буду, – ответил молодой человек. – Смотрю на вас и думаю: до какой степени может измельчать честный большевик, если вы честный, чтобы допускать подобные нападки, выуживать адреса, грозить всяческими карами... Трудно поверить, трудно. Но это так! Но ведь вы отлично должны знать, что только правосудием утверждается любой престол, тем более отвоеванный народной кровью у самодержавия. Что вы со мной сделали только за имя Иисуса? Оторвали от семьи, отчислили из университета, бросили в тюремные застенки и здесь, не находя никакого мало-мальски приличного повода для обвинений, бесчестно приписываете мне небылицы, о которых я ничего не знаю. Если вы не сумели убедить меня в высокой духовной нравственности примером действительности, то какой пример морально чистого человека подаете лично вы? Два года я наблюдал за страданиями моего безвинного отца и его единоверцев и поначалу считал это ошибкой частных лиц. Но теперь, на своем опыте, я убеждаюсь в жесточайшей несправедливости общества, которое по большей части и состоит из таких, как вы.
Следователь закашлялся, вдохнув воздуха, хотел сказать что-то гневное, но приступ кашля надолго прервал его угрозы. Наконец, отдышавшись, зло бросил:
– Много ты обо мне знаешь! Я член партии большевиков, вступил еще до революции, за свою идею сидел в царских тюрьмах, здоровьем заплатил, как видишь, – чахотку нажил. Тебе надо пожить, Владыкин, чтобы иметь суждение о большевиках и обществе, которое мы строим.
– Конечно, я молод, многого не знаю, но различать подлость от честности научился рано. И вот не могу понять одного: как получилось, что тюрьмы остались прежние, и чахотка в них та самая, и вы знаете ужасы допра, тем не менее, засадили меня только за то, что я люблю Иисуса Христа? Не укладывается в голове, чем я вреден обществу?
Следователь сложил бумаги, давая понять, что разговор закончен:
– Ладно, Владыкин, вижу, мы не договоримся. Сейчас я позову твоих товарищей по производству, пусть и они побеседуют с тобою.
Он вышел. Павел усердно помолился Богу, вознеся Ему сердечную благодарность за дарованную стойкость, твердость духа и мужество. Особенно молился Павел за то, чтобы Господь и впредь удалял из его сердца страх перед обвинителями.
Пришли парторг и начальник производственного отдела. Лица у них были испуганны. Неловко озираясь, они с опаской присели на краешек диванчика, очевидно, ожидая от Владыкина какой-то выходки. Павел же встретил их с улыбкой. Пришедшие оживились, шепотом признались – на ту минуту следователя не было в кабинете – что им здорово влетело за него, по партийной линии им влепили выговор за то, что не сумели вовремя распознать в нем этот религиозный дух и не остановили его. Больше всего же досталось им за разрешение выступать в клубе с пропагандой своих убеждений. Виноватились: вызывали-то их для свидетельства против него, Павла, но они откровенно признались, что не находят в себе сил идти против совести. Одним словом, вышло так, что в коллективе ничего не знали о веровании Павла, и его выступление в клубе для всех оказалось неожиданностью.
Правда, начальник отдела все же попытался как-то повлиять на Павла, заметив соболезнующе:
– Мне досталось больше всех. Я принял тебя на работу, ты был у меня на виду... да что там, я и теперь скажу, что ты отличный парень, хороший работник. Но жалко мне тебя. Пропадешь ведь. Оставь ты свою веру, возвращайся в отдел, работы полно, будем вместе... Вот и крестный твой, Никита Иванович перед смертью просил: "Передайте Павлу, чтобы он, не обдумав дела, не совался за него в пекло, уж коль убедится в правоте, тогда только пусть идет с правдой, с ней и в огне не сгоришь!".
Павел слушал их, улыбаясь.
– Иван Григорьевич! Да ведь ты знаешь меня с пеленок. И отца моего и мать мою знаешь, и честность Никиты Ивановича тебе известна. Как же ты можешь так: в газете, в выступлениях на собрании коллектива, да и здесь в протоколе с твоих же слов записано, что я – пережиток капитализма, классовый враг, что я прокрался – именно "прокрался" в коллектив, а теперь хочешь убедить меня в твоей искренности и чистосердечности? Какая же цена твоей чистосердечности? Ну, предположим, я и отрекусь от веры и вернусь обратно, что же ты тогда обо мне будешь говорить? И главное – как мы будем выглядеть в глазах у народа? Вот и крестный, доброй памяти, говорил о правде, с которой и в огне не сгоришь! Вот это отцовский наказ. А тебе, случаем, не следователь поручил разубедить меня?
Парторг как воды в рот набрала. Начальник отдела встал:
– Ладно, Павел, может и не свидимся более в жизни, но ты зла на меня не держи. Я тебя люблю, потому что ты счастливее меня, а почему – ты поймешь после.
Тут вошел следователь, Павла отвели в камеру, а заводские "товарищи" еще о чем-то долго говорили за плотно притворенными дверями.
Павел не знал, что в ту минуту, когда его вывели черным ходом из комнаты допросов и повели в тюрьму, в том же здании оказалась и мать его. Луша чуть ли не лицом к лицу столкнулась с заводскими.
– Ну, Владыкина, – жестом приглашая Лушу сесть, начал следователь, – мы пригласили тебя для допроса по делу твоего сына, Владыкина Павла. Показания твои должны быть честными, правдивыми, говори без утайки – от твоих слов будет зависеть и судьба твоего сына.
Луша прослезилась:
– Я уж все давно поняла, начальник, еще когда мужа забирали, теперь вот дитя отняли. На все скажу только одно: я ему мать, вот и весь сказ.
Следователь изумился:
– Дак ты что, и протокола не подпишешь? Да ты знаешь...
– Знаю, начальник, знаю: черёд только за мной и остался. Подумали б сами – а за что?
– За что – это дело судьи, а сейчас – говори!
– Да я уж сказала: мать я ему, чего ж добавить?
– Лукерья Ивановна, а сколько вы классов закончили?
– Полторы зимы ходила в церковно-приходскую школу, после Рождества мать моя бросила букварь в загадку (пространство между стеной и печью) и сказала: хватит! Буквы научилась различать и все, вон Полюшку некому нянчить, пояснила Луша.
– Гм... неграмотная баба, а как сумела воспитать сыночка: не знаешь с какой стороны и подступиться к нему.
– А что он: обругал вас, или ответил гордо? Может, сделал что не так, аль в чем ином провинился?
– Да нет, – с досадой процедил следователь, – отвечает он не гордо, он вежливый и делать ничего такого особого не делал, да у него ж на все готовый ответ имеется. Как ты сумела воспитать такого? – уже с чисто человеческим интересом спросил следователь.
– Нача-альник! Да в ваших же школах он и учился, все ваши книги по ночам читал, ваши его и хвалили, да поднимали выше и выше. Я что – я неграмотная, эдак-то вы его воспитали, с ним и толкуйте.
Луша ответила довольно независимо и вновь привела своего собеседника в волнение:
– Хватит с нас нравоучений! Иди домой! Видно, правду говорят: яблоко от яблони недалеко падает. Какая мать, таков и сыночек.
Тем и кончилось. Павлу через несколько дней объявили:
– Следствие по твоему делу, Владыкин, закончилось... из-за недостатка доказательств твоей виновности суд не принимает дело в производство. Но... Но! – тут следователь многозначительно поднял указательный палец. – Учитывая твое влияние на общество, и в особенности на молодое поколение, учитывая опасность твоих... несовременных идей... на волю мы тебя не отпустим. Мы загоним тебя туда, куда Макар телят не гонял. А там из твоей головы живо выбьют этот опиум. Помни: мы с тобой не расстанемся, пока ты не расстанешься со своим Иисусом. Понял?
– Понял, начальник. На это заявление у меня есть только один ответ: "Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом" (Пр. Сол. 19:21). Так говорит Святая Библия. Простите меня, что я отнял у вас столько времени, защищая истину. И все ж таки один раз нам придется еще с вами встретиться, только не на моем суде, а на вашем перед судом Божиим. Если, разумеется, вы к тому времени тоже не покаетесь и не станете христианином.
Возвращаясь в камеру, Павел чувствовал себя как Давид после сражения с Голиафом. Но, переступая порог камеры, он увидел не ликующие толпы, а те же серые лица арестантов, среди которых началась его жизнь, и неизвестно сколько будет продолжаться. Да, с каждым днем он убеждался: борьба только начинается и кто скажет ему, с какими противниками придется схлестнуться, какие опасности преодолеть и как выдержать несносную муку одиночества. Одиночества? Павел улыбнулся: нет, с ним его Бог!
То, что следствие закончилось, даже слегка огорчило Павла: отныне ему не придется вступать в сражения со следователем, в которых он свидетельствовал о Господе. Но значит, будут другие обвинители? Что ж, он должен не терять присутствия духа.
Тех арестантов, у которых следствие подошло к концу, из нижней камеры переводили наверх, в ожидании этапа. Павел даже был рад этому: опостылела ему и камера, и тюремный двор, и лица конвоиров, их окрики и тычки. Вместе с ним "подняли" и Бродягу – Павел обрадовался ему, как родному. И еще маленькая радость – вместо нар тут оказались кровати. Из двух широких окон открывался чудесный вид, Павел надолго прилип к решетке, жадно вдыхая свежий ветер с воли.
Присмотревшись, узнал дом Максима Федоровича Громова, в котором протекали его детские годы, узнал тенистый сад, из чащи которого он наблюдал за арестантами, когда они перелезали через тюремную стену, надеясь на краткую побывку и свидание с семьей. Может, из этого самого окна выглядывал и Рябой Серега, отвечая на приветствия отца? Может, и он также любовался речкой, синеющей вдали – речкой, воды которой впервые подхватили щупленькое тельце маленького Павлушки и вынесли на широкий простор, научив барахтаться в реке и плыть в жизни. Павел проследил взглядом извилистую ниточку реки и уперся в дальнюю церквушку с непомерно высокой колокольней – помнится, звон у этих колоколов отличался необыкновенной бархатистостью.
С реки кривоногие возчики, шагая рядом с телегами, груженными голубыми кубиками льда, голосисто понукали лошадей, их возгласы: "Н-но, родимая!" далеко разлетались в весеннем воздухе. Стайки воробьев дрались на размякшей дороге, уцелевшие, ноздреватые сугробы влажно синели у подножия тюремной стены. Да что говорить – одно слово – воля!
Сегодня Павлу исполнился 21 год. Помнится, в день рождения бабушка непременно пекла пахучие лепешки, которые он ел, макая в конопляное масло. Любила бабушка внука, ох, любила! Знает ли она, что внучек ее, вместо крепкой жилистой руки ее, обнимает холодную решетку, так грубо разделившую его жизнь с привычным семейным укладом Владыкиных?
Сам не замечая, Павел часто-часто заморгал ресницами, сгоняя слезу.
– Да ты оглох, что ли! – Бродяга толкнул его в плечо. Тебя на свидание вызывают.
В дежурке толпились люди, пахло вареной картошкой, жареным луком, ванилью от пышек и сырой овчиной деревенских полушубков.
– Родимец ты мой! – услышал он знакомый вопль. Пригляделся: никак Катерина. – Дитятко ты мое!
Павел не успел опомниться, как бабушка, обвисла на нем, и он ощутил такой знакомый, пахучий, домашний запах... тех самых лепешек с конопляным маслом. Не забыли!
С Катериной пришла и мать, меж ее коленок таращилась младшая сестренка, старательно обсасывая палец. Павел радостно расцеловал всех.
– Как велика милость Божия ко мне и Его любовь, – расчувствованно говорил он, разглядывая сияющими глазами родных, ощущая их тепло и, конечно же, пробуя горячие лепешки.
– Я тебе, сыночек, все обскажу, во-первых, о заводе. Как тебя заарестовали, уж такого я наслушалась о тебе... позор, страшно сказать! Ну, это начальство в основном, да еще некоторые, несамостоятельные в основном. А народ за тебя, Павлуша, за тебя. По городу прохода не дают, как только узнали, что я мать твоя. И все подходят, утешают, а сами дивятся: как, мол, такой молодой да грамотный, а уж такой божественный?
Луша всплакнула, потом спохватилась:
– А в газетах позорят! Пишут, что только им вздумается. Да ты, сынок, на них не обращай внимания, крепись – Бог правду Сам защитит!
– Ты-то как? – еле успевал вставлять Павел.
– Да так. Из цеха турнули. То хвалили-хвалили, везде я у них передовая мастерица, а тут – бац, да с завода долой! Я уж и уборщицей просилась – да куда там! И близко к заводу не подпускают.
– Ну и как же ты?
– Да так вот, по богатым людям хожу, стираю кому... А хлеб-то без карточек дают и то Слава Богу! Между тем надзиратель, расхаживавший между родственниками и арестантами, уже несколько раз замедлял шаги, поровнявшись с Владыкиными. Последние слова Луши его точно пришпилили к месту:
– Да что ты говоришь-то? С ума сошла: сын в тюрьме, а она радуется! Бабка, – обратился он к Катерине, – вразуми ты ее. Парня надо на добрый путь наставить, ведь ни за что пропадает, да и я вижу – неиспорченный он, не злодей какой-то, а сидит за веру, точно разбойник, что ж за вера такая, для чего, ради кого?
– А ради Христа, сыночек, – миролюбиво ответила Катерина. – Плачу я не от жалости, родимец, от горя-то я уж все слезы выплакала, а от радости плачу, от радости, что мой внучек так любит Бога, что жизнь свою не щадит, кару принял за Спасителя. Вот когда он по вашим клубам да лекциям шлялся, тогда я за него молилась; Бог услышал, как услышал в младенчестве его, как он хворал да при смерти находился. Вот я на коленях его у Бога и вымолила, так чего ж теперь горевать, что на Божий путь встал юноша. Я спокойная, Я знаю – Бог сохранит его везде.
Она помолчала, надзиратель отходил, желая услышать еще нечто.
– А насчет тюрьмы... Я тебе скажу, родимец, да ты и сам чай знаешь, нешто тут одни разбойники сидят? И-и, милай – а сколько в ней царей сидело да князей, апостолов и святых людей. Господи, да и Сам-то Он на кресте висел рядом с разбойниками... Вот то-то и оно, родимец, что ж ты внучка моего жалеешь? Путь у него истинный, не мешай ему.
– Да жалко паренька, молоденький он.
– А что толку от меня, скажем, старой: чем Богу могу послужить?
Павел радовался всем сердцем, слушая разговоры и видя свидетельство матери своей и бабушки. Ни один проповедник до сих пор не мог принести ему такого ободрения и утешения, какое давали ему эти простые, неграмотные родные люди.
За разговорами Павел позабыл о картошке, спохватилась бабушка:
– Да ты ешь, ешь-то... Когда ноне дадут еще. Ешь, дитятко...
Она погладила его по голове, как маленького, вздохнула:
– Ох, двадцать годков тому назад вымолила я тебя у Бога, на руках носила, за руки водила, а теперь и не угнаться за тобой. Зарок дала Господу, – вдруг зашептала она, – молиться за тебя доколь Он снова не приведет тебя на порог моей избы. Спаси тебя Христос!
– Молись и ты, сынок, – с целованием сказала мать. Она как-то неловко ткнулась ему в плечо, зашарила руками, Павел почувствовал какой-то комочек, опущенный в карман и машинально повернулся к надзирателю другим боком... в камере он вытащил скомканную пятерку.
Сотоварищи окружили Павла, он щедро угостил их тем, что принесли родные, утолил интерес к новостям с воли. Конечно же, большую часть всего оставил для Бродяги. С этим человеком он сильно подружился.
Именно Бродяга раскрыл ему все тюремные секреты. Однажды Павлу передали сумку с передачей, надзиратель велел написать короткий ответ. Павел сходу выложил содержимое сумки на стол, торопясь черкнуть о себе пару слов, Бродяга же, не говоря ни слова, протянул руку к сумке и стал тщательно ощупывать все швы.
– Странно, – пробормотал он вполголоса, – почему это новую сумку обшили тряпкой. Тут что-то не так!
И точно: распоров уголок тряпки, он поддел пальцами нижний кончик обшивки и... вытащил крошечный, со спичечный коробок, сверточек. В нем оказалось миниатюрное издание Евангелия от Иоанна.
– Ну вот, парень, а ты бы отдал обратно... Мать у тебя хоть и неграмотная, но заметь какая предупредительная. – Ну-ка, поглянь – нет ли еще чего-нибудь?
Павел теперь уже сам надорвал тряпку, пошарил рукой вот! – он вытащил... красненькую.
– Тридцатка! – удовлетворенно заключил Бродяга. Быстро работая иголкой, он восстановил обшивку сумки.
– Попользовались... Хорошо надзор не заметил, а то и себе хапнул бы и матери неприятности. Тебе же надолго хватит тридцати рублей!
Павел был рад без памяти – не тридцатке, конечно же, нет: Евангелие, ведь Евангелие в его руках! Именно его он просил у Господа. Оно особенно дорого в жизни арестанта. Но знал ли
Павел, каким образом Бог пошлет его? И главное – как во-время! Ведь тоска уже начала глодать Павла, духовный голод подкрадывался незаметно и уже заглядывал в уголки его сердца. Воистину чудесами Господь ободряет его!
Пришел обвинительный приговор: Владыкин признан опасным для общества из-за своих религиозных убеждений и подлежит лишению свободы сроком на пять лет с отбывкой в дальних лагерях. Суда, как водится в таких случаях, не было. Камера пришла в волнение: за что? За убеждения? Пять лет? Мальчику, которому пошел... Тут Павел поднимал палец и со значением поправлял сотоварищей: молодому человеку уже пошел 22 год!
На этап собрали так стремительно, что Павел ничего не успел сообщить на волю. Колонну погнали по улицам родного городка, но озирался Павел тщетно; ни одного знакомого или родственника он не увидел. Утешил себя тем, что думал об отце, которого вот так же пять лет назад вели по этой дороге и, как тогда с отцом, так и теперь с ним незримо рядом находился Господь. Он чувствовал Его близость и, прощаясь на окраине с городом, тихо произнес: "Ты изгоняешь меня, обрекая на погибель, но пройдут годы, Господь мой, на Которого я уповаю, возвратит меня и я вновь вступлю в него с победою и еще буду проповедовать в домах твоих о моем Иисусе".
Медленно, под окрики конвоя, удалялись они от города. Позади оставались родные улицы и дома, школа и библиотека, детство и семья...
Павел представил себе, что он шагает по следам своего отца – ведь и тот торил эту дорогу. И вагон, который подали для посадки, тоже был знакомым: точно в таком же увозили отца. Только одно различие: тогда вслед за вагоном, спотыкаясь на шпалах, бежал с заплаканным лицом мальчишка, теперь же он покидает город в одиночестве.
Павел стоял у окна до тех пор, пока городские очертания полностью не растворились во тьме, и на смену редким фонарям не выплыла мрачная чаща соснового бора. И тогда, отвернувшись от мрака, Павел молча сотворил молитву, а сотворив заплакал.
По этапу
Ранним утром вагон с зеками прибыл в Рязань. Всех построили в колонну и повели в местную тюрьму. Редкие прохожие, завидя унылую цепочку людей, окруженных конвоирами, старались поближе прижаться к стенам домов, а одна старушка испуганно перекрестилась и юркнула в ближайшую подворотню.
Тюрьма слепо – все окна были забраны козырьками вверх и сонно глядела на улицу. Конвойный стукнул в железные ворота, тотчас растворилось окошечко, в нем мелькнула рыжая морда охранника и с лязгом, скрежетом поползли в стороны створки ворот. Колонна арестантов втянулась под сводчатую арку, с тем же грохотом ворота за спиной затворились. Выходом из-под арки была избрана решетка с толстенными прутьями. Сквозь них можно было разглядеть еще более внушительное тюремное здание с такими же слепыми окошками. Павел слегка вздрогнул при виде такой сумрачной громадины, в которой ему предстояло томиться дальше. По углам здания высились массивные башни с узенькими – едва пролезет голова человека проемами, напоминающими скорее щели, чем окна. Кто-то из арестантов, уже побывавших в этой темнице, объяснил, что в этих башнях содержатся осужденные на смерть и те, которые приговорены к одиночке.
Колонну разбили на группы, развели по камерам. Бывалые арестанты тут же устроились на полу и безмятежно уснули. Павла держали в стороне с группой таких же арестантов, прибывших другим вагоном. Тут к нему подошли почтенного вида старичок со старушкой, одетые довольно прилично и слегка по старинке: старичок был в жилете, старушка в строгом длинном платье. Они поинтересовались у Павла: за что? Тот не таился. Пара дружно заохала, прослезилась и в свою очередь рассказала о своем горе. У соседа сгорел дом, их обвинили в умышленном поджоге из чувства мести: старик со старухой частенько ссорились с погорельцем. Тот нанял лжесвидетелей, суд не стал вникать в подробности и припаяли: старику пять лет, супруге – годик. Павел слушал их с сожалением: горе их казалось неутешным, Дождавшись паузы, напомнил им, что ободрение духа они найдут только в Господе, Который допустил такое: чтобы они покаялись, провели остаток лет в служении Богу. Старичок со старушкой согласно кивали головами. Павел разохотился, слушатели были внимательны, и беседа их могла затянуться, но тут его окликнули.






