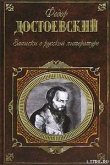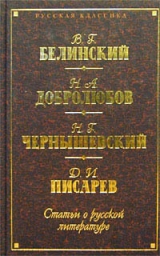
Текст книги "Статьи о русской литературе (сборник)"
Автор книги: Николай Чернышевский
Соавторы: Виссарион Белинский,Дмитрий Писарев,Николай Добролюбов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
К числу его глубочайших литературных верований принадлежала и поэзия Лермонтова... На этом основании мы, прежде чем обозреть литературу тридцатых годов, – захватываем в общих чертах и это необыкновенное явление, оставившее такой глубокий след на сороковых годах.
По крайней мере, мы позволим себе определить главные свойства этой совершенно трагической натуры.
В Лермонтове – две стороны. Эти две стороны: Арбенин (я беру нарочно самую резкую сторону типа) и Печорин. Арбенин (или все равно: Мцыри, Арсений и т. д.) – это необузданная страстность, рвущаяся на широкий простор, почти что безумная сила, воспитавшаяся в диких понятиях (припомните воспитание Арбенина, или Арбеньева, как названо это лице в известном лермонтовском отрывке), вопиющая против всяких общественных понятий и исполненная к ним ненависти или презрения, сила, которая сознает на себе «печать проклятья» и гордо носит эту печать, сила отчасти зверская и которая сама в лице Мцыри радуется братству с барсами и волками. Пояснить возможность такого настроения души поэта не может, кажется мне, одно влияние музы Байрона. Положим, что Лара Ньюстида обаянием своей поэзии, так сказать, подкрепил, оправдал тревожные требования души поэта, – но самые элементы такого настройства могли зародиться только или под гнетом обстановки, сдавливающей страстные порывы Мцыри и Арсения, или на диком просторе разгула и неистового произвола страстей, на котором взросли впечатления Арбенина.
Представьте же подобного рода, под гнетом ли, на просторе ли развившиеся, стремления – в столкновении с общежитием, и притом с условнейшею из условных сфер его, с сферою светскою! Если эти стремления – точно то, за что они выдают себя, или, лучше сказать, чем они сами себе кажутся, – то они суть совсем противуобщественные стремления, не только что противуобщественные в смысле условном; и – падение или казнь ждут их неминуемо. Мрачные, зловещие предчувствия такого страшного исхода отражаются во многих из лирических стихотворений поэта, и особенно ясно в стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоскою». Если же в этих стремлениях есть известная натяжка, известная напряженность, – выросшие опять-таки под гнетом или на диком просторе, среди своевольных беззаконий обстановки, то первое, что закрадется в душу человека, тревожимого ими или встретившего отпор им в общежитии, будет, конечно, сомнение, но еще не истинно разумное сомнение в законности произвола личности, а только сомнение в силе личности, в средствах ее.
Вглядитесь внимательнее в эту нелепую, с детской небрежностию набросанную, хаотическую драму «Маскарад», и след такого сомнения увидите вы в лице князя Звездича, которого одна из героинь определяет так:
...безнравственный, безбожный,
Себялюбивый, злой, – но слабый человек!
В создании Звездича – выразилась минута первой схватки разрушительной личности с условнейшею из сфер общежития, схватки, которая кончилась не к чести диких требований и необъятного самолюбия. Следы этой же первой эпохи, породившей разуверение в собственных силах, отпечатлелись во множестве стихотворений, из которых одно замечательно наиболее по строфе, определяющей вполне минуту подобного душевного настройства:
Любить? но кого же? на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно!
В себя ли заглянешь? там прошлого нет и следа;
И радость и горе и все так ничтожно!
И много неудавшихся Арбениных, оказавшихся при столкновении с светскою сферою жизни соллогубовскими Леониными, – отозвались на эти строки горького, тяжелого разубеждения: одни только Звездичи остались собою совершенно довольны.Между тем лице Звездича и несколько подобных стихотворений – это тот пункт, с которого в натуре нравственной, то есть крепкой и цельной, должно начаться правильное, то есть комическое, и притом беспощадно комическое, отношение к дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятельным. Но гордость редко может допустить такой поворот.
В стремлении к идеалу или на пути духовного совершенствования всякого стремящегося ожидают два подводных камня: отчаяние от сознания своего собственного несовершенства, из которого есть еще выход, и неправильное, непрямое отношение к своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человеку неприятно и тяжело сознавать свои слабые стороны, это, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению: задача здесь заключается преимущественно в том, чтобы к этим слабым сторонам своим отнестись с полною, беспощадною справедливостию. Самое обыкновенное искушение в этом случае – уменьшить в собственных глазах свои недостатки. Но есть искушение, несравненно более тонкое и опасное, именно: преувеличить свои слабости до той степени, на которой они получают известную значимость и, пожалуй даже, по извращенным понятиям современного человека, – величавость и обаятельность зла. Мысль эта станет совершенно понятна, если я напомню обаятельную атмосферу, которая разлита вокруг образов, не говорю уже Манфреда, Лары, Гяура, – но Печорина и Ловласа, – психологический факт, весьма нередкий с тех пор, как
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы...
Возьмите какую угодно страсть и доведите ее в вашем представлении до известной степени энергии, поставьте ее в борьбу с окружающею ее обстановкою – ваше трагическое воззрение закроет от вас все мелкие пружины ее деятельности. Эгоизму современного человека несравненно легче помириться в себе с крупным преступлением, чем с мелкой и пошлой подлостью; гораздо приятнее вообразить себя Ловласом, чем гоголевским Собачкиным, Скупым рыцарем, чем Плюшкиным, Печориным, чем Меричем; даже, уж если на то пошло, Грушницким, чем Милашиным Островского, потому что Грушницкий хоть умирает эффектно! Сколько лягушек надуваются по этому случаю в волов в нас самих и вокруг нас! Сколько людей желают показаться себе и другим преступными, когда они сделали только пошлость, сколько гаденьких чувственных поползновений стремятся принять в нас размеры колоссальных страстей! Хлестаков, даже Хлестаков, и тот зовет городничих «удалиться под сень струй»; Мерич в «Бедной невесте» самодовольно просит Марью Андреевну простить его, что он «возмутил мир ее невинной души». Тамарин рад-радехонек, что его зовут демоном!Таким образом, даже и по наступлении той минуты, с которой в натуре нравственной должно начаться правильное, то есть комическое отношение к собственной мелочности и слабости, гордость вместо прямого поворота, предлагает нам изворот. Изворот же заключается в том, чтобы поставить на ходули бессильную страстность души, признать ее требования все-таки правыми; переживши минуты презрения к самому себе и к своей личности, сохранить, однако, вражду и презрение к действительности. Посредством такого изворота лице Звездича, в процессе лермонтовского развития, переходит в тип Печорина. В сущности, что такое Печорин? Смесь арбенинских беззаконий с светскою холодностию и бессовестностию Звездича, которого все неблестящие и невыгодные стороны пошли в создание Грушницкого, существующего в романе исключительно только для того, чтобы Печорин, глядя на него, как можно более любовался собою, и чтобы другие, глядя на Грушницкого, более любовались Печориным. Что такое Печорин? Существо совершенно двойственное, человек, смотрящийся в зеркало перед дуэлью с Грушницким, и рыдающий, почти грызущий землю, как зверенок Мцыри, после тщетной погони за Верою. Что такое Печорин? Поставленное на ходули бессилие личного произвола! Арбенин с своими необузданно самолюбивыми требованиями провалился в так называемом свете: он явился снова в костюме Печорина, искушенный сомнением в самом себе, более уже хитрый, чем заносчивый, – и так называемый свет ему поклонился...
Н. А. Добролюбов
(1836—1861)
Родился в Нижнем Новгороде в семье учителя духовного училища, затем священника. Учился в Нижегородском духовном училище и семинарии. Начинал как поэт, прозаик и драматург. После смерти родителей заботился о своих малолетних братьях и сестрах. Прославился как ведущий (вместе с Н. Г. Чернышевским) критик и публицист некрасовского журнала «Современник». Наиболее знаменитые статьи Добролюбова – «Что такое обломовщина?» (о И. А. Гончарове), «Когда же придет настоящий день?» (о И. С. Тургеневе), «Луч света в темном царстве» (о А. Н. Островском). Напряженная журналистская работа и тяжелый быт подорвали здоровье Добролюбова, скончавшегося в молодом возрасте.
Что такое обломовщина?
«Обломов», роман И. А. Гончарова. «Отечественные записки», 1859, № I—IV
Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»? Веки проходят за веками, полмильона сидней, увальней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это все – могущее слово...
Гоголь
Десять лет ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его появления в печати о нем говорили как о произведении необыкновенном. К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем первая часть романа, написанная еще в 1849 году и чуждая текущих интересов настоящей минуты, многим показалась скучною. В это же время появилось «Дворянское гнездо», и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора. «Обломов» остался для многих в стороне; многие даже чувствовали утомление от необычайно тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман г. Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность действия, нашла утомительною первую часть романа потому, что до самого конца ее герой все продолжает лежать на том же диване, на котором застает его начало первой главы. Те читатели, которым нравится обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась совершенно нетронутою наша официально-общественная жизнь. Короче – первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих читателей.
Кажется, немало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и судить художественные произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда скоро взяла свое. Последующие части романа сгладили первое неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа.
Может показаться странным, что мы находим особенное богатство содержания в романе, в котором, по самому характеру героя, почти вовсе нет действия. Но мы надеемся объяснить свою мысль в продолжение статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит содержание романа Гончарова.
«Обломов» вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут между ними корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарские, с строгою поверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям, вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению или в ней надобно было несколько слов переставить, и т. п. Поэтому нам кажется нисколько не предосудительным заняться более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова, хотя, конечно, истые критики и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только по поводу Обломова.
Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут этот труд, объясняясь с читателем относительно цели и смысла своих произведений. Иные и не высказывают категорически своих намерений, но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их... Зато плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря по степени таланта автора) согласие с идеею, положенною в основание произведения. Остальное все улетучивается через два часа по прочтении книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не дает, и, по-видимому, не хочет дать, никаких выводов. Жизнь, им изображенная, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибетесь – пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о своих героях как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их... И его увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени – читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть все прочитанное; но ему все-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его неподатлив на впечатления. Он не запоет лирической песни при взгляде на розу и соловья; он будет поражен ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время произойдет в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты... Вот они делаются яснее, яснее, прекраснее... и вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и роза и соловей, со всей своей прелестью и обаяньем. Вам рисуется не только их образ, вам чуется аромат розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую песнь, если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону; более он ничего не прибавит... «И напрасно было бы прибавлять, – думает он, – если сам образ не говорит вашей душе, то что могут вам сказать слова?..» В этом уменье охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его – заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он превосходит всех современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность – во всякий данный момент остановить летучее явление жизни во всей его полноте и свежести и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи, от других предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника: он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже; выражение их – страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно полном и живом его выражении поставляет свою главную задачу, на него по преимуществу тратит свою художническую силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмою господствующего в них самих настроения. Так, у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления, и т. д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороною предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа.
Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на диване; во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвертой она выходит замуж за друга его Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым), никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова – единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тот бы ее обделал иначе: написал бы страничек пятьдесят, легких, забавных, сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой и Штольцом, да на том бы и покончил. Рассказ никак бы не был скучен, хотя и не имел бы особенного художественного значения. Гончаров принялся за дело иначе. Он не хотел отстать от явления, на которое однажды бросил свой взгляд, не проследивши его до конца, не отыскавши его причин, не понявши связи его со всеми окружающими явлениями. Он хотел добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший перед ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение. Поэтому во всем, что касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Не только те комнаты, в которых жил Обломов, но и тот дом, в каком он только мечтал жить; не только халат его, но серый сюртук и щетинистые бакенбарды слуги его Захара; не только писание письма Обломовым, но и качество бумаги и чернил в письме старосты к нему – все приведено и изображено с полною отчетливостью и рельефностью. Автор не может пройти мимоходом даже какого-нибудь барона фон Лангвагена, не играющего никакой роли в романе; и о бароне напишет он целую прекрасную страницу, и написал бы две и четыре, если бы не успел исчерпать его на одной. Это, если хотите, вредит быстроте действия, утомляет безучастного читателя, требующего, чтоб его неудержимо завлекали сильными ощущениями. Но тем не менее в таланте Гончарова – это драгоценное свойство, чрезвычайно много помогающее художественности его изображений. Начиная читать его, находишь, что многие вещи как будто не оправдываются строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он изображает, невольно признаешь законность и естественность всех выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как-то чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя, да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, беспрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят наконец какое-то обаяние. Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется выяснить [их] значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление; бодрость мысли и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать многие страницы, думать над ними, спорить о них. Так, по крайней мере, на нас действовал Обломов: «Сон Обломова» и некоторые отдельные сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй раз он нам понравился едва ли не более, чем в первый. Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми автор обставляет ход действия и которые, по мнению некоторых, растягивают роман!
Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической деятельности или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений. Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это – несколько обломовское, происходящее от наклонности иметь постоянно руководителей – даже в чувствах. Приписывать автору слабую степень восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине, – несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным. Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одаренных неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко и полно представить его, – это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиной чувства. Он до времени не высказывается, но для него ничто не пропадает в мире. Все, что живет и движется вокруг него, все, чем богата природа и людское общество, у него все это —
Как-то чудно
Живет в душевной глубине.
В нем, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твердые недвижные формы все явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь.Такое могущество в высшем своем развитии стоит, разумеется, всего, что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того, – оно может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, и только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни. Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности.
Как же выразился, на что потратился талант Гончарова? Ответом на этот вопрос должен служить разбор содержания романа.
По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, – не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью, в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это – обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени.
Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось пред нами так просто и естественно, как в романе Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьезных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла – это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперед в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Посмотрим на главные черты обломовского типа и потом попробуем провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами того же рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе.
В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению – он барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. <<...>>
Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка натягивает чулки барчонку и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захару по особому снисхождению или вследствие высших педагогических соображений и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности, он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него все, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие – что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою... В этом направлении идет и все дальнейшее развитие.
Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытает их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с уменьем серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого уменья соображать средства с целями и потому становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие.
Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством – отвращением от серьезной и самобытной деятельности.
Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь навыворот, – так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что; но с детства укоренившееся воззрение все-таки удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает все, что захочет... А Обломов... он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет, – следовательно, не может и серьезно, деятельно захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться – он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось...