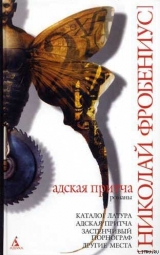
Текст книги "Каталог Латура, или Лакей маркиза де Сада"
Автор книги: Николай Фробениус
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Однажды ночью я услыхал, как на заднем дворе что-то стукнуло. Я вышел и нашел его на земле. Он выпал из окна и, скорчившись, лежал на камнях. Он сильно расшибся, и из раны на лбу текла кровь. До сих пор помню, как, наклонившись над ним, я спросил, может ли он двигаться. Он улыбнулся. Это была улыбка одинокого человека, я прежде не видел, чтобы кто-нибудь так улыбался. Он сказал, что ничего не чувствует. Мне показалось, он несчастен оттого, что ничего не повредил себе.
Рамон ушел от Рушфуко в подавленном настроении.
*
Латур лежал на кровати в трактире. В этой комнате ему было неспокойно. После вскрытия последнего черепа здесь еще пахло спиртом, и этот запах напоминал ему о неудачном сеансе. Он всегда считал, что центр боли находится где-то рядом с мозжечком. Рушфуко помещал его между центрами жажды разрушения и агрессивности. Но вскрытие не удалось. Мадам Арно измучила его. Пока он препарировал ее мозг в маленькой полутемной комнатушке трактира, руки у него дрожали так, что в конце концов лежавший перед ним мозг превратился в кашу. Латур чувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Пристальный взгляд следил за каждым его движением. Ему делалось дурно от этого взгляда.
Он больше был не в силах оставаться в своей комнатушке. И понимал, что есть только одно место, куда он может пойти.
Ранним весенним утром он подошел к дому маркизы де Сад. Сил у него не осталось. Он с трудом постучал в дверь.
Его встретили две грустные женщины. Мадам Рене горевала из-за маркиза. Готон горевала потому, что горевала мадам. Дом был заложен. Мадам Рене пришлось уволить всех слуг, она продавала картины и мебель. Беспросветное уныние лежало на некогда роскошных покоях. Маркиза обняла его:
– Латур! А мы слышали, будто вы умерли от тифа.
Латур отступил назад. Он не любил, когда его обнимали.
– Мне нечего предложить вам, – сказала мадам Рене, когда они вошли в гостиную. Она не поднимала глаз, кутая шалью морщинистую шею.
Латур сказал, что хотел бы служить ей, даже если она не может платить ему.
– Я ваш, – пробормотал он.
Мадам Рене поблагодарила его, она так сильно сжала ему руки, что он с трудом выдернул их. Пока они шли пыльным коридором к его прежней комнате, она поведала ему о вражде между ней и матерью, о королевском lettre de cachet [1616
Указ о бессрочном заточении в тюрьму.
[Закрыть]], на основании которого маркиза могли оставить в заточении на всю жизнь. Мадам Рене ни разу не разрешили навестить мужа после его ареста. Остановившись перед дверью, она прочитала Латуру письмо маркиза. Она хваталась за это письмо как за соломинку и произносила каждое слово так, словно оно содержало тайный смысл.
«Я заточен в башне, за девятнадцатью железными дверьми, свет проникает ко мне через два окна, забранные частыми решетками. За эти два месяца мне только пять раз разрешили погулять на свежем воздухе. Я сижу в темноте, в своеобразном склепе, имеющем двенадцать метров в поперечнике, меня окружают каменные стены высотой более пятнадцати метров...»
Она плакала.
– Они читают его письма. Он вынужден прибегать к шифру. Его наказывают, отбирая у него перо и бумагу. Вы же знаете, Латур, какой он нервный. Он там заболеет. Скажите, что мне делать?
Латур ушел в свою комнату. Когда он запер дверь, ему показалось, будто ключ повернули снаружи. Целыми днями он лежал на кровати. Он чувствовал себя стариком. И думал, что ему, в общем, незачем жить.
Он тоже поддался горю. Метался по своей комнате. Ему до сих пор мерещилось, что на него кто-то смотрит. Взгляд все время преследовал его. Латур закрывал голову руками, забирался под кровать. Не знал, куда спрятаться. Чей это взгляд? Бога? Что же это такое, черт подери?
– Оставь меня в покое! – кричал он, обращаясь к потолку.
Готон, ища утешения, приходила к нему, но он отсылал ее прочь. Ему было неприятно, когда кто-нибудь заходил к нему, он внушил себе, что никто не должен переступать порог его комнаты. Тревога заставила его сторониться людей.
Однажды Готон пришла и рассказала Латуру, что по Парижу бродит убийца. Она села на край его кровати, у нее тряслись руки. Нашли женщину с отрезанной головой. Бессвязная болтовня Готон рассердила Латура, и он прогнал ее. Он хотел остаться один.
Через несколько месяцев мадам Рене передала ему рукопись маркиза. В сопроводительном письме маркиз просил Латура переписать рукопись набело. Латур, который всегда с интересом относился к сочинениям маркиза, принял это как подарок. Он сел к столу и попытался упорным трудом убить собственную тревогу. Он переписывал заметки о путешествиях, комедии, наброски к роману, мемуары, письма, анекдоты. Маркиз писал неровно. То и дело повторялся. Был ироничен. Поучал. В его сочинениях все было перевернуто с ног на голову. Латур переписывал их набело, слово за словом, фразу за фразой, страницу за страницей, с удовлетворенностью, которую испытывает человек, наконец-то получивший возможность искупить свою вину.
*
Рамон сидел с закрытыми глазами и пытался не думать о разговоре с генерал-лейтенантом, о его гневных придирчивых упреках, и о собственных аргументах, в результате которых он в конце концов оказался здесь, в этой карете, отправившись в бессмысленную поездку по служебным делам. Думать об этом было мучительно. Нужно все выкинуть из головы. Но он не мог. Его мыслям как будто нравилось возвращаться к тем неприятным эпизодам и, подобно пиявкам, искать в них пищу. Но что дает такая пища? Рамону был не по душе ход собственных мыслей. Но у него не хватало воли остановить их кружение. Он оказался словно в заточении. После нового суда в Эксе инспектор Марэ и несколько служащих заночевали вместе с заключенным в трактире. Марэ доверял маркизу де Саду. Он предоставил ему известную свободу. Де Сад злоупотребил этим доверием и бежал. Теперь Марэ был в бешенстве. Все были в бешенстве.
– Я хочу, Рамон, чтобы вы поехали в Лакост и нашли де Сада. Если не найдете его в замке, конфискуйте все сочинения этого проклятого маркиза. Вы должны прочитать их и доложить мне об их содержании, а потом уничтожить каждую страницу, каждое слово. Вы поняли?
Уголки губ у генерал-лейтенанта побелели. И вот Рамон сидел в карете, направляясь в Прованс, и проклинал тот час, когда начал работать под началом Демери. Проклинал свой интерес к литературе. Он нервничал и злился, что именно писатель помешал его работе, заставив заниматься своей особой и своими жалкими сочинениями в ущерб расследованию убийств.
Он пытался внушить себе, что это лишь короткая поездка, небольшой перерыв в следствии, скоро все вернется в прежнюю колею и он продолжит разгадывать свою загадку. Но что-то тревожило Рамона, и он решил выполнить это небольшое поручение с особым тщанием. Если он будет предельно точен, не исключено, что это поможет ему найти в поручении смысл, а это удовлетворит и его начальников, и этого несправедливого брюзгу Марэ. Слова Рамона о том, что он вот-вот найдет убийцу, разгуливающего по Парижу, генерал-лейтенант встретил довольно резко.
– И как давно вы уже ищете этого убийцу? – с ядовитой иронией спросил он.
Рамон утешал себя тем, что ему поручили это в общем-то незначительное дело потому, что побег де Сада оскорбил полицию, и ему, Рамону, собственно, оказали честь, направив его в Лакост. И тем не менее всю дорогу в Прованс он мечтал о возвращении в Париж.
В пути их застал дождь. Проливной дождь. Он стучал по листьям деревьев. Канавы были полны воды, поля и дороги словно слились друг с другом. Рамон бранил кучера. Но в конце концов ему стало ясно, что продолжать путь – это попусту тратить время и силы. Они остановились в придорожном трактире. Всю ночь Рамон лежал и слушал, как в кронах деревьев шумит ливень.
В замке маркиза не оказалось. Однако в его кабинете они нашли гору рукописей. Романы. Рассказы. Пьесы. Статьи. Рамон велел двум слугам отнести все в карету. Сам же обошел замок и записал кое-какие наблюдения о легкомысленном убранстве зала и беспорядке на кухне, словно хотел запротоколировать тот факт, что в поисках маркиза он осмотрел все углы и закоулки.
В одной комнате он нашел распятие, и ему стало неприятно. Там же в шкафу лежали орудия пыток, плети, щипцы, манжеты, наручники. Рамон долго разглядывал эти орудия боли и даже забыл о своих заметках. Что привлекательного в боли? Что заставило такого человека, как де Сад, посвятить свою жизнь культу боли? Неожиданно Рамон подумал, что только любовь могла толкнуть человека на столь абсурдные действия. Он быстро покинул комнату, так и не сделав никаких записей, потом выбранил слуг и сказал, что они должны работать быстрее.
По возвращении в Париж он решил первым делом прочитать все сочинения маркиза. Ему хотелось поскорее покончить с этим и вернуться к разгадке таинственных убийств. Страница за страницей читал он длинные пассажи. Время от времени вставал из-за стола и бесцельно ходил по комнате, словно для того, чтобы стряхнуть с себя что-то нечистое, какую-то заразу. Садясь снова за стол, он заставлял себя думать, что лежащие перед ним записки – это испытание, посланное ему Богом. Если он не сможет продраться через эти сотни страниц, исписанных столь же витиеватым почерком, сколь витиеватой была и манера изложения, то не сможет раскрыть и дело. Рамон прикусил кончик пера. Встал и плюнул в окно.
«Прощай пристойность! Прощай честь! Руссо, Вольтер, вам есть чему у меня поучиться! Вы ошибаетесь, рассуждая о добродетели, рассуждая о разуме и возвышенных идеалах, а также утверждая, что доброта – это единственный путь к счастью. Вы должны были показать нам, что жестокость сильнее добродетели. Ибо только так можно возбудить в читателе интерес. Да-да, покажите нам женщину, которая насилует своего сына. Убивает его. Отправляет свою мать на виселицу и выходит замуж за собственного отца. Но так писать вы не смеете. Не можете. К сожалению, у вас недостает таланта увидеть, что природа – это жестокая машина. В ваших мелочных произведениях нет ничего по-настоящему ценного. Ваши сентиментальность и пристойность фальшивы. На вас уже легла тень таланта месье де Сада. Прощайте!»
Рамон неожиданно заметил, что не может пересказать небольшую историю, которую только что прочитал. Мысли его витали далеко, они привели его к совсем другой истории. Он читал слова, но, должно быть, в то же время сочинил нечто свое, ибо в рассказе де Сада не могло говориться о том, что Рамон только что прочел. Он отложил рукопись. Закрыл ненадолго глаза. Эта работа была испытанием, но скоро оно будет позади. Глупо терять рассудок из-за какого-то сочинителя. Рамон выпрямился в кресле и начал медленно листать страницы назад. Потом сосредоточился и снова принялся за чтение. Все повторилось. Он опять прочитал ту же историю и понял, что вовсе не был сбит с толку, напротив, перед ним лежал текст, который мог помочь ему разгадать таинственную личность убийцы. Рамон перечитал несколько абзацев:
"Я не получила ответа на свои многочисленные вопросы. Для этого удовольствие, испытываемое министром, было слишком сильно.
– Мадемуазель! – воскликнул министр, мой любовник, и поманил меня к себе.
Он ласкал ягодицы епископа и в то же время хлестал кнутом старую женщину, подвешенную на ремнях к потолку. Епископ же направил свой член в анус юной Розарии. Министр протянул мне кнут:
– Начинайте, дорогая. И не жалейте сил. Подчиняйтесь только наслаждению, ибо нет ничего более святого, чем наслаждение.
Я хлестала его. Унижала и с улыбкой на губах причиняла ему боль. А потом уже позволила мужчинам делать со мной все, что они хотели, лишь бы они обращались со мной как с последней продажной девкой. Чем глубже я погружалась в грязь и позор, тем острее было испытываемое мною наслаждение и тем сильнее была радость.
На другое утро я шла через лес в чужой стране, позволяя ветру охлаждать мои ноющие члены. Выйдя на поляну, я увидела нечто потрясшее меня. Дорогой читатель, ты, конечно, уже понял, что мне не чужды жестокие извращения и что даже в самых гнусных действиях можно найти наслаждение. Однако открывшаяся мне случайно картина потрясла меня до глубины души.
Маленькая фигура в треуголке склонилась над человеком, распятым между четырьмя столбами. Язык жертвы был вырезан и валялся на земле рядом с ней. Несчастный издавал какие-то булькающие звуки. Невысокий палач держал в руке скальпель и невозмутимо трудился над тем, чтобы обезглавить свою жертву.
Жертва извивалась, она явно жаждала смерти. Эта жажда смерти отражалась и на лице палача. Меня словно пригвоздило к земле за низкими ветвями деревьев. Я не смела пошевелиться. Почти целый час палач не позволял своей жертве умереть. Но, даже охваченный злом, он не потерял спокойствия. Вид у него был довольный. Иногда он негромко вскрикивал. Он был целиком поглощен своим делом. Одержим этим жестоким удовольствием. Наконец изящным движением он перерезал жертве горло. Сделав надрез от уха до уха, он снял кожу с лица еще живого человека. После чего начал препарировать мозг...
Я пошла домой, потихоньку собрала свои вещи и покинула эту чужую страну и министра, понимая, что должна забыть все виденное и слышанное и вернуться на стезю добродетели".
Описание было слишком похоже на modus operandi убийцы, чтобы счесть это сходство случайным. Рамон рывком встал из-за стола. Он думал: если я не наделаю ошибок, то найду его, а уже тогда, поймав убийцу, смогу отдохнуть.
*
После месяца свободы маркиз был арестован в Лакосте. Рамон стоял в камере номер шесть Венсенской тюрьмы и ждал, когда стражники введут маркиза. Он любовался красивым видом, открывавшимся из окна, крепостными рвами и деревьями, что окружали белые стены замка. Маркиз сразу же стал браниться. Он выкрикивал богохульства и размахивал руками.
– Суд в Эксе оправдал меня. И тем не менее меня опять привозят сюда. Почему? На основе показаний этой сумасшедшей дуры. Мадам президентши. И таких же идиотских lettre de cachet. Об этой клике можно сказать то же, что Пирон [1717
Пирон (1689-1773) – французский поэт.
[Закрыть]] сказал о Французской Академии: «Вас тут сорок человек, а ума у вас только на четверых».
Маркиз фыркал, жестикулировал и гримасничал. Но Рамон не позволял себе раздражаться.
– Самое позорное, самое ужасное, инспектор, то, что я никогда не прощу тех, кто держит меня в заточении без всяких законных оснований и прав, мне даже не говорят, когда меня освободят и освободят ли вообще. Это негуманно и неразумно. Это жестоко. Чертовы палачи!
Рамон кивнул. Когда маркиз наконец успокоился и, тяжело дыша, сел к столу, Рамон расположился перед ним. Он достал из кармана фрака тот маленький рассказ и положил на стол:
– Вы знаете этот рассказ?
Маркиз глянул на рукопись. Потом с презрением посмотрел на Района:
– Разумеется, знаю. Я же его и написал. Вы украли у меня мое сочинение, месье, а теперь возвращаете его мне. Очень любезно с вашей стороны. Можете идти, и радуйтесь, что к преступлению, которое куда тяжелее моего, относятся вполне гуманно. Я не стану заявлять на вас. Прощайте.
Рамон натянуто улыбнулся:
– Давайте заключим соглашение. Если вы расскажете мне правду об этой истории, я сделаю все, что в моих силах, чтобы освободить вас отсюда.
Маркиз сплюнул на пол.
– Когда я первый раз попал сюда, все говорили: «Это не больше чем на три месяца». Они собирались сделать все, что «в их силах», чтобы освободить меня. Через два года мне сказали: «Вряд ли это продлится больше трех лет». Теперь не говорят ничего. Теперь все как воды в рот набрали. Объясните, чего эти мерзавцы добиваются, держа в секрете дату моего освобождения? Неужели они не понимают, что это несправедливо и что я не стану лучше оттого, что меня сюда заточили. Неужели они не понимают, что я не вынесу такого обращения?
Рамон пытался не встречаться глазами с горящим взором маркиза. Он оглядывал камеру, книги, стопку бумаги, лекарства.
– Месье де Сад. Я прочитал ваши сочинения. Пьесу, рассказы, романы. В жизни не читал ничего более омерзительного. Если вы так возмущены бесчеловечностью и несправедливостью по отношению к себе, как вы выражаетесь, то почему пишете такие безнравственные сочинения?
Маркиз склонил голову набок и ответил, подражая дружелюбию Рамона, давшемуся тому с большим трудом:
– Дорогой инспектор, разве тюрьма, ежедневные унижения, грязь, идиотизм, царящая тут бесчеловечность, которые отличают всю систему правосудия нашей нации, не доказывают мою правоту? По-моему, это точная картина нашего мира.
– Вы подстрекаете к жестокости.
– Все это укладывается в рамки легкомысленных кутежей, в жизни я никогда не делал того, о чем писал в своих сочинениях. Нужно уметь отличать в сочинении вымысел от действительности. Я никогда не был ангелом. Но мои преступления до смешного ничтожны по сравнению с теми, какие совершаются каждый час правящей верхушкой этой страны.
– Это всего лишь отговорки.
– Я и не ждал, что вы меня поймете.
– Если вы такой противник несправедливости, расскажите мне, кто тот убийца, о котором вы писали. Кто лишил жизни того невинного человека?
– Это вымышленный персонаж.
– Нет, не вымышленный. Убийца расправляется со своими жертвами необычным способом, он определенно знаком с правилами трупосечения и анатомией. Я расследую пять очень похожих убийств, совершенных в Париже. За этими преступлениями и тем убийством, которое описано в вашей истории, стоит один и тот же человек. Оно случилось на самом деле.
Маркиз молчал, но Рамон вдруг понял, что маркиз знает, о ком идет речь.
– Скажите мне, кто этот убийца.
– Нет.
– Вы заставляете меня подозревать вас.
– Вы знаете, что это не я.
Рамон выпрямился:
– Как вы можете защищать того, кто убивает себе подобных?
– Зачем мне кого-то защищать?
Рамон наклонился через стол:
– Помогите мне, маркиз. Помогите себе. Скажите, как найти этого человека. Сделайте так, чтобы он понес наказание и больше никого не убил. Поймите, вы совершаете ошибку, непоправимую ошибку, отказываясь помочь мне.
– Объясните, почему я должен верить в систему французского правосудия. Выпустите меня отсюда, дайте мне хотя бы минимальное основание поверить, что вы стремитесь к справедливости, тогда я помогу вам. Но если вы будете держать меня взаперти, как бешеную собаку, будете сутками терзать меня своим молчанием, то я отвечу вам тем же.
Рамон встал так резко, что стул закачался и упал.
Тюремные ворота отворились, и Рамон оказался в темноте. Он направился через зеленую лужайку к своей карете, но вдруг остановился среди темных стволов. Обернулся и посмотрел на величественный замок Венсен, на его белые башни, высившиеся над камерами. Он попытался отыскать камеру номер шесть, в которой томился маркиз. Ты от меня не уйдешь, подумал он с холодным гневом. Ты расскажешь всю правду, даже если мне придется прибегнуть к старому методу и статье 146 от 1539 года. Я позабочусь, чтобы тебя привязали к дыбе и пытали огнем, пока ты не заговоришь.
Но потом, когда он сидел в своей комнате и, глядя в темноту, прислушивался к тревожным звукам вдали, он вдруг подумал, что опять заразился чужим образом мыслей. Злость, которую он испытал, покинув замок Венсен, была не его, это была злость убийцы.
На следующий день рано утром Рамон пришел к мадам де Сад. Он долго разговаривал с нею, но она крайне неохотно сообщала ему какие-либо сведения. Он спросил, знакомо ли ей имя Латур-Мартен Кирос, но она отрицательно покачала головой. Когда же он спросил, не знал ли ее муж этого человека, она сказала, что никогда не слышала этого имени. Рамон объяснил ей всю серьезность дела и наконец показал новеллу, написанную де Садом. Он ждал, что мадам Рене будет шокирована, но она прочитала ее с полным спокойствием. Отложив рукопись, маркиза сделала лишь несколько чисто литературных замечаний и указала на стилистические неточности. Рамон объяснил ей, что, по его мнению, де Сад был свидетелем этого убийства, но она только пожала плечами.
Он посетил Гофриди, адвоката де Сада, который охотно рассказал ему о знакомствах маркиза. Но и Гофриди тоже никогда не слыхал этого имени. Он полагал, что это, скорее всего, один из многочисленных слуг маркиза.
Мадам де Монтрёй подтвердила Району, что у маркиза был лакей по имени Латур. Но затем сия строгая дама сказала, что Латур умер от тифа.
Со смешанным чувством инспектор Рамон доложил начальнику следственной службы, что хочет закрыть это дело.
6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Я слышал каждое слово инспектора. Через дверь буфетной видел застывшее лицо мадам, руки полицейского, листавшие рукопись.
Как описать то, что я услышал?
Я как будто снова упал с крыши. Как будто снова летел в воздухе. Я видел, как губы полицейского произносят слова из новеллы маркизы.
«...сцена, увиденная мною случайно, поразила меня в самое сердце и все время стояла перед глазами».
К горлу подступила тошнота.
«Невысокий палач держал в руке скальпель и невозмутимо трудился над тем, чтобы обезглавить свою жертву».
Я скорчился в буфете, меня вырвало.
Лежа в кровати, я думал, что мне надо уехать из Франции. Может, я смогу продолжить работу в Италии? Но у меня не было сил даже покинуть комнату. Я ощупал свои напряженные мышцы. Стал щипать себя. На животе оставались красные метки.
Закрыл глаза. Но сон не шел. Я видел перед собой графа Рошета и его гнедую лошадь. Бежал за ним через лес. Догнал его уже на лугу. Я думал о столбах. О скальпеле. О нервных волокнах. О погасшем солнечном свете. И о маркизе, прятавшемся среди веток. О его глазах, скрытых листьями. О его взгляде. Таинственном взгляде, который с тех пор повсюду преследовал меня и доводил до безумия.
Поляна недалеко от Шамбери – место, где приносятся жертвы. Я кое-что потерял там. Одна только мысль о взгляде маркиза заставляет меня холодеть. Я не сплю уже четвертые сутки. Сменяя друг друга, передо мной проносятся картины. Граф Рошет. Его лошадь. Скальпель. Нервные волокна. Столбы. Деревья вокруг поляны. Взгляд. На пятый день я выхожу из комнаты. Иду в дровяной сарай. Нахожу там топор. Кладу руку на колоду. Мои руки всегда так хорошо меня слушались. Левая кисть лежит на колоде. Почувствую ли я боль хоть теперь? Я перевожу взгляд с топора на колоду. И поднимаю топор.
Кровь заливает колоду, пачкает мои панталоны. Кисть падает на землю к моим ногам. Пальцы еще шевелятся. Мне становится дурно. Но рука ничего не чувствует, болтается из стороны в сторону. От слабости у меня подгибаются колени, однако боли я так и не познал. Земля под ногами ходит ходуном. Наконец я падаю.
Я пришел в себя уже после того, как меня осмотрел доктор. На обрубок наложена плотная повязка. Мадам Рене и Готон стоят в моей комнате. Их фигуры кажутся мне удлиненными и соблазнительными. Они не знают, что сказать, и повторяют слова доктора. Я с улыбкой слушаю их. Они говорят об опасности гангрены. О том, что повязку следует менять два раза в день. И о том, что мне будет больно. Я улыбаюсь им. В ту ночь я заснул, ни разу не вспомнив о той поляне.
Утром ко мне пришла Готон. Она такая трогательная. Села на край кровати. Нервничала. Несла какую-то чепуху. Наконец спросила о моей руке, как это случилось. Я сказал, что это был несчастный случай. Воцарилась тишина.
– Несчастный случай?
Я улыбнулся ей.
Письма от маркиза стали приходить чаще. Иногда мадам Рене читала их мне вслух, словно это могло развеять ее тоску по мужу.
Он заверял ее в своей невиновности. Признавался, что слишком любил женщин, винил себя и в соблазнениях, и в легкомысленных извращениях, он писал: «Я либертен, но не преступник и не убийца».
Что я мог сказать? Кроме его слов, у меня не было ничего.
Просидев какое-то время в тюрьме, маркиз начал терять рассудок, он делал странные намеки на цифры. 8, 15, 23. Что за ними крылось? Может, это был обратный счет дней, оставшихся до его освобождения? Или он намекал на то, что случилось в Савойе? Я часто думал об этом. Но не хотел знать ответа. Я бы никогда не осмелился спросить у него, что он видел на самом деле, но я мог искать объяснения в его письмах.
Пришлось углубиться в записные книжки, которые он прислал мне. И я буквально утонул в море слов.
Когда я переписывал набело его рукописи, мне удавалось не думать о том взгляде. Переписывание было для меня своего рода искуплением. Я выводил на бумаге его слова, и тогда он переставал смотреть на меня. У нас с ним тайный уговор, думал я.
Я совсем поседел. За несколько недель у меня не осталось ни одного черного волоса. Жалел ли я об их черном цвете? Нет. Мне было даже приятно, что я перестал быть брюнетом. Мне нравилась седина.
Все дни я сидел, склонившись над рукописями маркиза. Часы перетекали в строчки. Мне не хотелось выходить из дома. Пока я сидел за письменным столом, мысли мои работали четко и точно, и я хорошо знал, что должен делать. Мадам Рене и Готон своими женскими уловками пытались отвлечь меня от работы, им хотелось с моей помощью приблизиться к маркизу, но переписывание было моим целибатом. Моей добровольной тюрьмой.
Маркиз присылал мне письма, в которых приказывал делать кое-какие исправления или начинать новую работу. Открывая очередное письмо, я со страхом ждал, что найду в нем рассказ о том, что случилось в Савойе. Но предчувствие говорило мне, что он не напишет про это.
Время от времени тюремное начальство запрещало маркизу писать, и тогда он тайно присылал мне свои рукописи в тонких пронумерованных рулонах. Иногда бывало трудно понять, что за чем следует. Но я никогда не спрашивал у него. Я вносил исправления и поправки по своему усмотрению, мне было ясно, что настоящая тюрьма маркиза – именно эти сочинения, его фразы напоминали каменные стены, прилагательные томились в них, а абзацы, как крепостные рвы, окружали заточенное в темницу действие; тогда я открывал в тексте крохотные люки и впускал туда свежий воздух. Это был мой способ общения с маркизом.
Я не чувствовал себя несчастным в своей добровольной тюрьме. Скорее, даже испытывал удовлетворение. Набросок романа, присланный маркизом, стал частицей меня. Это были отрывки, фрагменты, куски диалогов, неоконченные пассажи. Я находил в них издевку и злобу. Извращенную похоть. Страсть к уничтожению. Все было перевернуто с ног на голову. Между словами, как тень, возникала великая тьма. Она пожирала меня. Но я не противился ей. Потому что маркиз был великий мыслитель.
Я пришел к Готон и попросил забыть, что когда-то я прогнал ее. Но Готон не обладала чувством юмора и повернулась ко мне спиной. Однако в конце концов она впустила меня и позволила провести с нею ночь. Добрая камеристка с ее швейцарской пышностью и скошенным лбом, признаком упрямства. В ней сохранилось много детского, хотя жизнь не пощадила ее, она давно поседела, лицо покрыли морщины. Я положил голову на ее толстый живот. И заснул под отрывистые бессмысленные слова. Я никогда не понимал Готон.
Проснулся я оттого, что она гладила мою искалеченную руку.
– В тебе многое напоминает господина, – сказала она. – У вас такие похожие голоса...
Голоса у нас совсем не похожи...
– Говорят, в Лакосте был ураган. Как думаешь, не разрушил ли он замок?.. Бедный господин... Латур... О нем говорят такие ужасные вещи... Вы... вы с ним иногда были так похожи...
Я закрыл ей рот рукой и прижал ее к кровати. Она улыбнулась:
– Я твоя.
– Не об этом речь, – сказал я.
Однако на другую ночь я пришел и рисовал пером на ее теле. Она визжала от восторга. Но я был слишком слаб и не мог любить ее.
Случалось, я доставал старые книги по анатомии. Везалия и Вьессана. Читал наугад. Листал записи, которые делал еще у Рушфуко, записи о собственных открытиях. Но все они были не закончены. В них еще многого не хватало.
Маркиз прислал мне новые отрывки из романа. Описание оргий было столь отвратительно, что меня мутило. Я с трудом переписывал эти фразы. Однако с каждым бесстыдным восклицанием, с каждым богохульством и ругательством, с каждым новым злодейством, которым подвергались несчастные жертвы, мне становилось легче. Жестокость казалась ненастоящей, и я вдруг понял, что господин пишет вовсе не о наслаждении. Он говорит об одиночестве. О бесконечной пустыне одиночества. О пустоте тюрьмы. Ведь в его сочинениях говорится о боли. Только телесная боль свидетельствует о том, что одиночество преодолимо. Может, именно поэтому я не чувствую одиночества?
Может, есть некий смысл в том, что мне не дано ощущать боль? Но могу ли я как-то использовать отсутствие у меня этого опыта?
*
Я остановился в дверях комнаты мадам Рене. Над ночным столиком колышется пламя стеариновой свечи, стоящей рядом с вазой, наполненной мирабелью. У мадам расшнуровано платье на спине, и я вижу ее голые плечи. Она поворачивается, и мы смотрим друг на друга.
– Мадам звали меня?
– Нет.
– Я слышал ваш голос.
– Это звал кто-то другой.
– Здесь нет никого другого, мадам.
– Во всяком случае, мне ничего не надо.
– Но вы меня звали.
– Нет.
– Ведь вы не откажете мне в такой малости, мадам?
– Ступайте к себе, Латур. Вы пьяны?
– Мы с ним всегда заменяли друг друга.
– Что вы хотите этим сказать?
– Если маркиз не мог исполнять свои обязанности, я выполнял их за него. Я часто был им, а он – мной.
– Вы не должны прикасаться ко мне, Латур.
– Поросеночек моих мыслей, мой ангел, моя небесная кошечка. Я знаю все ласковые слова, какие он говорил вам. Моя куколка. Снимите платье, Рене. И я вторгнусь в вашу самую узкую щелку. Вам будет немного больно.
Однако я не двигаюсь и продолжаю смотреть на нее. То, что я сказал, было пустым бахвальством, беспомощной выдумкой. Я делаю несколько шагов по направлению к ней. Теперь ее взгляд выражает удивление. Я обнимаю ее за плечи и пытаюсь уложить на кровать, но теряю мужество и опускаюсь перед ней на колени:
– Простите меня, мадам.
Я беру ее щиколотку, поднимаю сморщенную ступню и целую. Мадам улыбается и гладит меня по волосам. Ласкает мою голову. Очень осторожно я откидываю ее нижнюю юбку и, поднимаясь все выше, целую волосатые икры. Под коленями я ощущаю кисловатый запах пота и влажность кожи. Покусываю острые колени и, тяжело дыша, начинаю целовать ее бедра. Нежная, жирная кожа, дорожки темных волос бегут вверх, к ее лону. Мадам встает и снимает с себя одежду. Полная, с разной величины грудями и выпирающими тазовыми костями, она высится надо мной. Ее пупок похож на черный глаз. Я касаюсь его языком, и она вздыхает, правда, это скорее похоже на стон, вызванный запором, чем на стон наслаждения. Я встаю и кусаю ее груди, словно это яблоки. Кусаю их и глажу ее потную спину. Она вся мокрая, но это только возбуждает меня. Мне трудно сдерживаться. Она снова гладит меня по голове, и я приникаю губами к ее кисловатому лону.
Наконец она приказывает мне сделать так, как всегда делал маркиз, так, как я сначала и предлагал. Мой фаллос медленно скользит между ее ягодицами. Я смазываю слюной ее анальное отверстие. Дыхание мое похоже на песню. Наконец я проникаю вглубь. Я кричу. Мадам кричит. Над нашими безобразными телами и неуклюжими движениями звучит фальшивая мелодия, она выпархивает в окно, летит над улицами, над парками, над городом, к белой тюрьме и камере номер шесть, где в сумраке одинокий человек склонился над покрытым письменами пергаментом.








