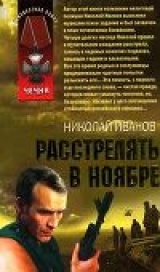
Текст книги "Расстрелять в ноябре"
Автор книги: Николай Иванов
Жанры:
Боевики
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Глава 17
Мы в очередной яме. Седьмой.
Накануне уложили в кузов грузовика, сверху забросали одеялами и привезли в какое-то селение. Машина въехала во двор, и нас прямым ходом – в узкий бетонный люк. Следом полетел нажитый за три месяца нехитрый скарб, собранный в землянке столь спешно, что невольно подумалось: или в лагерь с инспекцией приезжает кто-то из высшего начальства, или возникла реальная угроза нашего перезахвата.
Новый подвал длинен, узок, приплюснут. Школьный пенал.
С бетонного потолка, обтянутого сеткой «рабица», капает конденсат. Вдоль стен – лавки с белыми бляшками плесени. Укладываем на них одеяла, но доски от сырости легко переламываются пополам, выставляя острые, словно кости при открытом переломе, углы.
«Так изнутри сгнием и когда-то переломимся и мы», – мысль мелькнула сама собой, машинально отметилось, что, возможно, произойдет с нами через какое-то время.
В дальнем углу блестят крышки закрученных на зиму консервов – помидоры, огурцы, варенье. В любом случае с голоду хотя бы первое время не помрем. А вот что делать с сыростью…
– Ох, сынки, попали к бабке на старости лет в подвал, – слышим над собой голос.
В люк, став на колени, заглядывает старуха, жалостливо качает головой. Рядом резвятся детишки.
Мы немеем. Кажется, это самое глубокое потрясение за время плена. Когда держат в неволе боевики – это вроде нормально, как-то объяснимо. Но чтобы в подобном участвовали женщины…
Попытался представить маму – что бы она делала, если бы мы, ее сыновья, загоняли в погреб пленников. Прокляла бы, отреклась и выгнала из дома. А здесь – в порядке вещей. Конечно, в глазах наших тюремщиков – это не мы сидим, а сотни тысяч долларов копошатся в яме. А ради этого можно закрыть глаза… Вот только мама бы не закрыла.
А пока нас продолжает жалеть старуха:
– Что еще принести?
– Чего-нибудь постелить на пол, – прошу я. Пол мокрый от падающих сверху капель. – Солому, старые одеяла.
Расщедрились на два пустых мешка. А семь полных, с мукой, наваливают сверху на крышку. В щель видим, как между мешками вставляют гранату с выдернутой чекой. Господи, детей бы поберегли от случайностей.
Нет, случайность для них – это если сбегут деньги. Эквивалент денег. Мы.
Стелемся. Настроение прыгает: от «держаться» до полной апатии. Белые вязаные шапочки, наш символ освобождения, посерели от подземной грязи. На тельняшке Махмуда стерлись грани между полосками, получилась одна сплошная. Черная.
Все возможное, даже платки для глаз, укладываем на пол. Вынужденная жертва – одно одеяло крепим на «рабице», чтобы не капало на лица. Возимся долго, тщательно, не желая оставлять времени на разговоры. Без пасьянса очевидно: дела плохи. Будь свобода рядом, в село бы не повезли, зачем им риск. И до ноября всего двадцать шесть дней…
– Лучше бы мерзли в землянке, – приходим к общему мнению.
Потом, после плена, финансисты станут подсчитывать расход аванса, который брал в командировку.
– Билет на самолет, конечно…
– Конечно, – кивнул я. – Сгорел в огне чеченской войны.
– Тогда можем посчитать лишь сумму билета в общем вагоне пассажирского поезда, – умоляюще попросит его извинить за вынужденную бюрократию начальник отдела Валерий Федосович. – И за гостиницы…
Разведу руками: не выдавали квитанций в ямах.
– Тогда только квартирные, по четыре пятьсот в сутки, – совсем тихо сообщит финансист и виновато умножит названную цифру на мои 113 дней плена.
Бухгалтерия. Хоть здесь порядок.
Интереснее выйдет в санатории в Рузе, на приеме у стоматолога. Врач включит старинную, времен Тухачевского и Первой Конной, бормашину, дождется, когда она наберет допустимые обороты. Увидев мои сжатые кулаки, посоветует:
– Знаете, здесь рядом деревня Петрищево, где Зоя Космодемьянская попала в плен. Может, сначала туда съездите, проникнетесь, так сказать…
Богата, непредсказуема на сюрпризы жизнь…
И на историю.
«Кому неизвестны хищные, неукротимые нравы чеченцев? Кто не знает, что миролюбивейшие меры, принимаемые русским правительством для усмирения буйств сих мятежников, никогда не имели успеха? Закоренелые в правилах разбоя, они всегда одинаковы. Близкая, неминуемая опасность успокаивает их на время: после опять то же вероломство, то же убийство в недрах своих благодетелей».
Так писал поэт А. Полежаев, сосланный в свое время на Кавказ в качестве рядового.
А вот уже пронизанная горечью реплика генерала Ермолова, сказанная в 1818 году:
«Во всех случаях, где в отношении к ним хотел я быть великодушным, самым наглым образом бывал обманут».
Его современник академик Бутков, известный собиратель материалов по истории Кавказа:
«Чеченцы такой народ, который по зверским своим склонностям никогда не бывает в покое и при всяком удобном случае возобновляет противности тем наглее, что гористые места, ущелья и леса укрывают его и препятствуют так его наказать, как он заслуживает».
А великий Пушкин:
Бегите, русские девицы,
Спешите, красные, домой —
Чеченец ходит за рекой.
Ему вторил в «Колыбельной песне» Михаил Юрьевич Лермонтов:
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.
Генерал Бриммер, прослуживший на Кавказе всю жизнь и ушедший со сцены в конце эпохи Шамиля, оставил еще более резкие свидетельства:
«Вообще, кумыки народ добрый, не то что соседи их ауховцы и чеченцы. Горцы, эти дети природы, как все… немыслящие люди, принимают всегда доброту за слабость».
Нынешнее поколение чеченцев не сможет упрекнуть русских в том, что наши отношения строились на этих фразах, что вообще они хоть где-либо фигурировали. Их закрыли в фондах, на них наложили негласный запрет, к ним не желали возвращаться. Мы хотели жить в мире.
К сожалению, пришли новые политики, которые посчитали себя умнее всех предыдущих. И стали печататься приведенные выше воспоминания. И вновь возобновились вроде бы забытые ритуальные танцы возмездия. Зарубцевавшуюся с таким трудом рану принялись расковыривать с двух сторон с таким ожесточением, словно не было добрососедства и взаимопонимания двух народов. В итоге доброту русскую вновь восприняли за слабость, а гордость чеченцев – за самоуверенность. И вскоре вслед за словами полетели пули…
– Эй, много хандрим, – тормошит нас Борис. – Давайте разговаривать.
Было бы о чем. Переговорено все, а думать о будущем… О нем не мечтается… Чаще вспоминается прошлое. Но и его трогаем не скопом – это слишком расточительно, а сначала по годам, потом по дням, каким-то отдельным событиям. Так же продолжает вспоминаться и работа: не вся налоговая полиция в целом, а по этажам, по кабинетам и людям. Меня если спасут, то только они. Кем стал и был для них я? Заслужил ли, чтобы рвали нервы, рисковали собой ради моего вызволения?
Считай свои минусы, человек. И не говори, что праведную жизнь хотел начать с будущего понедельника. Расплата идет по цене сегодняшнего дня…
Вечером во дворе вспыхивает электролампочка. Нас тоже подтягивают к цивилизации, выдав керосиновую лампу со стеклом! А на ужин – котлеты! Они лежат тремя большими ломтями поверх гречки, и впервые оцениваем новое убежище не с минусов, а с плюсов.
– Кормежка вроде обещает быть лучше, – пережевываем вместе с котлетами приятное событие.
Но куда девать вечера, ночи? Грусть, рождаемую ими? Зубчики, за которые стекло крепится к лампе, дают тень, как две капли воды похожую на Кремлевскую стену. Боже, Москва! Ведь ни разу не вспомнил о своем городе. Тысячу, бессчетное количество раз проклинал его раньше как политическую клоаку, водоворот всех смут и несчастий. Но Кремлевская стена в чеченском подземелье… Вдруг понимаю, что люблю Москву. Как город она прекрасна, и не вина ее, что в столицах плетутся сети громких интриг. Так во всем мире. А сегодня я признаюсь в любви к ней. И каюсь за все предыдущие обвинения…
Тень отражается и от головы Бориса. Махмуд, разминаясь, бьет ее незаметно ногой. Да еще интересуется, паршивец:
– Товарищ начальник, тебе не больно?
– Нет. А с чего бы?
– Когда еще можно будет вот так запросто своего руководителя, – шофер «пинает» голову Бориса, но кашель скручивает его самого.
Ничья.
Этот подвал нас, конечно, доконает окончательно. Еда не спасет, ежели влажность пропитала всю подстилку, а стоять нельзя, сидеть не на чем. Итог перед глазами – сломанные доски. С каждым днем хуже и отношение: все резко, без слов. Снова начали вспоминать навыки по подготовке вопросов, но на все ухищрения получали однообразный ответ:
– Ничего нет.
И вряд ли будет. Если за три с половиной месяца наши не сумели вытащить, почему должно получиться в эти дни? А каждые прожитые сутки – себе в убыток. Из охраны исчезли Хозяин, Че Гевара, Чика, а оставшийся Младший Брат благосклонностью к нам никогда не отличался.
Мы подходили к краю. Ни в какой лагерь нас, естественно, не сдадут, за спасибо не выпустят, на работах, даже в качестве рабов, использовать побоятся. А зиму мы и сами не выдержим. Да и не планируют они долго возиться с нами. На просьбу о соломе для подстилки новый охранник, подменявший Младшего Брата, угрожающе ухмыльнулся:
– Вам не солому надо давать, а такое устроить, чтоб света белого не взвидели. И вы дождетесь…
Снова возникают мысли о побеге. Осколок зеркала превращается в перископ. Просовываем его в щель, вертим по кругу, тщательно изучаем двор. Отыскиваем калитку, самые низкие места в заборе. Дом окраинный, неподалеку проходит трасса – по ночам слышим шум машин. Если продырявить зеркалом мешки, мука высыплется внутрь и появится возможность поднять крышку. Бежать, конечно, надо ночью, во время грозы, когда от ветра гаснет электричество, а охрана сидит в доме.
И убегать никуда не следует. Калитку открыть, но самим забраться тут же на чердак, переждать первые дни суматохи под носом…
Но опять – что станется с родными?
Ловушка. Бессилие. Планы побега – не больше чем красивая страшноватенькая сказочка.
Не знаю, как мои сокамерники, а начинаю потихоньку готовиться к худшему. Ночью пишу прощальное письмо директору службы Сергею Николаевичу Алмазову. Надежды на то, что записку передадут, никакой, но и не написать не могу. Прощаюсь со всеми на Маросейке, 12, прошу, чтобы не думали, будто пленение произошло по моей безалаберности. Почему-то это подспудно тяготит весь плен, и хочется оправдаться: погоны и честь офицера не пустой звук. И совершенно не безразлично, как меня станут вспоминать.
Впереди еще два письма – родителям и семье. Но на них душевных сил не остается. Тяжело. Прибереженные листки откладываю, словно именно ненаписанные письма сумеют сохранить меня еще на сутки.
Из рассказа полковника налоговой полиции Е.Расходчикова:
Родственники Мусы, которых мы разыскали, сразу загорелись идеей обмена. Послали ходоков к Рамзану, отыскали его, организовали нам новую встречу.
– А какая нам выгода отдавать Иванова сейчас? Мы его подержим еще месяца три-четыре, миску похлебки как-нибудь найдем для такого дела. А потом и назовем окончательные условия его освобождения, – стали набивать они цену.
А я чувствую: время уходит, ситуация в Чечне меняется не в нашу пользу, мы начинаем зависеть от любых случайностей. Время, как и боевиков, требовалось подталкивать, чтобы удержать инициативу в своих руках. Но каким образом?
Спасти ситуацию мог лишь Муса. Прошу привезти его из Владикавказа в Грозный. Когда товар перед глазами, с ним расставаться всегда тяжелее. Извиняюсь перед тобой и Мусой, но в то время вы оба шли как товар, куда от этого деться.
Его в наручниках привезла под конвоем наша физзащита. Понять руководителей можно: чеченца привезли в родные края, где практически не осталось федеральных войск. Сделает ноги – и как оправдываться перед Генеральным прокурором?
В то же время понимаю, чувствую покажу родным Мусу в таком эскорте, полного доверия не вызову А мне нужно только оно.
Вспоминаю, что Алмазов разрешил принимать любое решение. Окунаюсь с головой в ледяную воду – принимаю: наручники – снять, конвой – в Москву, Мусу – к родным в дом.
Пробираемся в село окольными путями. Родители как вцепились в сына, чувствую, не отдадут больше никогда. А документы на его освобождение – это в случае удачного обмена – у Саши Щукина, который из следователей остался один. Так и замерли перед последним прыжком: с одной стороны я, Гена Нисифоров, Саша Щукин и наш бессменный проводник Бауди, с другой… Ох, в какую же мышеловку полезли…
Но интуиция не подвела. Додавили ведь Рамзана всем селом, всем родовым кланом. Не знаю, чего там было больше – просьб, угроз, но нам передали обмен в одиннадцать часов дня одиннадцатого октября.
Нам утром еду принес тот сорокалетний мужик, который заставлял меня переписывать последнюю записку насчет расстрела в ноябре.
Сам, без просьбу сообщает:
– У тебя, полковник, может кое-что получиться. В Москве задержали мафиози, и тебя хотят перекупить его подручные. Возможно, тайно переправим тебя в Москву, а мафия пусть разбирается с тобой дальше.
И – все. Снова – крышка, семь мешков под спуд, граната на особо ретивых.
Радоваться? Страшно. Еще неизвестно, что за мафиози и какие условия они выставят за мою свободу. И как переправят в Москву? В багажнике машины? Тайными тропами? Сколько это займет времени? Почему мафия прокрутилась быстрее, чем наши оперативники?
Нет, предложенный вариант – далеко не лучший. У мафии разговор еще короче, чем у боевиков. Не успели, наши – не успели…
Днем приехала машина из лагеря: неподалеку от нашего люка сложили гору оружия – от крупнокалиберных пулеметов до пистолетов и патронных цинков. Накрыли масксетью. Все это отследили через «перископ», и сообщение о моей перепродаже стало расплываться. Уже столько раз свобода была «вот-вот».
Из рассказа полковника налоговой полиции Е.Расходчикова:
В одиннадцать Рамзан стоял на «стрелке»
– А где Иванов?
– Деньги утром, стулья – вечером, – показал знание «Двенадцати стульев» главарь. – Сначала вы выполняете наши условия.
– А я с тобой буду говорить только после того, как напротив посадишь Иванова и я увижу, что он жив.
– Так не получится. Условия диктую я. Стулья.
– Условия будет диктовать ситуация. А она такова, что завтра я улетаю в Москву. Вместе с Мусой. И ты со своими проблемами можешь остаться один на один. И на сколь угодно долго.
– Ну ты крутой, размахался. Иванов жив, но далековато. Его надо еще привезти.
– Поехали привезем вместе.
– А не боишься? – Непримиримый вытащил пистолет, снял с предохранителя.
– Да вроде нет, – достаю гранату, выдергиваю чеку – Если что, ни твоя, ни моя.
– Ну ты брось, брось. Еще нечаянно отпустишь. Нам надо еще кое с кем посовещаться. Подожди.
И исчез Проходит час, второй, третий Я дергаюсь, но больше не за себя, а за Москву и Моздок, знаю, все руководство во главе с директором сидит у телефонов, все знают про одиннадцать часов, а тут еще конь не валялся. И связи никакой, одна граната в руке. Гена, Саша и Бауди стоят чуть в стороне, если пойдет провокация, чтобы не уложили одной очередью. И с места ведь не уйдешь, другого раза может не повториться.
Мимо проскакивают машины, ясно – идет проверка. Убежден, что весь район оцеплен, и надежда только на родственников Мусы, которые пообещали по горскому обычаю не дать гостей в обиду. А тут уже и темнота подступает.
Рамзан явился в сумерках, с дополнительной охраной.
– Ладно, будет тебе Иванов. Но чуть позже.
Все ясно они ждут ночи.
За миской для ужина пришли как обычно. Я подал посуду в открывшийся люк, но сверху бросили маску:
– Живо надевай и наверх. Быстрее.
От волнения долго не могу всунуть ноги в туфли. Жизнь снова, как в момент взятия в плен, круто меняется, и куда вынесет волна, одному Богу известно. А тот заранее еще никому ничего не сообщил.
Хочу попрощаться с ребятами, но сверху хватают за руки и выдергивают наверх.
– Скажи «асмелляй», – успевает прошептать Борис. С мусульманского на христианский – это что-то вроде «Господи, помоги».
«Господи, помоги. Асмелляй».
Маска на голове. Я вверху. Куда-то ведут, заталкивают в легковушку. По бокам, упирая автоматы в бок, тесно усаживаются невидимые и молчаливые охранники.
Выезжаем со двора и мчимся по трассе. Затем сворачиваем в лесок, пересекаем его, вновь трасса. Резкая остановка. Высаживают, перегоняют в другую машину. Снова дорога. Все молчат, но напряжение витает в воздухе. Боятся провокаций?
Наконец съезжаем на обочину, меня вталкивают в третью машину. Мимо по грассе проносятся авто, некоторые дают короткие сигаалы – идет проверка. Кому же меня передадут? Где передадут? Кто они, новые хозяева?
– Холодно, – втискивается охранник ко мне на заднее сиденье.
– Одиннадцатое октября. Осень, – осмеливаюсь ответить. А скорее, провоцирую на дальнейший разговор. Тороплюсь узнать хотя бы что-нибудь из своего будущего. Которое им-то наверняка известно. И которого, если честно, боюсь.
– А ты откуда знаешь дату? – удивился кто-то с переднего сиденья. – Дни, что ль, считал?
– Сегодня сто тринадцатый день плена, – подтверждаю удивление.
Пауза. Решают, что сказать. Ну?!
– Считай, что последний.
Последний – чего?
– Тебя сейчас меняем. – Это я уже знаю. – Спросить напоследок чего хочешь?
– А… ребята? Я чем могу им помочь?
Вопрос из серии предварительных заготовок: если начнут давать советы, значит, есть надежда…
– Если есть желание, передай их родным, что сумма, которую мы назвали, остается прежней. Имя посредника, способного нас отыскать, они знают. Но без денег пусть лучше никто не появляется.
Помню:
«Даже если сам Аллах спустится за вами,
но спустится без денег, —
расстреляем и Аллаха!»
И песню выучил:
Пустой карман не любит нохчи,
Карман командует: вперед.
Но сейчас главное для меня – то, что боевики дают советы. Играть в чувства им нет никакого смысла, значит, в самом деле можно на что-то надеяться? Вот только кому продадут-отдадут? Мафиози в лесу или глухой деревне жить не будет, возможно, что вывезут в сам Грозный. Только были бы там свет и тепло. А как переправлять в Москву, наверняка перед сделкой продумали. Если подключат к разработке операции и меня и раскроют хоть половину карт – а на это надо бы намекнуть! – сам рассчитаю все варианты и моменты передачи. После всего пережитого попасть под пулю из-за чьего-то недосмотра и куриных мозгов совсем не хочется. Надежда только на себя. Нужно с этой секунды держаться очень настороженно и при любой опасности или оплошности прыгать в сторону. От автоматной очереди, от нового мешка на голову и очередных дней и месяцев неволи. Боевики правы: сегодня последний день. Впереди – или новая жизнь, или ее конец. Третьего не дано. Третьего не хочу.
Включается магнитофон. Неизменные воинственные ритмы. Сколько выдержат чечены подобного барабанного боя? Придет ли к ним нормальная музыка?
Впрочем, что мне с того? Они сами заказали подобную мелодию…
С трассы вновь засигналили.
– Живо, – меня схватили за рукав и бегом потащили вперед. – Давай шевелись, твоя жизнь зависит от тебя.
Бегу, спотыкаюсь. Засовывают в очередную машину, которая сразу же набирает скорость. Окна почему-то открыты, ветер свистит по салону. Минут через двадцать – остановка. Меня выводят, но на этот раз спокойно. Останавливают. Чего-то выжидают. Срывают маску.
Ночь. Перекресток полевой дороги. Передо мной толпа женщин, парень на костылях. Напротив, с автоматами на изготовку, отряд Непримиримого. И он сам, усмехающийся. А где мафиози? И почему столько народа? Обманули? Все-таки сдают на растерзание селу, в котором погибли боевики?
Сбоку кто-то надвигается. Мафиози? Я готов радоваться и ему, кем бы ни оказался. Он в свитере, в руках замечаю зажатую гранату. Почему-то обнимает меня. Слышу шепот:
– Как имя-отчество Алмазова?
Называю, даже несмотря на неожиданность, сразу. Пугаюсь уже потом: а вдруг перепутал? И при чем здесь Алмазов? Может, это наши сработали под мафию?
– Ты – Иванов?
– Да.
– С возвращением. Поздравляю.
Снова обнимает.
– А вы… кто?
– Расходчиков. Из физзашиты.
Наши? Обмякаю в сильных объятиях. Так не умирают и не рождаются. Меня вытащили? Я буду жить?
Из рассказа полковника налоговой полиции Е.Расходчикова:
В том человеке, которого вывели из машины, тебя узнать было невозможно. Худой, заросший, в обмотках. Фотографии твои имелись у каждого оперативника, но то, что увидели…
– Ну что, полковник. Я тебя взял, я тебя и возвращаю, – подходит с вскинутым к плечу автоматом Непримиримый. – Авось когда-нибудь свидимся. Даст Аллах – не на войне.
– Помоги Махмуду и Борису. В подвале очень сыро.
– Попробую, – обещает, но без гарантии, боевик. Знать, сам не всегда волен делать то, что хочется. Ох, ребята, нет полной свободы в этом мире. И не будет. И пули ваши под красивые лозунги независимости и имя Аллаха не всегда были праведны. А уж деньги, полученные за страдания другого человека, не добавят вам ни счастья, ни благородства…
Непримиримый неожиданно протягивает руку. Ту, которая держала «красавчика» при моем пленении. Которая сжималась в кулак, чтобы больнее ударить. Которая, в принципе, и затолкала меня почти на четыре месяца в подземелье.
Демонстративно не заметить ее или все-таки пожать? Вокруг суматоха «стрелки», хлопают дверцы машин, отдаются команды. Через миг мы разъедемся в разные стороны, удерживая друг друга под прицелом. Интересно: а повернись фортуна и окажись я властителем судеб своих тюремщиков, что бы сделал?
Не знаю. Твердо убежден лишь в том, что никогда не посадил бы человека в яму. И не поднял бы оружия, чтобы расстрелять. Может, даже простил бы.
Прощу ли?
Рука Непримиримого все еще протянута. И это лучше, чем упертый в затылок ствол автомата.
Протягиваю свою в ответ. Как бы то ни было и что ни пришлось пережить, – за сдержавшего свое слово не пускать в расход без нужды Старшего. За Литератора, бросившего однажды в яму пакетик «Инвайта». За Хозяина, ни разу не поднявшего на нас руку и не повысившего голос. За Че Гевару. Чику, научившегося на войне не только держать в руках оружие, но и гитару. Крепыша, Боксера и даже Младшего Брата. Пусть они видели во мне лишь пленника и будущие деньги, – я в ответ сумел разглядеть в них и хорошее.
Поэтому вместо проклятий и презрения – прощение. Это тяжелее и пока через силу. Может, завтра пожалею об этом. Но Хозяин однажды радовался, что он чеченец, а не русский и не еврей. Но испокон веков русские, как никто другой, умели прощать. Что намного благороднее других человеческих качеств. Поэтому я тоже горд и счастлив, что родился русским. Ничего не забываю, но прощаю.
Ради будущего.
Хотя нет, я не прав. Моя протянутая рука – это в первую очередь страх за Бориса с Махмудом и неловкость перед ними. За то, что я на свободе, а они… Вскину гордо подбородок я – что падет на их головы? Мы слишком долго были связаны вместе и очень сильно зависим друг от друга…
Протягиваю еще и потому, что сам окончательно не верю в освобождение. Мне никто ничего толком не объяснил, и эта встреча посреди дороги может оказаться лишь «стрелкой», демонстрацией, что я жив. А после нее – опять все в разные стороны на долгие недели новых переговоров. А я уже научен: охрану раздражать – себе дороже.
Поэтому фраза «ради будущего» – это ради моего личного будущего и будущего оставшихся в неволе соподземельников. Я еще даже не снимаю топорщащийся из-под костюма корсет: выброшу, а как потом стану греться, где возьму новый? Не трогаю и обмоток, путающихся меж ног. И, наверное, все?таки прав Махмуд насчет моего хватательного рефлекса: если на происходящее смотрю с неверием, то на серый шерстяной свитер Расходчикова – с вожделением. Если нас все же станут развозить в разные стороны, надо будет успеть попросить у него одежду. А он в Москве возьмет мою…
Слышу гортанную команду – мгновенно реагирую только на нее. Боевики, пятясь, не спуская глаз и автоматов с толпы, отходят к машинам, хлопают дверцами и исчезают в пыли и темноте. На какое-то мгновение остаюсь совершенно один – можно тоже бежать в темноту и скрыться. Плохо, туфли разносились, спадают с ног. Придется бежать босиком…
– Все, теперь домой, – останавливает попытку вынырнувший сбоку Расходчиков.
А гарантия есть ехать домой? Он все предусмотрел? Рядом с ним всего двое русских, их лица знакомы – значит, из налоговой полиции. Но три человека – это так мало, это практически ничто во враждебной Чечне.
– Домой, домой, – загалдели чеченцы. Впервые усаживают в машину без повязки на глазах. Впервые не упирается под ребра ствол «красавчика». Но все равно пока ни во что не стану верить! Сто тринадцать дней ничего не происходило, а тут – нате вам? С чего бы это?
И в то же время как сладостно-томительно не верить в хорошее, когда в подсознании стучит: «Верь, верь, верь».
Мы сдавлены в «Жигулях», веревки корсета больно врезались в грудь. Потихоньку сначала ослабляю узлы, а затем развязываю их полностью. Стараюсь побыстрее и побольше надышаться – то ли свежим воздухом, то ли свободой.
Быстро въезжаем в село с редкими огоньками. Машина натужно вытягивает себя на пригорок, где нас ожидает еще большая толпа. Жители замахали руками, возбужденно заговорили. Радуются? Еще остались чеченцы, которые радуются моему освобождению? Как мне теперь к ним относиться?
А первое, что делают мои трое русских спасителей, – обнимаются сами. Значит, интуиция не подвела меня и встреча на ночном перекрестке висела на волоске?
– В дом, – приглашает сухощавый старик. – Все в мой дом. Сегодня у нас праздник.








