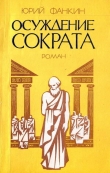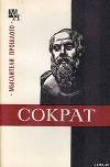Текст книги "Во имя истины и добродетели
(Сократ. Повесть-легенда)"
Автор книги: Николай Фомичев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава третья
АФИНСКИЙ МАРСИЙ

Человек должен из себя развить, в себе найти, понять то, что составляет его назначение, его цель, конечную цель мира, он должен собою дойти до истины – вот мета, которой Сократ достигает во всем.
А. И. Герцен
 повторяя природу отца, Софрониска, стал Сократ с годами лысеть, тучнеть и летам к сорока благодаря своей лысине, выступающему животу и массивному шишковатому лбу, словно надвинутому на выпученные глаза, своим мясистым губам и короткому вздернутому носу, уподобился при своей низкорослости силену[55]55
повторяя природу отца, Софрониска, стал Сократ с годами лысеть, тучнеть и летам к сорока благодаря своей лысине, выступающему животу и массивному шишковатому лбу, словно надвинутому на выпученные глаза, своим мясистым губам и короткому вздернутому носу, уподобился при своей низкорослости силену[55]55
Силен – мифическое существо, спутник бога вина и веселья.
[Закрыть] Марсию, кого художники изображают козлоногим уродом, так истово дующим в дудку, что щеки у него готовы лопнуть от натуги. Но не только обликом напоминал Сократ мифического Марсия, но и воздействием на собеседников силой своих речей, ибо завораживали они людей не меньше, чем флейта Марсия.
И, обманутые внешностью Сократа, бывало, не раз потешались над ним заезжие чужеземцы, а сириец Зопир, физиогном[56]56
Последователь учения о выражении человека в чертах лица и формах тела.
[Закрыть] и маг, по первому взгляду определил его как человека ограниченного и к тому же склонного к пороку, за что и был осмеян учениками Сократа. Сократ же сказал: «Да, именно таким я и был, Зопир: знаний ограниченных, а страстей безграничных. Но, видят боги, с помощью разума мне удалось обуздать свои пороки».
И, уязвленный славой афинского Марсия, пришел к нему юный отпрыск славного рода Солонов[57]57
Солон – афинский законодатель, поэт, один из семи мудрецов древности (VI в. до н. э.).
[Закрыть], Критий, учившийся у софистов философии и риторике, и, желая возвыситься в глазах афинян ниспровержением Сократа, спросил, найдя его с друзьями сидящим в тени смоковницы:
– Слышал я, будто Сократ внушает всем и каждому, что есть только одно благо – знание и одно только зло – невежество. Так ли это?
И Сократ сказал, жестом усадивши Крития напротив, на траву:
– Именно так, почтенный Критий.
– Значит ли это, почтенный Сократ, что причина всякого зла есть незнание?
– Точнее было бы сказать, что причина зла кроется в незнании.
– Пусть так. Тогда ответь, можно ли считать невеждами Писистратидов[58]58
Сыновья афинского тирана Писистрата (VI в. до н. э.).
[Закрыть], Гиппия с Гиппархом? Ведь, унаследовав власть отца, они совершили не одно кровавое злодеяние…
– А разве Критий сомневается в невежестве Писистратидов?
И Критий сказал, насмешливо блести глазами:
– Не только не сомневаюсь, Сократ, но даже уверен, что уж в чем, в чем, а в невежестве их упрекнуть никто не сможет: ведь они правили Афинами семнадцать лет!
– Важно не сколько, а как править, Критий. А правили они, злодействуя, как сам ты только что признал, за что и поплатились: одного афиняне убили, а другого изгнали…
– Как же ты, Сократ, не понимаешь, что злодейство Гиппия и Гиппарха было разумным! Иначе с ними самими еще раньше расправились бы их противники! В чем же невежество Писистратидов? – И вновь у Крития глаза блеснули насмешкой.
Сократ же спросил:
– Скажи мне, Критий, назовем ли мы правителем того, кто носит скипетр, или того, кто правит умело?
– Того, кто правит умело, конечно.
– А не кажется ли тебе, что «править умело» – это значит благодетельствовать подданным своим, а не себе?
– Именно так…
– Можем ли мы тогда назвать невеждой правителя, не разумеющего этой истины?
– Как же еще его назвать?
– Но ведь Гиппий и Гиппарх как раз и не считались с этой истиной! Притесняя афинян, они обогащали себя и родных своих. Именно это и вызвало недовольство народа, на что Писистратиды ответили казнями и конфискацией имущества в свою пользу. Не вправе ли мы сказать теперь, Критий, что Гиппия и Гиппарха сгубило их невежество?
И Критий сказал задумчиво:
– Клянусь Гераклом, ты прав, Сократ!
Но, признавши правоту Сократа на словах, не признал ее Критий в душе, ибо смолоду был болен честолюбием и за место за столом у власти готов был заплатить любой ценой. Разум же его сказал ему: «Умен Сократ и мудр, и овладевший Сократовой мудростью быстрее достигнет цели, чем одним своим умом». И, следуя зову рассудка, пристал к ученикам Сократа Критий, учась у афинского Марсия искусству риторства и спора. Но едва проворный разум Крития схватил подход Сократа к сложению ораторских речей и к поискам истины в споре, возжаждал он в глазах сограждан помериться при случае умом с самим учителем. И когда Сократ, беседуя с друзьями все о той же справедливости, сказал:
– У кого научиться тому или другому ремеслу, это знают все и не знают более важного – к кому обратиться для изучения справедливости…
Критий перебил его, с насмешкой глядя на друзей и почитателей Сократа:
– Учитель, сколько можно говорить об одном и том же! Не пора ли тебе избрать другой предмет для спора? Все ведь слышали по многу раз рассуждения твои о справедливости и главное из них – «справедливо то, что законно»…
– Более того, Критий, – с улыбкой подхватил Сократ, – я не только об одном и том же говорю, но и одно и то же. А вот уж ты в силу своего многознания, наверно, никогда не выражаешься одинаково об одном и том же?
– Да, Сократ, уж я-то всегда стараюсь сказать что-либо новое о старом предмете.
– Что же, и относительно общепринятого, к примеру, в правилах грамматики или арифметики, ты отвечаешь каждый раз по-разному? Если тебя спросят, сколько букв в слове «Сократ» или сколько будет дважды пять, ты отвечаешь неодинаково?
– Э, нет! Здесь я, так же как и ты, говорю всегда одно и то же, но что касается справедливости, Сократ, то относительно ее я могу сказать нечто новое…
И, оборотись к ученикам своим, сидевшим рядом, под деревом, сказал Сократ лукаво:
– Что же, друзья, я думаю, мы с удовольствием послушаем Крития: ведь новое так редко приходит на ум! Так что ты, Критий, можешь нового сказать о справедливости?
И Критий изрек:
– Справедливым я считаю все, с помощью чего достигают блага!
– Блага для себя или для государства? – спросил Сократ.
– Конечно, для себя, Сократ! Каждый стремится к благу!
– Пусть будет так. И что же за «все» ты позволяешь стремящимся к благу? Украсть или ограбить в целях наживы, это ты тоже считаешь справедливым?
– Ни в коем случае, Сократ! Ясно, что под словом «все» я понимаю поступки, не вредящие всем остальным.
– И как же ты определяешь, Критий, какой из твоих поступков вреден людям, а какой безвреден?
И, рассмеявшись, Критий сказал:
– Какой же ты недогадливый, Сократ! Конечно, с помощью разума! Не ты ли нас учил во всем полагаться на разум?..
– Было бы прекрасно, Критий, если бы все люди руководствовались разумом, но ведь в жизни так не бывает…
И сказал смущенный Критий:
– В самом деле, Сократ, ведь на разум могут полагаться лишь сознательные граждане… Пожалуй, мое понимание справедливости надлежит дополнить словом «сознательный» или «разумный». Справедливо все, с помощью чего достигает блага разумный! Именно так, Сократ!
И тогда рассмеялся Сократ:
– Думаю, что совсем не так! Ведь и разумный не всегда полагается на разум, когда его одолевают страсти. Да и можно ли считать справедливым то, что подходит для одних и не подходит для других?
И, краснея, признался Критий:
– В самом деле, здесь я дал какую-то промашку, Сократ…
– Тогда подумай, Критий, и скажи: что всего надежнее предохраняет граждан от посягательств со стороны других людей? Молчишь? Так я тебе скажу: законы! Только они, законы, охраняют одних и удерживают других, разумных, не желающих прислушиваться к голосу разума, и неразумных, всех без исключения, от поступков, наносящих вред другим людям! Разве не так?
– Именно так, Сократ…
– Не вправе ли мы тогда сказать, что и в данном случае, при стремлении к какому угодно благу, справедливо лишь то, что законно?
– Да, Сократ, теперь я понял, почему ты вновь и вновь говоришь об одном и том же.
– И прибавь еще – одно и то же! – улыбнулся Сократ и под смех своих друзей-учеников потрепал растерянного Крития по голове.
И, в сильной досаде за свое поражение, отправился Критий домой, не сдвинувшись ни к скромности, ни к доброте…
Но больше даже, чем первенство Сократа в спорах, злила Крития праведность жизни учителя, ибо не только призывал он обуздывать страсти, но и показывал примеры воздержания во всем, к чему стремилось тело. Сам же Критий, развращенный с детства вольным воспитанием, в удовольствии удержу не знал и лишаться их не собирался. Следуя для виду обету воздержания, тайно предавался он порокам и, не веря в праведность Сократа, потому как о людях судил по себе, замыслил его совратить красою женщины и тем ославить в глазах афинян.
Курчавый, статный, как Гермес, одетый в лазурного цвета атласный хитон, был Критий любим красивейшей гетерой Лаидой, и хотя давно преклонялась она перед умом Сократа, Критий с помощью богатого преподношения, ожерелья из жемчуга, добился от нее согласия быть искусительницей мудреца…
Когда же истек положенный по уговору срок, созвал к себе Критий друзей – всех знатного рода, – коих держал пока в неведенье о замысле своем, и, дождавшись прихода Лайды, настроился вкусить ее рассказ о совращении Сократа.
И белокурая Лаида, чью лебединую шею и грудь украшало жемчужное ожерелье, расположившись на ковре перед мужчинами и пригубив из кубка вина, повела с улыбкой речь[59]59
Трансформированный эпизод из «Пира» Платона.
[Закрыть]:
– Так слушайте, люди! Я собираюсь сказать о Сократе правду, а если ненароком совру, перебейте меня. Так вот, Сократ, как вы знаете, более всего похож на Марсия. Только Марсий завораживал людей силой своих уст, с помощью флейты, а Сократ достигает того же самого своими речами. Когда я слушаю его, сердце мое бьется сильней, чем у беснующихся колдунов, а из глаз моих льются слезы. Только перед ним одним испытываю я то, чего бы за мной никто не заподозрил, – чувство стыда. Я стыжусь его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений. А стоит мне покинуть его – соблазняюсь успехом, которым я пользуюсь у мужчин. Да-да, я пускаюсь от него наутек, потому что мне совестно. А теперь послушайте, какой удивительной силой обладает этот силен. Все знают, что Сократ любит красивых, восхищается ими. И вот, полагая, что он давно неравнодушен к моей цветущей красоте, я сочла ее великим даром и счастливой своей удачей: ведь благодаря ей я могла, уступив Сократу, доказать самой себе, что красота сильнее мудрости, и освободить себя от угрызений, в которые повергали меня речи этого Марсия. Вот какого я была невероятного мнения о своей красоте. С такими-то мыслями я отпустила однажды провожатого, без которого я до той поры не встречалась с Сократом, и осталась с ним с глазу на глаз – скажу уж вам, так и быть, всю правду, и тебе, Критий, тоже…
Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждала, что он заговорит со мной тем языком, каким говорят влюбленные без свидетелей, – и я заранее радовалась. Но ничего такого не случилось. Проведя со мной день в обычных беседах, он удалился. Тогда я решила взять его приступом: пригласить его поужинать со мной, ну прямо как влюбленная, готовящая ловушку любимому. Даже эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов все же принял мое приглашение…
Явившись в первый раз, он сразу после ужина пожелал уйти, и я, застеснявшись, отпустила его. Залучив его во второй раз, я болтала с ним до поздней ночи, а когда он собрался уходить, сослалась на поздний час и заставила его остаться. Он лег на соседнее с моим ложе, на котором возлежал после ужина, и никого, кроме нас, в комнате этой не было. Так вот, несмотря на все мои ухищрения, Сократ одержал верх и пренебрег цветущей моей красотой. А я-то думала, что она хоть что-то да значит! Ибо, клянусь вам всеми богами и богинями, побыв со мной рядом всю ночь, он даже не притронулся ко мне!.. Я была беспомощна и растерянна. Он покорил меня так, как никто не покорял. Вот каков этот афинский Марсий! – И сняв с себя жемчужное ожерелье, протянула Лаида его бледному от гнева Критию, говоря: – Возвращаю, Критий, твой подарок в знак признания бессилия моих женских чар!..
Но Критий, маскируя гнев улыбкой, накинул вновь ожерелье на шею гетеры, сказав:
– Клянусь Гераклом, ты заслужила подарок, Лаида… муками, которые испытывала, всю ночь пытаясь укусить собственный локоть! – И, поощренный дружным смехом гостей, поднял полный кубок. – Так выпьем, друзья, во славу моего учителя Сократа!
…Сократ же в ночь состязаний с Лайдой понял: нет чище женщины, чем законная жена, и замыслил скорее жениться. Давно уже он присматривал подругу жизни, да только было нелегко найти такую, которая была бы и собой пригожа, и домовита, а сыну Мирто – доброй матерью, ибо пришла пора вернуть Лампрокла из семьи Критона. И как-то раз, идя по базару, услышал он задорный девичий клич из керамического ряда:
– Горшки! Покупайте горшки! Звонкие, тонкие, глазурованные – о, какие! И варить годятся, и тушить, и голову постылому разбить! Кому горшки?!
И, рассмеявшись, подошел Сократ к горшечному прилавку и увидал саму горшечницу; а была она белолица, черными искристыми глазами и черной прядью волос напоминала персиянку.
– Сколько стоят твои горшки, девица? – спросил Сократ, дивясь на ее красоту.
Девица же, взглянув на драный хитон Сократа, отворотилась от него.
– Почем горшки? – в другой раз спросил Сократ.
И тогда горшечница сказала:
– Да на какие же шиши ты собрался горшки покупать, оборванец? У тебя небось и обола[60]60
Обол – мелкая монета, 1/6 драхмы.
[Закрыть] за душой не сыщешь?
– Покупать горшки я, может быть, и не собирался, а вот завладеть ими вместе с тобой, красавица, я, пожалуй бы, смог, – лукаво ответил Сократ, привлекая любопытство горожан, знавших, что там, где появляется афинский Марсий, всегда найдется место для веселой шутки.
– Уж не хочешь ли ты ко мне посвататься? – рассмеялась горшечница, показав свои ровные, как чесночники, зубы.
– А почему бы и нет? – улыбнулся Сократ.
Она же сказала, весело подбоченясь:
– Вот умора! Да кому ты нужен с этаким брюхом?!
И смех послышался в толпе зевак, а голос чей-то сказал:
– Так ведь это же Сократ, Ксантиппа!
– A-а, так это ты и есть Сократ! – удивилась Ксантиппа. – Слышала я, что ты не больно-то красив, но такого лысого урода и представить не могла! Ладно, Сократ: пошутил – и будет, некогда мне с тобой лясы точить…
И сказал Сократ, качая головой:
– Да вовсе я и не шучу, Ксантиппа: ты ведь мне и в самом деле приглянулась. Так что почему бы нам не пожениться, а?..
И, всплеснув руками, Ксантиппа сказала:
– Вы поглядите на него! Я ему приглянулась! Да ты-то мне не больно! Да и какой из тебя муж! Ты же гол как сокол!..
И напомнил кто-то из толпы:
– Да разве голова Сократа ничего не стоит?..
Ксантиппа же сказала:
– А толку что с его головы, если мудрость свою она расточает всем бесплатно? Или, может быть, при нужде прикажете сдавать эту голову ростовщику-меняле?
И сказал Сократ с улыбкой:
– Напрасно, Ксантиппа, ты думаешь, что у Сократа ничего больше нет, кроме этой бесполезной головы. У него еще имеется в придачу пара рук, пригодных в хозяйстве! – И с этими словами, выхватив из-за прилавка завизжавшую Ксантиппу, играючи вскинул ее над своей головой Сократ и усадил на самый большой горшок, стоявший рядом.

Ксантиппа же, от стыда за наготу своих статных ног, вынырнувших из-под пеплоса по самые коленки, размахнувшись, шлепнула Сократа по щеке.
– Вот это женщина! – восхитился Сократ, поглаживая щеку.
А кто-то из хохочущих зевак сказал:
– Нет, Сократ! Не подойдет она тебе: уж больно норовиста!..
– Ошибаешься, приятель, – возразил ему Сократ. – Тому из наездников большая слава, у кого норовистая лошадь! – и помог освободить из устья горшка крутобедрую Ксантиппу…
И в тот же день, отвезя тележку с непроданными горшками Ксантиппы в дом к отцу ее, гончарному мастеру Нактеру, посватался Сократ, а погодя неделю, в праздник Кружек, справили они с Ксантиппой свадьбу в сопровождении друзей и факельного шествия. В приданое же дочери отдал Нактер пятьсот кустов виноградника из своего участка в близлежащей деревушке Гуди.
…И Сократ не ошибся в Ксантиппе: несмотря на норовистый нрав, сделалась она и любящей женой, и домовитой хозяйкой, а Лампроклу – матерью, строгой, но справедливой. Была, как говорили, и Ксантиппа счастлива мужем, и только одно огорчало ее: нужда глядела в доме из каждого угла, Сократ же не стремился к денежной жизни; сам довольствуясь малым, он призывал к тому же сына и жену, говоря: «Мы едим, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть». Когда Ксантиппа ссылалась на богатых, у кого рабы живут лучше, чем Сократова семья, он отвечал: «А что проку от богатства? Оно лишь развращает человека». И повторял: «Серебряные сосуды и пурпурные одежды в театре хороши, а в жизни – смешны!»
И позвал он однажды к обеду богатых гостей, Ксантиппе же сделалось стыдно за скудность стола, но Сократ ее утешил, говоря: «Не тревожься. Если они люди порядочные, они пас не осудят, а если пустые, то нам до них дела нет».
Своим привычкам он не изменил, большую часть времени проводя в беседах с афинянами, и только появлялся перед ними не в драном хитоне, как прежде, а в чисто выстиранном и заштопанном Ксантиппой; когда же отправлялся к именитым людям или в театр, то, по настоянию жены, надевал еще сандалии. В ответ на упреки Ксантиппы, что-де, имея возможность хорошо зарабатывать, беря за свои собеседования какую-либо плату, он этого не делает и делать не хочет, спросил ее Сократ:
– Какой из божественных даров, Ксантиппа, мы более всего ценим в женщине?
– Ее красоту, наверно, – ответила жена, вспомнив о своей пригожести.
– А в мужчине?
– Думаю, что разум…
– А теперь скажи: как мы называем женщину, кто главный дар богов, свою красу, продает за деньги?
– Продажной девкой! Как же еще!
– Так не вправе ли мы и мужчину, торгующего своим умом, уподобить продажной девке?
– Но ведь софисты-мудрецы берут за обученье плату! – нашла что возразить Ксантиппа.
Сократ же сказал:
– Потому-то я уподобляю их блудницам!..
Когда же не хватало у Сократа слов образумить жену, хватал он ее в охапку и, целуя, душил в своих могучих объятиях, а не то – смеясь, пускался перед нею в пляс; плясал он часто и охотно, говоря Лампроклу, что такое упражнение полезно для крепости тела, и сын, хохоча, пускался в пляс с отцом…
И отступившись, наконец, от нареканий мужу, смирилась Ксантиппа с участью своей, довольствуясь ведением хозяйства на средства, что приносил им виноградник в Гуди да выводок кур…
…И, подобно горящему факелу, что освещает темные своды пещеры, неустанная мысль и слово Сократа озаряли светом разума учеников его, рождая в их лице создателей неведомой в Афинах нравственной философии, ибо обращались в сочинениях своих не к мертвому космосу, не к загадкам физики и математики, а к тайнам человеческой души и разума.
И, в подражание Сократовых речей, форму для писаний выбрали ученики доступную для всех, в вопросах и ответах. Темы же их философских диалогов ясны из их названий: «О том, что люди не от ученья хороши», «Об избытке», «Что нужно человеку», «О дурном поведении» – назывались сочинения Критона, призывавшие к добру и истине; и тому же самому учили диалоги Симона, названные после «Кожевническими» (ибо держал Симон для пропитания семьи кожевню): «О справедливом», «О том, что добродетели нельзя научиться», «О мужестве», «О предводительстве над народом», «О чести», «Об усердии и труде», «О стяжательстве», «О похвальбе» и прочие. Диалоги же колбасника Эсхина отличали столь искусный слог и сила мысли, что лучшие из них злословы приписали после самому Сократу, хотя речей своих тот не записывал.
И замыслив переплюнуть творения друзей Сократа, самозваный ученик его Критий сочинил в ту пору философскую драму «Сизиф»[61]61
Сизиф – мифический царь Коринфа, в ослушание богов приговоренный в подземном мире вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, каждый раз срывался вниз; отсюда выражение «сизифов труд» – тяжелая, бесполезная работа.
[Закрыть], но, подобно тому, как не утаить шила в мешке, так же и дару поэта Крития не удалось сокрыть в «Сизифе» честолюбивого зломыслия, ибо доказывал он в драме, что вера и законы есть установление правителей, а не богов и не народа. Когда же, в день успеха представления «Сизифа» в театре Дионисия, явился Критий с лавровым венком на голове, в шитом золотом лазурном хитоне к афинскому Марсию, дабы насладиться похвалой его, Сократ, сидевший на крыльце своей хибары в окружении друзей, спросил его:
– Судя по тому, с какой поспешностью ты к нам пришел, любезный Критий, тебе не терпится услышать похвалу «Сизифу», не так ли?
– Ты очень прозорлив, учитель, – ответствовал Критий, потупя глаза.
Сократ же сказал:
– Так разве тебе не хватило похвал, которые ты получил в театре? Я слышал, тебе устроили овацию…
– Да не в этом дело, Сократ, – смутился Критий. – Не скрою, что я был бы рад твоей похвале. Только мне куда важнее выслушать твое суждение. Мне говорили, ты прочел «Сизифа»…
– Вот теперь ты выразился верно, Критий: мое суждение тебе важнее всех похвал.
– Да, Сократ, важнее и оваций и поношений.
– Клянусь харитами, славно сказано, Критий! Видно, ты и впрямь считаешь меня сведущим в этом деле. Признаюсь, что и для меня мнение одного сведущего дороже мнений тысяч людей несведущих. А ведь среди тех, кто был на представлении, наверняка немало и таких, кто больше обращает внимание на костюмы лицедеев и красоту декламации, чем вдумывается в смысл драматического сочинения.
И Критий, усмехнувшись, признал:
– Невежд там было предостаточно, Сократ!
– А драма твоя вот, – сказал Сократ, вытащив из-за пазухи свиток и отдав его Критию. – Не потеряй ее. А теперь мое суждение: мысль «Сизифа» мне кажется и неверной, и даже порочной.
– Но почему, Сократ?! – воскликнул растерянный Критий. – А может, ты меня неверно понял?
– Что ж, давай рассмотрим, понял или нет.
– С радостью, учитель! – приободрился было Критий.
– А утверждается тобою, Критий, вот что: подобно сизифову труду, тщетны упования людей, что будто бы законы и веру для них устанавливают боги. – И добавил Сократ, поглядев на друзей: – Для тех, кто, как Критий, богов не признает, давайте считать под этим словом совесть. Так вот, а тщетны эти упования людей потому, как сказано в «Сизифе», что на самом-то деле и законы и вера есть хитроумные изобретения правителей, чтобы держать народ в повиновении. Так ли я понял, Критий?
– Клянусь Гераклом, ты правильно понял! Но почему, Сократ, ты эту мысль назвал неверной?
– Сейчас узнаешь. А сперва ответь: справедливы ли законы Драконта[62]62
Драконт – афинский законодатель (621 г. до н. э.), законы которого отличались крайней жестокостью, отсюда «драконовские законы».
[Закрыть]?
– Ни в коем случае!
– А законы Ликурга[63]63
Ликург – легендарный спартанский законодатель IX–VIII вв. до н. э.
[Закрыть] и Солона?
– Конечно, справедливы…
– Почему же? Не потому ли, что они, в отличие от законов Драконта, выражали единомыслие граждан?
– Именно поэтому!
– Можем ли мы сказать тогда о законах Ликурга и Солона, что, хотя они и названы по именам правителей, на самом-то деле они установления богов, то есть совести, если тебе так больше подходит, Критий?
– Да, Сократ, хотя они, эти законы, и исходили от правителей, но выражали добрую волю граждан.
И тогда сказал Сократ:
– Но ведь ты в своем «Сизифе» утверждаешь, что законы и вера – хитроумные изобретения правителей для укрепления собственной власти!
И в замешательстве сказал краснеющий Критий:
– В самом деле, Сократ, пожалуй, мне следует уточнить в стихах, что речь идет о законах и вере неправедных.
Сократ же сказал:
– Говоря по-другому, речь идет о беззаконии: ведь законно только то, что справедливо, Критий! Потому-то я и назвал твое сочинение вдобавок ко всему порочным, что ты в нем славишь беззаконие правителей!
И, давя в себе гнев перед глазами Критона, Эсхина, Симона и прочих, сидевших рядом, Критий сказал, склонивши голову:
– Как всегда, ты прав, учитель! Мне стоит хорошенько подумать над моим «Сизифом».
Когда же он ушел, Сократ сказал, поведя своими выпуклыми, грустными глазами в сторону друзей:
– Судя по всему, Критий ушел от нас и разгневанным и обиженным, так и не поняв, что я совсем не собирался ославить его, а лишь искал с его помощью истину…
И Критон, осторожный во всем, заметил на это:
– И все же ты его ославил… Да и впредь, Сократ, для твоего же блага, не мешало бы тебе считаться с самолюбием людей: все ведь сочинители, особенно юные, как Критий, больны самолюбием. Не нажить бы тебе врага в его лице.
Сократ же спросил:
– Тогда скажи, дружище Критон, как, оспаривая мысль человека, не задеть его самолюбия?
И не нашел Критон ответа в разуме своем.
Ославленный же Критий с тех пор навсегда отошел от Сократа и, затаив в душе своей ненависть к учителю, утешался лаврами, которые пожинал с представлений «Сизифа», не изменив в нем ни строфы.
…А на место Крития пристал к ученикам Сократа некий Антисфен[64]64
Антисфен – будущий основатель философского учения киников.
[Закрыть], учившийся риторике у Горгия. Живя в Пирее, пришел однажды Антисфен послушать афинского Марсия, но, завороженный речами его, стал ходить к нему каждый день, проделывая путь в сорок стадиев[65]65
Восемь километров, расстояние от порта Пирей до Афин.
[Закрыть]. И, в подражание Сократу, отпустил себе бородку юный Антисфен, сбросил сандалии, дорогую трость сменил на сучковатый посох, а трибон[66]66
Трибон – короткий грубый плащ спартанского образца.
[Закрыть], проделав в нем несколько дыр, надел на голое тело. Сократ же, заметив проделку с трибоном, сказал перед лицом друзей своих: «Сквозь дыры этого плаща, Антисфен, просвечивает твое тщеславие!» – и так устыдил новичка, что тот залатал свой трибон и впредь слыл среди Сократовых учеников скромнейшим.
И в ту же пору позвал к себе Сократа престарелый Перикл, прося направить на путь истинный своего юного племянника, Алкивиада. Сократ же, взглянув на красавца юношу, сказал: «Воспитывают тех, кто поперек постели умещается, тому же, кто вдоль – добродетели не научиться». – «Научи его самопознанию», – сказал Перикл, и о том же просила Аспасия, блистающую красоту которой не смогли одолеть ни роды ребенка, ни сорокалетие прожитой жизни. Юный же Алкивиад, привлеченный необычной внешностью афинского Марсия, сам вызвался в ученики его. Сократ же сказал добродушно: «Путь к истине никому не заказан: хочешь найти ее, следуй за мной».
И, восхищаясь праведным образом жизни Сократа и друзей его, не смог, однако же, Алкивиад расстаться с роскошью, привычной ему с детства, и, следуя в кругу Сократовых учеников, выглядел средь них как белая ворона, ибо облачался в неизменно дорогой хитон, украшенный золотым шитвом орнамента: египетская пирамида, пальма и сфинкс, или в белую хламиду[67]67
Хламида – короткий плащ для верховой езды.
[Закрыть], расшитую желтыми цветами лотоса; в руке сжимал эбеновый посох с набалдашником из чистого золота; черные блестящие кудри подвивал и повсюду за собой таскал любимую собаку Дариона, у которой еще раньше смеха ради отрубил ее длинный хвост. И отличаясь широтой души, продолжал Алкивиад закатывать пиры с друзьями.
Но обманчив был изнеженный облик Алкивиада, ибо во всех делах, касалось ли то постижения мусических искусств или состязаний в ловкости и силе на ристалищах, одерживал он верх, потому как исступленно упражнял свой дух в гимнасии, а тело – в палестре. И, оценив любознательность Алкивиада, его живой, свободный ум, веселый незлобивый нрав и мужество в гимнастических поединках, возлюбил его Сократ как сына, и той же монетой платил учителю Алкивиад, влюбившись навсегда в божественный дар афинского Марсия: ища во всем истину, идти по пути добродетели. Но не успел Алкивиад последовать примеру учителя, ибо сгустились тучи над афинским государством и, разразившись войной, прервали надолго просвещение умов в Афинах…
…Ветер же, собравший грозовые тучи над головами афинян, дул уже давно – из аристократического Коринфа, соперника Афин в торговом могуществе. И дабы ослабить власть соперницы, внушали коринфяне недовольство в дружеских Афинам городах, что-де они лишь данники этой царицы морей, бездумно расточающей союзную казну на роскошные строительные прихоти Перикла. Главу же своего, Пелопоннесского союза, Спарту, настраивали коринфяне против укрепления военной мощи афинян, готовя тем самым войну.
И желая развалить к тому же народовластие в Афинах изнутри, вступили коринфяне в сговор с афинскими аристократами, толкая их на то, чтобы свалить слабевшего от старости Перикла. И начали враги Перикла плести вокруг него и близких его тенеты лжи и сплетен.
И первой жертвой происков аристократов пал Анаксагор: играя на невежестве народа, обвинили богачи философа в безбожии, и грозила казнь ему за тяжесть преступления. И первый кинулся Сократ спасать учителя но сколько ни доказывал согражданам нелепость расправы над старцем по прозвищу Ум, бросили Анаксагора в темницу. Тогда, собрав остатки слабнущего красноречия, выступил в Собрании Перикл и вопросил народ:
– Дает ли жизнь моя, благородные афиняне, хоть какой-то повод к осуждению и нареканиям?
И народ, чтя творения Перикла – Пропилеи, Парфенон, Одеон[68]68
Одеон – здание округлой формы для музыкальных представлений и состязаний.
[Закрыть] и Длинные стены, а самого создателя могущества Афин – за ум и справедливость, закричал едино душно:
– Нет, Перикл! Никаких тебе нареканий нет, а только лишь хвала!
И тогда сказал прославленный стратег:
– А между тем, сограждане, всем, что есть во мне хорошего, я обязан Анаксагору! Так не поддавайтесь же клевете, отпустите этого человека!
И Собрание постановило: вместо казни над безбожником Анаксагором изгнать его!
И, кляня невежество людское, проводил Сократ убитого горем учителя в Пирей, откуда тот отплыл в Лампсак, что в Геллеспонте[69]69
Геллеспонт – древнее название Дарданелл, пролива между Европой и Азией, соединяющего Эгейское море с Мраморным.
[Закрыть].
По прибытии же на место спросил его великодушный управитель города:
– Что я могу для тебя сделать, Анаксагор?
Анаксагор же пожелал:
– Пусть, когда умру, на тот месяц всегда освобождают от занятий школьников.
И, не вынеся обиды от любимых им Афин, в изнеможении духа, лишил себя жизни старый философ. Но предсмертную волю его исполнил правитель Лампсака, и освобождение школьников на месяц смерти Анаксагора сделал обычаем города, а на могильной плите философа распорядился высечь надпись:
Тот, кто здесь погребен,
перешел пределы познанья —
Истину космоса ведавший Анаксагор.
Жертвой же второй врагов Перикла сделался ближайший друг его, ваятель Фидий, ложно обвиненный в краже золота, назначенного украшать скульптуры. И так искусно сработан был обман – золото подкинули Фидию в дом, после чего «нашли» его при обыске, – что даже Перикл бессилен оказался доказать обман и тем спасти от расправы друга. И бросили великого ваятеля в тюрьму, где он и умер вскоре, больше от позора, чем от лишений.
И, осмелев, решились посягнуть противники Перикла на святая святых его – Аспасию и, дабы исподволь ее ославить, публично обвинили сперва друзей ее, софистов, в злокозненном безбожии; поскольку же софисты и вправду открывали людям тайны, неведомые богам, и тем возвышали власть ума над властью олимпийцев, то голосами возмутившихся жрецов и прорицателей, кормящихся на жертвенные подношения молящихся, приговорили чужеземных мудрецов к изгнанию из города, после чего подали в суд и на саму единомышленницу изгнанных; и дабы большую злобу родить в сердцах афинян, пустили обвинители слух, что будто бы Аспасия в своем мусическом кружке толкает юных девушек на путь разврата, и сплетню эту подхватили давние завистницы судьбы прекрасной милетянки, невежественные жены богачей…
И состоялся суд по обвинению Аспасии в безбожии и дурном влиянии на юных девушек, суд, невиданный для афинян, ибо казнь грозила прекраснейшей из женщин, а защищал ее первый в государстве муж. И едва начавши защитительную речь, Перикл, кого сограждане привыкли видеть каменно-бесстрастным, человек, казалось, неспособный вообще на чувственные излияния, вдруг зарыдал и оросил свой мужественный лик таким обилием слез что судьи онемели: в обычае судов афинских было прибегать для обвиняемых к слезам, дабы смягчить сердца обвинителей, но увидеть плачущим железного стратега – этого не ожидал никто; и была Аспасия оправдана. И заключив, как тень, исхудавшую от горестей жену в объятия, повел ее Перикл домой…