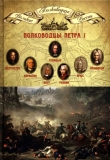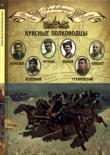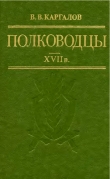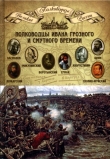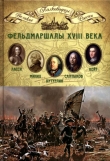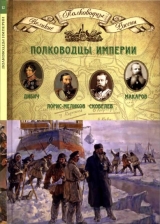
Текст книги "Полководцы империи"
Автор книги: Николай Копылов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Но, конечно, для исправного военного корабля «хороших щей» недостаточно. «Мне кажется, что степень занятия и развития команды не зависит (а если зависит, то очень мало) от самой команды. Командир и офицеры могут так ее поставить, что будет заглядение; главное – нужно завести особенный дух и чувство собственного достоинства между всеми матросами. Нужно, чтобы они гордились именем своего судна, а не употребляли его в смысле карцера. Этого можно достигнуть беспрестанной заботливостью об удобстве команды не только капитаном, но и всеми офицерами. Эта заботливость не должна распространяться только на хорошее качество провизии и амуниции. Но, главное, не удобство жизни. Нет ничего вреднее, как приказания ни к чему не ведущие; это такой вред, какой только может быть. Команда, не видя пользы и необходимости их, лениво исполняет приказания, приучается к неповиновению, неуважению офицеров, все это – прямые шаги к упадку дисциплины».
Ф. Ф. Врангель рассказывал: «Когда я был у него в гостях и спросил, доволен ли он, Степан Осипович с грустью мне ответил, что считал бы своим местом Порт-Артур. «Меня пошлют туда, когда дела наши станут там совсем плохи». Адмирал даже повесил в своем кабинете лозунг «Помни войну!» – тот самый, что потом украсит постамент самого лучшего ему памятника в Кронштадте».

Памятник С. О. Макарову «Помни войну!». Установлен в 1913 г. на центральной площади Кронштадта
Почему он призывал помнить войну? Кронштадтский губернатор вовсю засыпает руководство докладными о необходимости срочно укреплять Порт-Артур и готовить к войне Тихоокеанский флот. За четыре дня до начала русско-японской Макаров составил записку с предупреждением о неизбежности начала японцами войны в ближайшие дни, равно как и о недостатках русской противоторпедной обороны, которые позже и были использованы японцами при атаке на рейд Порт-Артура 26 января 1904 г. «Война есть экзамен, назначение которого от нас не зависит. Приготовление к войне есть приготовление к экзамену, и если этого приготовления мы никогда практиковать не будем, то не нужно удивляться, если экзамен выдержан плохо».
Начавшаяся русско-японская война подтвердила полную правоту адмирала. Тогда его и направили в Порт-Артур спасать положение. Но было уже поздно.
Война с Японией всколыхнула всю Россию. Неудачи российского флота на Тихом океане вызвали всеобщее мнение, что руководить воюющим флотом должен боевой флотоводец. И единственным человеком, который реально мог изменить положение в войне на море, был Макаров.
Пророчество адмирала сбылось. После начала русско-японской войны (1904–1905 гг.) он был 1 (14) февраля 1904 г. назначен командующим Тихоокеанской эскадрой, которая начала активные и успешные боевые действия. 24 февраля (8 марта) новый командующий прибыл в Порт-Артур. 27 февраля он переносит свой флаг на эскадренный броненосец «Петропавловск».
В первые же дни по приезде в Порт-Артур Макаров стал выходить с эскадрой в море на поиски противника, приучая всех к мысли, что рано или поздно надо переходить в наступление. 4 марта он выходит на миноносце «Боевой» на внешний рейд Порт-Артура; 13 марта порт-артурская эскадра в составе 22 кораблей выходит в море под флагом вице-адмирала С. О. Макарова; 14 марта вновь эскадра выходит в море для маневрирования; 29 марта – новый выход эскадры в море под флагом командующего.
«Чтобы сделаться хорошими моряками, надо подолгу оставаться в море и этим приобрести привычку быть между небом и водой и считать море своим домом». «В плавании не следует пропускать ни одного случая попрактиковаться в упражнениях, полезных в боевом отношении», – говаривал Макаров в мирное время. Тем более актуальными были его требования в боевой обстановке.
Главную роль в бою адмирал Макаров отводил людям, превыше всего ставя человеческий фактор: «Успех возможен, если каждый задастся целью действовать не только по приказанию начальства, но из сознания, что как бы ни была скромна его роль, добросовестное ее выполнение может в иных случаях иметь решающее значение».
«Мое правило: если вы встретите слабейшее судно – нападайте; если равное себе – нападайте; и если сильнее себя – тоже нападайте»
С. О. Макаров
«Если командиру внушить, что один удачный выстрел его орудия, разрушивший боевую рубку неприятельского броненосца, может решить участь боя, эта мысль наполнит все его существование, он даже ночью, даже во сне будет думать о том, как возьмет на прицел неприятеля. А в этом вся суть дела»
С. О. Макаров
«Уметь желать – это почти достигнуть желаемого, – считал Макаров. – Каждый командир, каждый специальный офицер, каждый заведующий должен ревниво выискивать свои недочеты и все силы отдавать на их пополнение. Пусть не боятся ошибок и увлечений. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. От работы, даже направленной по ложному пути, от такой даже, которую пришлось бросить, остается опыт. От безделья, хотя бы оно было вызвано самыми справедливыми сомнениями в целесообразности дела, ничего не остается… Размышлять некогда. Выворачивайте смело весь свой запас знаний, опытности, предприимчивости, старайтесь сделать все, что можете. Невозможное останется невозможным, но все возможное должно быть сделано. Главное, чтобы все… прониклись сознанием всей огромности возложенной на нас задачи, сознали всю тяжесть ответственности, которую самый маленький чин несет перед своей родиной!»
Однажды не вернулся из разведки миноносец «Стерегущий». Он был подбит в неравном бою, и японцы пытались взять корабль на буксир. Макаров тотчас же перенес свой флаг на легкий крейсер «Новик» и в сопровождении крейсера «Боян» устремился к месту боя на выручку. И хотя спасти «Стерегущий» не удалось (двое оставшихся в живых матросов открыли кингстоны и затопили корабль); вернувшийся в гавань «Новик» встретило громовое ура – салют личному бесстрашию командующего. Отныне сердце эскадры навсегда принадлежало Макарову – с ним возродилась вера в победу. Наступать и только наступать – вот стратегия нового командующего: «Не гонитесь за неприятелем, который далеко, если перед вами близко находится другой. Забудьте всякую мысль о помощи своим судам: лучшая помощь своим – есть нападение на чужих».
Инициатива в морской войне явно перешла к Макарову. Но 31 марта 1904 г. в 7 часов флагман порт-артурской эскадры броненосец «Петропавловск», где находился С. О. Макаров, а затем и другие броненосцы вышли на внешний рейд Порт-Артура. В 9 часов 39 минут утра «Петропавловск» подорвался на минах и затонул. Из 730 человек, находившихся на борту, удалось спасти только 80. Среди спасенных был Великий князь Кирилл Владимирович, но не оказалось ни друга Макарова знаменитого баталиста В. В. Верещагина, ни самого адмирала. Потеря была невосполнима и остро отразилась на ходе войны на море.
Особенно скорбели моряки и жители Порт-Артура. Многие плакали. «Что броненосец? – говорил пожилой боцман. Хоть бы два, да еще пара крейсеров в придачу. Не то! Голова пропала – вот что!»

Гибель броненосца «Петропавловск»
В 2005 г. китайскими водолазами, обследовавшими погибшие корабли в гавани Порт-Артура, были найдены останки 6 тел, на одном из которых были частично сохраненные адмиральские знаки различия. Останки были переданы китайским властям, которые захоронили их в братской могиле, но, так как экспертиза по идентификации останков не проводилась, имя адмирала остается неизвестным.
«Всякий военный человек должен проникнуться сознанием постоянной готовности пожертвовать жизнью, – говорил Макаров. – В первый раз, пожалуй, побледнеет и почувствует, что кровь стынет в его жилах, но во второй раз эта мысль не произведет уже того впечатления, и, наконец, он свыкнется с этой мыслью до такой степени, что она представится ему не только знакомой, но и даже притягательной».
«Желающий побеждать должен решить, что он или победит, или погибнет, и только при этих условиях его можно признать достойным победы». Всей своею жизнью, до конца отданной Отечеству, Макаров получил право сказать эти слова…
Памятники С. О. Макарову установлены в Кронштадте, Николаеве, Владивостоке, Смоленске, одном из сел Чукотского автономного округа; его имя было присвоено г. Макаров в Сахалинской области; подводной котловине Макарова (бассейн Макарова) в Северном Ледовитом океане; Высшему мореходному арктическому училищу в Ленинграде, Государственному университету морского и речного флота в С.-Петербурге; Национальному университету кораблестроения в Николаеве (Украина); Тихоокеанскому военно-морскому институту во Владивостоке, улицам различных городов в России и на Украине.
Флотоводец и ученый, оставивший заметный след в судостроении, артиллерии, морской тактике и океанологии, С. О. Макаров вызывает у историков едва ли не наибольший интерес среди выдающихся адмиралов российского флота. Первые очерки биографии адмирала появились вскоре после его гибели, а в 1911–1913 гг. увидела свет хорошо документированная работа Ф. Ф. Врангеля, послужившая основанием для позднейших монографий и научно-популярных изданий.
Труды С. О. Макарова были столь разносторонними, он касался столь многих вопросов стратегии, тактики и повседневной деятельности флота, что нескольким поколениям исследователей пока так и не удалось целиком изучить его огромное наследие.
Но С. О. Макаров был не только блестящим, выдающимся ученым-теоретиком – он всю свою жизнь был бесстрашным, доблестным и умелым воином, защитником интересов России, глубокое уважение к которому испытывали даже враги.
В 1904 г. японский поэт Исикава Такубоку написал такие строки:
Утихни, ураган! Прибой, не грохочи,
Кидаясь в бешенстве на берег дикий.
Вы, демоны, ревущие в ночи,
Хотя на миг прервите ваши крики.
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров.
Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит.
Исикава Такубоку. Памяти адмирала Макарова
Курков К. И.,
д. и.н., профессор МГГУ
им. М. А. Шолохова
Армия и войны в правление Николая I
После наполеоновских войн русская армия была самой многочисленной и сильнейшей в Европе. Солдаты, офицеры и генералы умели побеждать противника в любых условиях. Однако наступило мирное время, и власти стали нужны не инициативные и самостоятельные воины, а послушные «солдатики». Череда войн закончилась, наступило время парадов и маневров.
Особенно ярко этот новый подход к строительству вооруженных сил проявился в правление императора Николая I (1825–1855 гг.). Его вступление на престол было ознаменовано восстанием декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., когда бунтующим офицерам, требовавшим отменить крепостное право и ввести в стране конституцию, удалось взбунтовать солдат нескольких гвардейских полков. Покончив с бунтовщиками, император решил ввести в стране порядок, основанный на строгом контроле и подчинении, и армия должна была играть главную роль в государственном механизме. Более того, она сама стала важной частью машины российской государственности.
В 1831 г. был издан «Рекрутский устав», ставший основой комплектования русской армии. Все податные сословия Российской империи (каждое отдельно) делились в губерниях и уездах на тысячные участки, на которые определялось число рекрутов. Сроки для обычных наборов устанавливались с 1 ноября по 31 декабря. На службу принимали людей в возрасте от 20 до 35 лет, а общий срок службы составлял 25 лет. Отдельно в уставе оговаривались болезни, препятствующие приему, и категории лиц, не подлежащих рекрутской повинности. К таким принадлежали жители Архангельской губернии, а также городов и селений в стоверстной полосе на границах с Австрией и Пруссией. Были сословия, как например, купцы всех трех гильдий, которые освобождались от повинности «натурой» и выплачивали вместо рекрута 1000 рублей. До 1849 года принятому рекруту сразу выбривали лоб, а не «удостоенному» принятия – затылок. Вот как выглядел сложный процесс превращения крестьянина или городского жителя в новобранца.
Вначале рекрута раздевали догола и военная приемная комиссия осматривала его на предмет отсутствия болезней и физических недостатков, препятствующих несению военной службы. Удовлетворяющему всем условиям рекруту председатель комиссии говорил: «Лоб!» Это слово затем повторял унтер-офицер, передающий новобранца нижним чинам, которые вели того в комнату для выбривания лба и бороды. В той же комнате чиновники записывали имя и приметы «счастливца». С этой минуты ответственность за рекрута переходила от отдатчика к приемщику, под командой которого состояла стража для надзора за новобранцами.
В городах вплоть до отправки партии рекруты состояли при батальонах Внутренней стражи. Там они принимали присягу и делились на артели по 10 человек. Чтобы предотвратить побеги внутри артели, действовала круговая порука. Первое время, пока не набиралось нужного количества новобранцев, рекрута учили строевым приемам без оружия и объясняли азы военно-уголовного законодательства. Также каждый принятый на службу получал комплект обмундирования, считавшийся собственностью рекрута и не отбиравшийся при прибытии в часть. С 1827 г. в него входили: серая шинель с серым воротником и погонами, черный галстук, темно-зеленые брюки, как у солдат, но без выпушки, фуражная шапка с темно-зеленым околышем, ранец из серого крестьянского сукна, две белые рубахи, полушубок и темно-зеленые рукавицы. Шитье обмундирования на три утвержденных размера проводилось при батальонах Внутренней стражи, после чего вещи рассылались в губернские и уездные города.
Когда количество рекрутов на сборном пункте достигало установленной величины, до 300 человек для малого сбора и до 500 – для большого, из них формировали «партию» для отправки к месту службы. Командовал «партией» офицер, а на 12 рекрутов выделялось по одному конвоиру. Три солдата отдельно охраняли состоящий при офицере сундук с деньгами и бумагами. На ночлегах и дневках рекрутов кормили местные жители, которым платил офицер. Офицеру также было дано право наказывать провинившихся. Максимальным наказанием было 100 ударов розгами. Совершивших серьезные преступления сдавали властям губернских городов.
Таким образом, основой комплектования русской армии к середине XIX века по-прежнему оставалась рекрутская повинность. Однако не следует думать, что в вооруженных силах Российской империи все оставалось неизменным.
В 1816 г. и 1831 г. были изданы новые «строевые уставы» русской армии, которые учитывали опыт наполеоновских войн и вводили новые принципы обучения солдат. Так, в каждом полку появились особые солдаты – застрельщики (позднее их стали называть стрелками), которые должны были действовать в рассыпном строю перед фронтом батальона или полка.
Боевой порядок рассыпного строя состоял из цепи с резервами. При атаке стрелки должны были частым огнем прикрывать движение основных сил, а перед непосредственным соприкосновением с противником они отступали за линию фронта.
Застрельщиков специально обучали искусству стрельбы, что было делом долгим и нелегким. Очень важно было заметить расстояние, на котором пуля попадала в место прицеливания (дистанция прямого выстрела). Стрелка учили верно оценивать расстояние до предмета: на учениях он называл количество шагов до выбранной цели, а потом сам отсчитывал шаги. Подобное упражнение начиналось с 50 шагов и продолжалось до 500. Мишень для стрельбы выставляли на разных расстояниях, на возвышенностях и в глубинах. Научив поражать цель с места, офицер заставлял застрельщиков стрелять, останавливаясь после тихого, среднего и быстрого шага. Потом мишень подвешивали так, чтобы она все время находилась в движении. Такая подготовка привела к тому, что к 1831 г. в каждом батальоне пехотного полка появились специальные стрелковые роты.
Вместе с организацией армии изменялись форма и вооружение. В 1827 г. Николай I ввел ставшие сейчас уже привычные звезды на офицерских эполетах, в 1843 г. нижние чины получили в качестве знаков различия на погонах продольные полосы различной ширины (лычки). С 1854 г. офицеры стали носить на шинели золотые погоны, сохранившиеся в армии до 1917 года. 9 (21) мая 1844 г. вместо традиционного кивера войскам была присвоена каска из черной лакированной кожи с двумя кожаными козырьками спереди и сзади. К верху каски крепилась трубка в виде пылающей гренады, которая прикрывала отверстия для проветривания каски.
При Николае I солдат стали вооружать ружьями нового образца. С 1844 г. в армии появилось капсюльное ружье, в отличие от старого кремневого способное стрелять при любой погоде. Вместо традиционного замка с полкой и кремнем на новом образце присутствовал ударный капсюльный замок. Под курком крепился специальный похожий на крышку от тюбика капсюль, в котором находилась зажигательная смесь. Однако ружье заряжалось по-старому: с дула.
Вот примерно в таком виде русская армия столкнулась на полях сражений в царствование Николая I, как с традиционным противником – турками, так с новыми европейскими армиями – французской и английской.
Русско-турецкая война 1828–1829 гг
В царствование императора Николая I одним из основных направлений российской дипломатии был восточный вопрос – взаимоотношения с Османской империей и решение международных проблем, связанных со все большим ее ослаблением. В рамках этого направления большое значение играли проблемы, связанные с черноморскими проливами Босфором и Дарданеллами и расширением влияния Российской империи среди славянских народов Балканского полуострова. Россия стремилась добиться свободного прохода торговых и, возможно, боевых кораблей через проливы, так как это были единственные ворота для экспорта причерноморского хлеба, в котором нуждались европейские страны. Кроме того, со времен Екатерины Великой Россия считалась основной покровительницей православных славянских народов, угнетаемых властями Османской империей.
В 1821 г. в Греции вспыхнуло восстание против турецкого ига. В течение нескольких лет повстанцы с переменным успехом сражались с войсками турецкого султана. Наконец, в 1827 г. Национальное собрание греков приняло греческую конституцию и заявило о независимости страны от турецкого султана. Собравшиеся в Лондоне представители Британии, Франции и России обратились к Стамбулу с нотой о признании нового государства. Однако султан отказался и приказал объединенному турецко-тунисско-египетскому флоту высадить десант на греческом побережье. Прибывшие к месту высадке мусульмане устроили жестокую резню греческого населения. В ответ европейские страны ввели в Средиземное море объединенную англо-русско-французскую эскадру, которая 20 октября (1 ноября) 1827 г. в Наваринской бухте разгромила султанский флот. В бою отличился флагман русских морских сил линейный корабль «Азов» под командой капитана 1 ранга М. П. Лазарева. Во время жестокой артиллерийской дуэли «Азов» потопил флагманский турецкий корабль и нанес множество повреждений другим судам. Под командой лейтенанта П. С. Нахимова и мичмана В. А. Корнилова матросы-азовцы успевали тушить пожары и вести прицельный огонь по врагу.
За этот бой «Азову» был присвоен кормовой Георгиевский флаг. Впервые в истории русского флота корабль стал гвардейским. Его командир был произведен в контр-адмиралы. Лейтенант Нахимов, получивший после сражения чин капитан-лейтенанта, был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
Однако английские и французские дипломаты были обеспокоены тем, что эта победа сможет укрепить положение России в районе черноморских проливов. Они дали понять турецкому владыке, что их страны останутся нейтральными в случае возможного русско-турецкого конфликта. Получив эти сведения, султан Махмуд II объявил себя защитником ислама и начал укреплять береговую линию черноморских крепостей. Видя столь активные приготовления, российский император объявил Турции войну.
На театрах военных действий Россия располагала 95-тысячной Дунайской армией под командованием генерала графа П. X. Витгенштейна и 25-тысячным Отдельным кавказским корпусом под командованием генерала И. Ф. Паскевича. Против этих сил Османская империя выставила армию общей численностью до 200 тыс. чел. (150 тыс. на Дунае и 50 тыс. на Кавказе). Перед Дунайской армией была поставлена задача занять Молдавию, Валахию и Добруджу, а также овладеть крепостями Шумлой и Варной.
7 мая 1828 г. Дунайская армия Витгенштейна перешла реку Прут и начала боевые действия. Под его руководством были взяты крепости Исакчи, Мачин и Браилов. Одновременно была проведена морская экспедиция к кавказскому побережью в районе Анапы. Но вскоре продвижение Витгенштейна на дунайском театре резко замедлилось. Русские войска не смогли взять крепости Варну и Шумлу и приступили к долгой осаде. Вскоре выяснилось, что осада Варны по слабости у ней наших сил не обещала успеха; в войсках, стоявших под Шумлой, свирепствовали болезни. Лошади массой падали от бескормицы; между тем дерзость турецких партизан все увеличивалась.
В это время неприятель, сосредоточив более 25 тысяч у Виддина и Калафата, усилил гарнизоны крепостей Рахов и Никополь. Таким образом, турки везде имели перевес в силах, но, к счастью, не воспользовались этим. Между тем в половине августа к Нижнему Дунаю начал подходить гвардейский корпус, а за ним следовал 2-й пехотный. Последнему было приказано сменить у Силистрии осадный отряд, который затем притянут под Шумлу; гвардия же направлена к Варне. Для выручки этой крепости прибыл от реки Камчик 30-тыс. турецкий корпус Омера-Врионе. Последовало несколько безрезультатных атак с той и другой стороны, а когда 29 сентября Варна сдалась, то Омер стал поспешно отступать, преследуемый отрядом принца Евгения Вюртембергского, и направился к Айдосу, куда еще ранее отошли войска визиря.
Между тем граф Витгенштейн продолжал стоять под Шумлой; войск у него за выделением подкреплений к Варне и в другие отряды оставалось всего около 15 тыс.; но в 20-х числах сентября к нему подошел 6-й корпус. Силистрия продолжала держаться, так как 2-й корпус, не имея осадной артиллерии, не мог приступать к решительным действиям.
9 февраля 1829 г. на имя Витгенштейна был дан Высочайший рескрипт, в котором царь благодарил фельдмаршала за 40-летнюю службу и принимал его отставку.
В новой кампании Дунайскую армию возглавил генерал от инфантерии И. И. Дибич. Его назначение коренным образом изменило обстановку на театре военных действий.
19 июня 1829 г. сдалась крепость Силистрия, а Дибич стал готовить армию к походу на Балканы, который начался 2 июля 1829 г. Причем на долю графа Дибича выпала участь бороться не только с турками, но и с не менее опасным противником – чумой, сильно ослабившей его армию.
Известный прусский фельдмаршал Мольтке отметил: «Оставляя в стороне материальное ослабление вооруженных сил, должно признать в главнокомандующем необыкновенную силу воли, чтобы среди борьбы с такими ужасающими и распространенными бедствиями не терять из вида великую цель, которая могла быть достигнута, придерживаясь неизменно решительного и быстрого образа действий. По нашему (т. е. Мольтке) мнению, история может произнести в пользу действий графа Дибича в турецкую кампанию нижеследующий приговор: располагая слабыми силами, он предпринимал только то, что представлялось безусловно необходимым для достижения цели войны. Он приступил к осаде крепости и одержал в открытом поле победу, которая открыла ему доступ в сердце неприятельской монархии. Он очутился здесь с одним призраком армии, но ему предшествовала слава непобедимости. Россия обязана счастливым исходом войны смелому и вместе с тем осторожному образу действий графа Дибича».
В шесть переходов, попутно одержав важную победу при Сливне, русская армия прошла 120 верст и уже 7 августа оказалась под стенами Адрианополя, не видевшего русских дружин со времен киевского князя Святослава. На следующий день Адрианополь сдался.
В этом же году неувядаемой славой покрыл свои знамена Черноморский флот. 14 (26) мая 1829 г., возвращаясь из разведывательного плавания, 18-пушечный бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского был внезапно атакован двумя турецкими линейными кораблями. Один из линкоров был вооружен 100 пушками, другой – 74. Казарский собрал офицеров «Меркурия» на совет, единодушно принявший единственное решение – драться. В течение трех часов, умело маневрируя, «Меркурий» вел артиллерийский бой с турецкими кораблями. В дыму и пламени Казарский поставил свой бриг между турецкими кораблями. Будучи более легким по конструкции, русский кораблик на полно ходу прошел между турками, которые, ни чего не видя из-за дыма, стали стрелять друг в друга, думая, что ведут огонь по «Меркурию».
Героический подвиг брига «Меркурий» был высоко оценен. Ему было присвоено Георгиевское знамя. Позже в Севастополе был воздвигнут памятник. На гранитном постаменте стоит небольшой бронзовый корабль с надписью «Казарскому. Потомству в пример».
2 (14) сентября 1829 г. в Адрианополе между Россией и Турцией был подписан мирный договор. Российская империя включала в свой состав восточное побережье Черного моря с городами Анапа и Сухум, а также дельту реки Дунай. Княжествам Молдавии и Валахии предоставлялась автономия, и на время проведения реформ в них оставались русские войска. Османская империя согласилась также с условиями Лондонского договора 1827 года о предоставлении автономии Греции. Кроме того, она обязывалась в течение 18 месяцев уплатить России контрибуцию в размере 1,5 млн голландских червонцев.